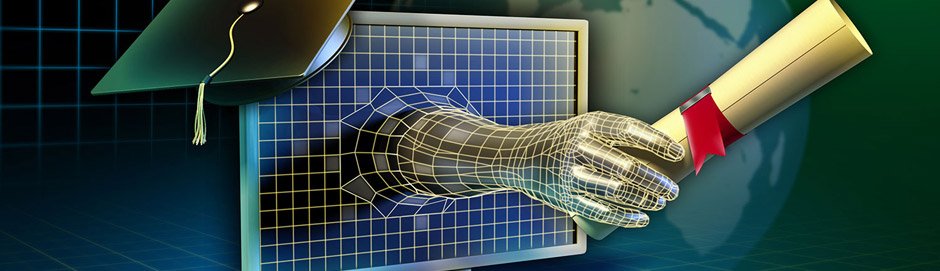Пошлый мир и его трансформация в художественной системе Гоголя
Н.В. Гоголь и В.Г. Белинский, писатель и критик, почти одновременно заняли на литературном Олимпе России свои вершины. Причем именно статья «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) выдвинула Белинского в первый ряд русских критиков и теоретиков литературы того времени. Здесь он обосновывает ведущий критерий для оценки художественных достоинств произведения:
«В том-то и состоит задача реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой жизни» (1. 231).
Если в «Литературных мечтаниях» Гоголь был им только замечен, хотя и назван «необыкновенным талантом» (1, 57), то в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинский видит в Гоголе главу нового направления.
Уже в первых своих критических выступлениях Белинский «плодам досужей посредственности» противопоставлял «плоды свободного вдохновения», бездарности – талант. И развиваемое им в то время учение о таланте и гении призвано было раскрыть авторам глаза на то, кем и как должна создаваться подлинная литература.
«Гений, - пишет Белинский, - создает оригинально, самобытно, т.е. воспроизводит явления жизни в образах новых, никому не доступных и никем не подозреваемых; талант читает его произведения, упояется ими, проникается ими, живет в них <…> его творения более или менее делаются отголоском творения гения, несут на себе явно следы его влияния, хотя и не лишено собственных красот… Гений – это новая планета, которая увлекает силой своего тяготения таланты-спутники» (1, 105-106), «начинает собою новую эпоху…» (3,503), дает литературе новые направления.
Среди современных ему русских писателей Белинский находит и просто таланты, и таланты замечательные, и таланты истинные. Но это все-таки таланты, они творчески обрабатывают уже до них открытое, в той или иной мере известное. И только в Гоголе он видит того автора, новые произведения «игровой и оригинальной фантазии» которого говорят, что они «принадлежат к числу самых необыкновенных явлений в нашей литературе…» (1, 174). Сущность этого «необыкновенного явления» Белинский и раскрывает в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя».
Размышляя о развитии русской прозы, Белинский приходит к выводу о том, что «если есть идеи времени, то есть и формы времени» (1, 261). И такой формой, благодаря Гоголю, стала повесть, потому что «ее форма может вместить в себя все, что хотите – и легкий очерк и колкую саркастическую насмешку над человеком и обществом, и глубокое таинство души, и жестокую игру страстей» (1, 271). Гоголь поставлен Белинским на первое место в русской прозе именно потому, что он поднял такие пласты жизни и так глубоко художественно взглянул на нее, как никто до него. И если характер новейших произведений вообще «состоит в бесконечной откровенности (1, 261), но именно Гоголь создал в этом роде произведения большой художественной ценности, если руководствоваться такими критериями художественности, как простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность.
До появления новых повестей Гоголя, полагал критик, никто даже не подозревал, что существует «поэзия жизни действительной, жизни коротко знакомой нам», что «изображение повседневных картин жизни, жизни обыкновенной прозаической может быть подлинно поэтическим» (1, 289).
Можем заметить, что для обозначения предмета изображения, избранного Гоголем в своих произведениях, критик находит двойственное определение – «объективная жизнь», «повседневная жизнь» и тут же «ничтожные подробности», «безобразия», то есть все то, что сливается в слове «пошлое».
«Я нимало не удивляюсь, подобно некоторым, что г. Гоголь мастер делать все из ничего, что он умеет заинтересовать читателя пустыми, ничтожными подробностями, ибо не вижу тут ровно никакого умения: умение предполагает расчет и работу, а где расчет и работа, там нет творчества, там все ложно и неверно при самой тщательной и верной копировке действительности. И чем обыкновеннее, чем пошлее, так сказать содержание повести, слишком заинтересовывающей внимание читателя, тем больший талант со стороны автора обнаруживает она <...> В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностью и юродством этих живых пасквилей на человечество – это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на этом свете, господа!» – вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством; вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия…» (1, 289-290).
Основа высшей нравственности, по Белинскому, в том, что художник рисует вещи так, как они есть, и эту емкую формулу «где жизнь, там и поэзия» он повторит, вновь говоря о Гоголе, уже в цикле статей, посвященных Пушкину:
«Тот еще не художник, которого поэзия трепещет и отвращается, прозы жизни, кого могут вдохновить только высокие предметы. Для истинного художники – где жизнь, там и поэзия» (7, 337).
В. Белинский не написал о Гоголе таких обстоятельных статей, как о Лермонтове, хотя с выходом «Мертвых душ» в печати такие идеи были, они зафиксированы в переписке критика, но замыслы сначала отодвинулись во времени из-за увлеченной работы над циклом о Пушкине, затем – смертью. И все же обращение к имени писателя, к его творчеству каждый раз позволяет критику говорить об ответственности художника перед действительностью. Статья «Русская литература в 1843 год» – этому подтверждение.
Критик убежден, что искусство должно быть не «забавою праздною безделия, а сознанием общества», что оно является «верным зеркалом общества и не только верным отголоском общественного мнения, но и его ревизором и контролером» (8, 87). И поэтому советует писателям: «… берите содержание для ваших картин в окружающей вас действительности и не украшайте, не перестраивайте ее, а изображайте такою, какова она есть на самом деле, да смотрите на нее глазами живой современности…» (8, 89).
Белинскому, как любому критику, важно иметь своеобразный вершинный образец, эталон художественности, с которым соразмерялось бы все остальное. Чаще всего таким образцом для критика в 30-е годы был Н.В. Гоголь, затем, в начале 40-х, М.Ю. Лермонтов, в середине 40-х на первое место вышел А.С. Пушкин, но в последние годы Белинский вернулся к Гоголю, видя в его творчестве самые ценные свойства.
Прежде всего, документально это подтверждается письмом к Гоголю от 20 апреля 1842 года, в котором критик признает влияние писателя на собственную судьбу и творческую деятельность, осознанное им после гибели Лермонтова.
«Вы у нас теперь один, и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связана с Вашей судьбою; не будь Вас – и прощай для меня настоящее «будущее в художественной жизни моего Отечества» (12,109).
Если знаменитое письмо к Гоголю от 15 июля 1847 года по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» носит в целом характер идеологических возражений, по сути является разрывом творческого сотрудничества и дружбы, то, следует заметить, оценка творчества писателя в последних работах Белинского остается столь же высокой, даже достигает большей философской обобщенности. Пример этому – статья 1847 года «Ответ «Москвитянину», в которой, на наш взгляд, как раз намечаются пути дальнейшего, внеидеологического изучения творческого наследия Гоголя, продолжения в литературной критике как рубежа веков, так и в критике ХХ века.
«Гоголь создал типы – Ивана Федоровича Шпоньки, Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, Хлестакова, Городничего, Бобчинского и Добчинского, Земляники, Шлекина, Тяпкина-Ляпкина, Чичикова, Манилова, Коробочки, Плюшкина, Ноздрева и многие другие. В них он является великим живописцем пошлости, который видит насквозь свой предмет во всей его глубине и широте и схватывает его во всей полноте и целости его действительности» (10, 244).
Обобщенность и глубина подхода в анализе впервые позволяет Белинскому сопоставить Гоголя с вершинами мировой художественной литературы, и основанием является, что очень важно для нашей работы, сочетание высокого и низкого, трагического и комического, возвышенного и пошлого в работах авторов мировой литературы и в творчестве Гоголя, это, кроме сопоставления Гоголя с Сервантесом и Шекспиром, позволяет Белинскому зафиксировать состояние читателя, погружающегося в мир русского писателя.
«В драмах Шекспира встречаются с великими личностями и пошлые, но комизм у него всегда на стороне только последних, его Фальстоф смешон, а принц Генрих и потом король Генрих V – вовсе не смешон. У Гоголя Тарас Бульба так же исполнен комизма, как и трагического величия; оба эти противоположные элементы слились в нем неразрывно и целостно в единую, замкнутую в себе, личность; вы и удивляетесь ему, и ужасаетесь, и смеетесь над ним. Из всех известных произведений европейских литератур пример подобного, и то не вполне, слияния серьезного и смешного, трагического и комического, ничтожности и пошлости жизни со всем, что есть в нем великого и прекрасного, представляет только «Дон Кихот» Сервантеса. Если в «Тарасе Бульбе» Гоголь умел в трагическом открыть комическое, то в «Старосветских помещиках» и в «Шинели» он умел уже не в комизме, а в положительной пошлости найти трагическое. Вот где, нам кажется, должно искать существенной особенности таланта Гоголя. Это не один дар выставлять ярко пошлость жизни, а еще более - дар выставлять явления жизни во всей полноте их реальности и их истинности» (10, 244).
Художественное изображение жизни, образное осмысление действительности как основа творческого метода Гоголя не только декларируется Белинским на протяжении всей деятельности критика, но и осознается самим Гоголем.
Свою творческую позицию, свой творческий метод формулирует прежде всего сам автор. Это происходит исподволь, в ткани художественных произведений, и явно – в публицистических работах.
В «Авторской исповеди» (1847) Н.В. Гоголь определял основной принцип своего творчества, утверждал, что он «ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства», потому что у него «только то и выходило хорошо, что взято <…> из действительности, из данных <…> известных»(1). Пытаясь точнее определить свой метод, он сравнивает себя с живописцем, которому для создания большой картины нужны предварительно написанные «этюды с натуры»(2). Именно эта позиция позволила писателю определить главное свойство своего таланта в способности «очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно и в глаза всем» (3).
На наш взгляд, эта формулировка позволила советскому литературоведению на протяжении длительного периода истолковывать многие гоголевские образы прежде всего с социальной позиции (4).
Следует уточнить понятия, использованные в высказываниях Н.В. Гоголя, на которые опирались наши ученые. В эпоху писателя под словами «пошлость», «пошлый человек» прежде всего подразумевались обыденность, рутинность окружающей действительности, заурядность обычного человека, и только с постановки проблемы пошлости в искусстве эти понятия наполнились новым содержанием – бездуховность, грубая телесность существования мира и обывателя в нем.
Подтверждая подобное толкование, сошлемся не только на словари, но и на самого автора. В известном вступлении к седьмой главе первого тома «Мертвых душ» дается сопоставление двух типов писателей: одного, который не изменил ни разу возвышенного строя своей лиры, и другого (то есть самого Гоголя), который «дерзнул вызвать наружу» «всю потрясающую тину мелочей, окутавших нашу жизнь» (5).
В отечественном литературоведении существовал взгляд на творчество и героев Н.В. Гоголя, основанный на общечеловеческих ценностях, но в 20-60-е годы ХХ века он оставался за пределами активного использования при анализе произведений, хотя уже в начале века были заложены основы для дальнейших (начатых Ю.В. Манном) исследований. Так, Д.С. Мережковский в работе «Гоголь» пишет: «Все герои Гоголя – в той или иной степени мечтатели, хотя их мечты невысокого пошиба» (6). Критик говорит не о пошлости, а о поэтичности героев Гоголя, их мечтательности, которая, независимо от высоты дерзаний, вырывает человека из обыденности. А И.Ф. Анненский охарактеризовал центральный мотив гоголевских повестей как мотив испытания на прочность. Ученый-поэт Анненский совершает свою попытку дефинировать состояние общества, определенное писателем как «пошлость всего вместе».
«Пошлость – это мелочность. У пошлости одна мысль о себе, потому что она глупа и узка и ничего, кроме себя, не видит и не понимает. Пошлость себялюбива и самолюбива во всех формах; у нее бывает и гонор, и фанаберия, и чванство, но нет ни гордости, ни смелости и вообще ничего благородного. У пошлости нет доброты, нет идеальных стремлений, нет искусства, нет бога. Пошлость бесформенна, бесцветна, неуловима. Это мутный жизненный осадок во всякой среде, почти во всяком человеке. Поэт чувствует всю ужасную тягость от безвыходной пошлости в окружающем и в самом себе. И вот он объективирует эту пошлость, придает плоть и кровь своей мысли и сердечной боли» (7).
А в статье «Художественный идеализм Гоголя» И.Анненский представляет образ пошлого человека в творчестве Н.В. Гоголя. Это домохозяин Чарткова («Портрет»), причем, характеризуя его, критик в своем обобщении приближается к проблеме универсальности гоголевского героя, а также впервые в русском литературоведении говорит о трансформации образа на уровне сопоставления обширного художественного материала: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести», «Коляска», «Мертвые души».
«Я не знаю у Гоголя более чистой, более беспримерной характеристики того пошлого человека, общего, безыменного, тусклого человека, который гнездится в каждом из нас и от которого Гоголь остерегал читателей, рисуя черствую старость Плюшкина. Существование без умственных интересов, искусства, призвязанностей, будущего – точно, страшнее всех Виев сказки, а хозяин Чарткова есть самый страшный из его представителей. Мы видим в «Портрете» пошлость, уже не робкую и наивно-тупую, как у Шпоньки, не бессмысленно-торжествующую, как у поручика Пирогова, не амбициозно-щепетильную, как у майора Ковалева, не ухарски-наглую, как у Кочкарева, а безыменную, почти мистическую, пошлость – пошлости» (8).
Проблема, увиденная и обозначенная Д. Мережковским и И. Анненским (и поддержанная в работах А. Белого, В. Брюсова, А.Блока)(9), получает свое дальнейшее изучение и истолкование в работах исследователей, в качестве главной выделяющих нравственную, духовную проблематику. Это прежде всего Ю.В. Манн, Г.М. Фридлендер, А.В. Чичерин, В.М. Маркович, В.А. Зарецкий (10).
Г.М. Фридлендер подтверждает важность для Гоголя-писателя и мыслителя темы ценности личности человека присутствием в произведениях Гоголя темы нормального, здорового духовного развития человека, признания им высокого значения человеческой личности и в историческом прошлом, и в условиях современного мира – мира господства пошлости и меркантильности. Мир нуждается в пробуждении и «воскресении» – так трактует исследователь глубинную связь различных произведений Н.В. Гоголя, разных этапов его творчества, духовную эволюцию от «Ганса Кюхельгартена» к украинским и петербургским повестям и далее – к «Ревизору», «Женитьбе», «Шинели» и «Мертвым душам», а от них – к «Выбранным местам из переписки с друзьями» и «Авторской исповеди» (11).
Обращение к общечеловеческому, философскому содержанию творчества Н.В. Гоголя позволяет Ю.В. Манну говорить об универсальности художественного мира писателя.
Именно Ю.В. Манн, характеризуя некоторые общие моменты поэтики Гоголя, замечает: «Гоголевское творчество – это ряд острейших парадоксов, совмещений традиционно несовместимого и взаимоисключающего. И понять «секреты» Гоголя – это, прежде всего, объяснить парадоксы со стороны поэтики, со стороны внутренней организации его художественного мира»(12) , высказывает важное в плане проблемы нашего исследования суждение: «У Гоголя нет героев, которые бы поступали «не как все», руководствовались бы иными правилами» (13). Иными словами, исследователь отмечает обыденность («пошлость» в представлении Гоголя) героев и мира и приемы ее изображения.
«Перестройка гоголевской природы комического – это прежде всего снятие «ограничительных знаков», унификация персонажей в смысле их подчиненности единым нравственным нормам, а также в смысле верности себе и недопущения сторонней («естественной», «нормальной», осуждающей) точки зрения в своем собственном кругозоре, что все вместе вело к полному высвобождению стихии юмора» (14).
Ю.В. Манн пишет и об универсальности произведения как художественного целого. Традиционно комическое изображение строилось на ощутимом разграничении художественного мира и мира окружающей действительности. «Мир словно поделен на две сферы – видимую, худшую, и находящуюся в тени, лучшую… У Гоголя такого разграничения словно не бывало. Перед нами один мир, не делимый на видимый и существующий за пределами художественного кругозора» (15).
Опираясь на выдержанность предмета изображения, однородность описываемых событий в произведениях Н.В. Гоголя, Ю.В. Манн указывает на определенное превышение чувства меры, как на способ, «стимулирующий» расширение художественного мира, сознательно применяемый автором. Нужно отметить, что Гоголь в одном из писем по поводу «Мертвых душ» сам указывает на свой сознательный выбор творческого метода:
«Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними со всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одно утешительного явления, что негде даже придохнуть или перевести дух бедному читателю и что, по прочтении всей книги, кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на божий свет» (16).
Углубляясь в художественный мир гоголевского произведения, невольно ждешь, что скоро декорации сменятся. Современников Гоголя на это настраивало не только психологически естественное ожидание перемен к лучшему, но и прочная литературная традиция, согласно которой пошлое и порочное непременно оттенялось значительным и добродетельным. Нарушение чувства меры и традиции используется Гоголем и как фактор воздействия на читателя, его воспитания.
«В гоголевской картине мира накопление количества «пошлости» - это уже значимый фактор, вызывающий в читательской реакции… переход. Переход от веселого, легкого, беззаботного смеха – к грусти, печали, тоске. Это как бы горизонтальное проявление того закона, который в сопряжении имен и фактов различных «рядов» действовал вертикально» (17).
В.М. Маркович, продолжая изучение художественного мира Н.В. Гоголя, отмечает, как и Ю.В. Манн, многоплановость изображения героев:
«Вновь и вновь открывая в глубине пошлого существования заурядных «людишек» духовные начала – мечту, любовь, поэтические порывы, незаметные поверхностному взгляду драматизм и героизм, - Гоголь в то же время не перестает воспринимать пошлость как нечто презренное, смехотворное, низменное» (18).
Важным моментом научных размышлений исследователя становится особое внимание к восприятию читателем гоголевских образов, моменты которого зафиксированы Ф.М. Достоевским в повести «Бедные люди», а также содержатся в воспоминаниях многих критиков и мемуаристов.
Особенность чтения художественного текста заключается в той или иной степени отождествления или сопоставления «субъекта», воспринимающего текст, с изображаемыми героями. И чтение гоголевских произведений дает то ощущение «проникающей» силы гоголевского слова и «катастрофичности общения» (С.Г. Бочаров), которое заставляет задуматься человека, задуматься о собственной личности, о высоком предназначении. По мнению В.М. Марковича, дать читателю это ощущение, заставить его, часто против воли, задуматься над собственным знанием о себе и было главной художественной целью Н.В. Гоголя.
«Сквозь индивидуальное, социально-типическое и прочие различия проглядывает нечто универсальное, на известной глубине роднящее всех: мы видим людей, заброшенных в мир, - одиноких, неуверенных, лишенных надежной опоры, нуждающихся в сочувствии и заслуживающих его. Но отделить эту простую и всеобщую правду от иных смыслов тоже невозможно. Поэтому невозможно закрепить какое-то устойчиво-определенное отношение к изображаемым людям и событиям. Нельзя ни, безусловно, оправдать их (хотя очень много здесь взывает к оправданию), ни безусловно осудить (хотя очень многое требует именно беспощадного осуждения), нельзя вполне отдаться ни состраданию, ни насмешке, ни возмущению, ни иронии (притом, что нельзя и освободиться от любого из этих чувств) – одно беспрепятственно переходит в другое»(19).
Вероятно, сопоставление социально-типического содержания и звучания в творчестве Н.В. Гоголя, а также внимание к особенностям восприятия гоголевских произведений приводят исследователей к мысли о раскрытии-развитии в художественном мире Гоголя (наряду с традиционно понимаемым развитием образов и идей) образа пошлости окружающего мира. Примечательно, что вначале это становится сопоставлением европейской романтической традиции с ранними повестями Гоголя в работах Ю.В. Манна.(20) Затем в работе Е.А, Смирновой «Поэма Гоголя «Мертвые души» идет исследование трансформации мотивов «Божественной комедии» Данте и переосмысления художественного мира романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» в образном строе произведения Гоголя.
Если Онегин был способен потолковать об Ювенапе, читал Адама Смита и имел талант вызывать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм, то Чичиков «показал в себе опытного светского человека», блеснув познаниями совсем иного рода. «О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою – он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки…»
В перечне его светских достоинств есть и реминисценция из другого произведения: «говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах…» Источник очевиден:
Когда ж об честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.
(Горе от ума, д. 4, явл.4)(21)
Подобную трансформацию пушкинского героя в гоголевского Чичикова, объекта сатирического обличения героем Грибоедова – вновь в Чичикова (смешение двух взглядов), Е.А. Смирнова подчеркивает увиденными соответствиями. Так, пушкинская характеристика высшего света Петербурга, высказанная в первой главе романа, разворачивается в травестирование.
«Свет» оборачивается в его поэме группой малокультурных провинциальных чиновников и их жен, из которых писатель выстраивает комическую кумуляцию по типу фольклорных: «Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор, что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек» и т.д., и т.д. Увенчивается же она образом в духе откровенно балаганного комизма: «Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицмейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!». На что супруга отвечала: «Гм!» и толкнула его ногою».(22)
Е.А. Смирнова отмечает, что тенденции к смысловому и стилистическому снижению подчинены образы не только героев, но и неодушевленных предметов. Таким приемом, введенным Пушкиным в описание жилища Онегина, как антропоморфизм («… забытый в зале кий на бильярде отдыхал…» (гл. 7, XVIII)), пользуется Гоголь, живописуя беспорядок в покоях Тентетникова из второго тома «Мертвых душ» : «Панталоны заходили даже в гостиную».(23)
Выдержки из работы Е. Смирновой наглядно демонстрируют трансформацию образов мира: поэтически высокий мир «Евгения Онегина» и комедийно-сниженный (благодаря прогрессивным взглядам главного героя) «Горя от ума» сознательно переосмысляются у Гоголя в провинциально-пошлый мир русской действительности.
Иное направление получает исследование художественной ткани петербургских повестей в работе В.А. Зарецкого «Петербургские повести Н.В. Гоголя. Художественная система и приговор действительности».
Петербургские повести (1835-1842) не рассматриваются автором как цикл, но внутренние связи между произведениями, в центре которых – образ Петербурга, настолько тесны, что они не воспринимаются иначе как цельность. В качестве объединяющего, связывающего элемента В.А. Зарецкий выделяет и исследует принцип атрибутивности, развитие которого видит в использовании приема атрибутики в описании Невского проспекта, где люди подразумеваются под частями теля или костюма, к «неявной фантастике» (Ю. Манн) в повести «Нос», где атрибут заменяет человека, и в этой нелепой ситуации обыденный («пошлый») мир не изменяется, не становится менее пошлым или более фантастическим.
«В нелепо фантастический мир, годный только для литературной пародии (это последнее обстоятельство читатель постоянно ощущает – о нем Гоголь не устает напоминать), реальные чиновные отношения входят вполне органично; они вполне под стать его вывернутым наизнанку закономерностям», - определяет В.А. Зарецкий состояние мира в повести «Нос».(24)
Необходимо отметить, что, прослеживая применение приема атрибута, ученый на качественно ином (структурном) уровне произведения обнаруживает то, что в начале века на идейно-образном уровне открыл И. Анненский: «Фантастическое и реальное не стоят на гранях мира, а часто близки друг к другу <…> Сближенность фантастического и реального в творчестве основывается на том, что творчество раскрывает вам по преимуществу душевный мир, а в этом мире фантастического, сверхъестественного, в настоящем смысле слова – нет».(25)
Проанализировав основные исследования ученых ХХ века, посвященных творчеству в свете нашей темы, мы можем сделать выводы.
Особое внимание к изображению пошлого мира в творчестве Н.В. Гоголя проявляется уже в начале века, в работах И. Анненского, и Д. Мережковского, затем на долгое время (до 60-х годов ХХ века) объектом изучения становится социально-типическое в произведениях Гоголя, и лишь с конца 60-х – начала 70-х годов в работах Ю.В. Манна и других исследователей обращением к универсальности художественного мира, к изображению идеала и бездуховности дается новый импульс к пониманию Гоголя на качественно ином уровне.
Важным моментом исследований становится идея трансформации пошлого мира и пошлого человека. Первым в ХХ веке об этом заговорил И. Анненский, который заметил изменения на идейно-образном уровне; затем в работах Ю. Манна – сопоставлением в рамках мировой литературной традиции; работа Е. Смирновой представляет примеры трансформации в рамках русской литературной традиции, причем фиксирует снижающую, пародийную тенденцию этого процесса. В работах В.А. Зарецкого и В.М. Марковича исследуется эта проблема трансформации внутри художественного мира Н.В. Гоголя как на структурном (В. Зарецкий), так и на идейно-образном (В. Маркович) уровнях.
Нас будет интересовать проблема трансформации пошлого мира в творчестве Н.В. Гоголя как на материале отдельного произведения («Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), так и при сопоставлении нескольких («Невский проспект» - «Мертвые души»). Мы обратили внимание на различные приемы изображения и осмеяния пошлости на протяжении его творчества, что отражает структура нашей работы, которая помимо Введения, состоит из следующих глав.
Глава I. Изображение пошлого мира в повестях Н.В. Гоголя.
1. РАССКАЗЧИК КАК ЧАСТЬ ПОШЛОГО МИРА
В ПОВЕСТИ «И.Ф. ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА»
(«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»)
В повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», входящий в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», сложная система рассказчиков.
Прежде всего это сам автор, стоящий между читателем и своим произведением, его невидимое присутствие изначально насыщает повествование легкой иронией, улыбкой над героями, совершающими поступки, и читателями, задумывающимися над событиями.
Затем – пасечник Панько Рудый. Именно он задает иронично-серьезный тон всему повествованию, появляясь в начале произведения, задает ироничный тон своим отношением к истории Шпоньки (она ему кажется чем-то примечательной, иначе не включил бы ее в свой сборник в половинном, усеченном виде), рассказом истории тетради с повестью, записанной Степаном Ивановичем Курочкой. Пасечник ведет речь о привычном и привычным ему образом, он уже известный, как ему кажется, человек и гордится своей популярностью, поэтому позволяет себе и кокетство -–сетует на память, - и иронию по отношению к рассказчику – Степану Ивановичу Курочке – и к самому себе. Но самое замечательное во вступлении – то, что совет обратиться к Курочке за продолжением и окончанием истории вводит непосредственного рассказчика в круг реальных действующих лиц как всего сборника, так и повести, которую он сам рассказывает.
Это положение закрепляется характеристикой, построенной на скрытых несоответствиях, которую задает Курочке пасечник.
«Живет он недалеко возле каменной церкви. Тут есть сейчас маленький переулок <…> Да вот лучше: когда увидите на дворе большой шест с перепелом и выйдет навстречу вам толстая баба в зеленой юбке (он, не мешает сказать, ведет жизнь холостую), то это его двор. Впрочем, вы можете его встретить на базаре, где бывает он каждое утро до девяти часов, выбирает рыбу и зелень для своего стола и разговаривает с отцом Антипом или с жидом-откупщиком. Вы его тотчас узнаете, потому что ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной выбойки и китайчатого желтого сюртука. Вот еще вам примета: когда ходит он, то всегда размахивает руками» (1, 174).
Место «около каменной церкви» подразумевает площадь, центр города, но далее речь идет о «маленьком переулке»; Степан Иванович Курочка «ведет жизнь холостую», но узнать его можно по выходящей навстречу одной и той же «толстой бабе в зеленой юбке». Более глубокие несоответствия и скрытые сопоставления проводятся рассказчиком (в данном случае – Паньком Рудым), когда говорится о привычках и внешнем виде героя, ведущего основное повествование. Он на базаре «выбирает рыбу и зелень для своего стола», что уже удивительно для Панько и его приятелей, угощающихся «кнышем с маслом» и даже оси бричек смазывающих салом; он «разговаривает с отцом Антипом или жидом-откупщиком», и одет необычно – «ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной выбойки и китайчатого желтого сюртука». Вспомним «балахон из тонкого сукна цвету застуженного картофельного киселя» и сапоги, начищенные «смальцем», дьяка Фомы Григорьевича, или «гороховый кафтан» паныча из Полтавы, его соперника, - основных рассказчиков в книге. В одежде Степана Ивановича Курочки удивляют и цветные панталоны с желтым сюртуком и то, что цвета названы чистыми, не через съедобные соответствия.
Насколько необычны рассказчики в повести о Шпоньке, настолько отличается и ее герой от других персонажей сборника. Это не украинский парубок, добывающий разрешения на свадьбу с любимой, не кузнец, сражающийся с нечистой силой, не хуторянин, сталкивающийся с неведомым миром, построенным на осколках языческих верований и постулатах христианства. Этот новый герой – помещик (уже в первой главе мы узнаем, что у него есть «имение»), отставной поручик, получивший образование в земском («поветовом») училище, то есть герой – светский, образованный, состоятельный человек, служивший и по какой-то причине вышедший в отставку. (В этих общих чертах этот герой Н.В. Гоголя близок к героям «Повестей Белкина» А.С. Пушкина). Кроме того, герой соотносим с основным рассказчиком, привычки которого выдают в нем человека образованного (сюртук), состоятельного (зелень и рыба), светского (разговоры с отцом Антипом и жидом-откупщиком).
Между собой связаны и их имена – обычные для русского читателя, но необычные для малороссиян: Степан Иванович и Иван Федорович. (Сравним имена героев других повестей сборника: Хавронья, Солопий, Левко, Ганна, Евтух – «Майская ночь или…», Вакула, Солоха, Одарка, Тымиш – «Ночь перед Рождеством», Данило, Стецько, Хома, Ерема – «Страшная месть»).
Фамилии же героев, напротив, привычны на Украине, но удивительны, анекдотичны для столичных читателей, фамилии – прозвища. (Сравним: Голопупенков, Черевик – «Сорочинская ярмарка», Басаврюк, Корж, Подкова, Полтора Кожуха, Сайгадачный – «Вечер накануне Ивана Купала», Каленик, Маногоненко – «Майская ночь…», Вискряк или Мотузочка или Голопуцек – «Пропавшая грамота», Губ, Костерявыый, Свергыбуз – «Ночь перед Рождеством», Горобец, Бурульбаш, Сткляр, Стокоза – «Страшная месть»).
Кроме того, повествование о Шпоньке начинается с констатации факта его существования. Герой уже четыре года живет в Вытребеньках, и определение его места в пространстве сразу же становится первой характеристикой героя. «Вытребеньки» в переводе с украинского – «причуды», и сам герой – причудливый, особенный, исключительный.
Задача непосредственного рассказчика – Степана Ивановича Курочки – показать исключительность своего героя, но каждое его слово характеризует не только Шпоньку, но и говорящего. Автор композиционно четко разделяет в повести два сознания - героя и рассказчика, умиляющегося им.
В первой главе речь идет об учении и службе Шпоньки. Рассмотрим оба эпизода. Говорящий показывает нам, как сам называет, «преблагонравного и престарательного» сначала мальчика, затем – офицера.
«Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смирно, сложив руки и уставив глаза на учителя, и никогда не привешивал сидевшему впереди его товарищу <…>, не резал скамьи, не играл до прихода учителя в тесной бабы… у него всегда водился ножик <перочинный>». (1, 174) (курсивом выделены слова со значением постоянства)
Привычность, обычность такого представления о прилежном и одаренном ученике подчеркивается раньше, чем оно раскрывается – оценкой старательности Шпоньки учителем русской грамматики, а после объяснения – наградой от учителя латыни.
«Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежало два пучка розг и половина слушателей стояла на коленях, сделал Ивана Федоровича аудитором, несмотря на то, что в классе было много с гораздо лучшими способностями». (1, 175)
В рассказе об учении Шпоньки, с точки зрения говорящего, особого внимания заслуживает эпизод (единственный в этом периоде жизни героя). Взятка в виде «облитого маслом блина» рассматривается рассказчиком как роковое событие, как несправедливость судьбы, повлиявшая на всю дальнейшую жизнь «преблагонравного и престарательного» героя.
«Как бы то ни было, только с тех пор робость, и без того неразлучная с ним, увеличилась еще более. Может быть, это самое происшествие было причиной того, что он не имел никогда желания вступить в штатскую службу, видя на опыте, что не всегда удается хоронить концы». (1, 175)
В этом «ответе», выведенном из «плачевной ситуации», чувствуется наложение двух сознаний: детского, испуганного наказанием – «робость … увеличилась еще более», и взрослого сознания рассказчика, который делает вывод, банальный и пошлый в своей обыкновенности, - «не всегда удается хоронить концы» – и обобщение о тяготах «штатской службы», связанной , как понимает рассказчик ( и читатель) и над чем ир
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Война и мир. Нравственные и философские искания Л.Н. Толстого
Для исследовательской работы я выбрала тему «Роман «». Меня привлекает изображение писателем процесса духовной жизни героев, их «диале
- Поэтическая молитва в творчестве Пушкина
Министерство образования Российской ФедерацииПетрозаводский государственный университетФилологический факультетКафедра русской ли
- Шпаргалки по русскому языку за 9 класс
Билет №1.Русский язык - национальных язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.
- Пародия в аспекте интертекстуальности
- Елецкий пейзаж в творчестве М.М. Пришвина
- Песнь о Нибелунгах
- Роман Г. Я. Гриммельсгаузена "Симплициссимус"
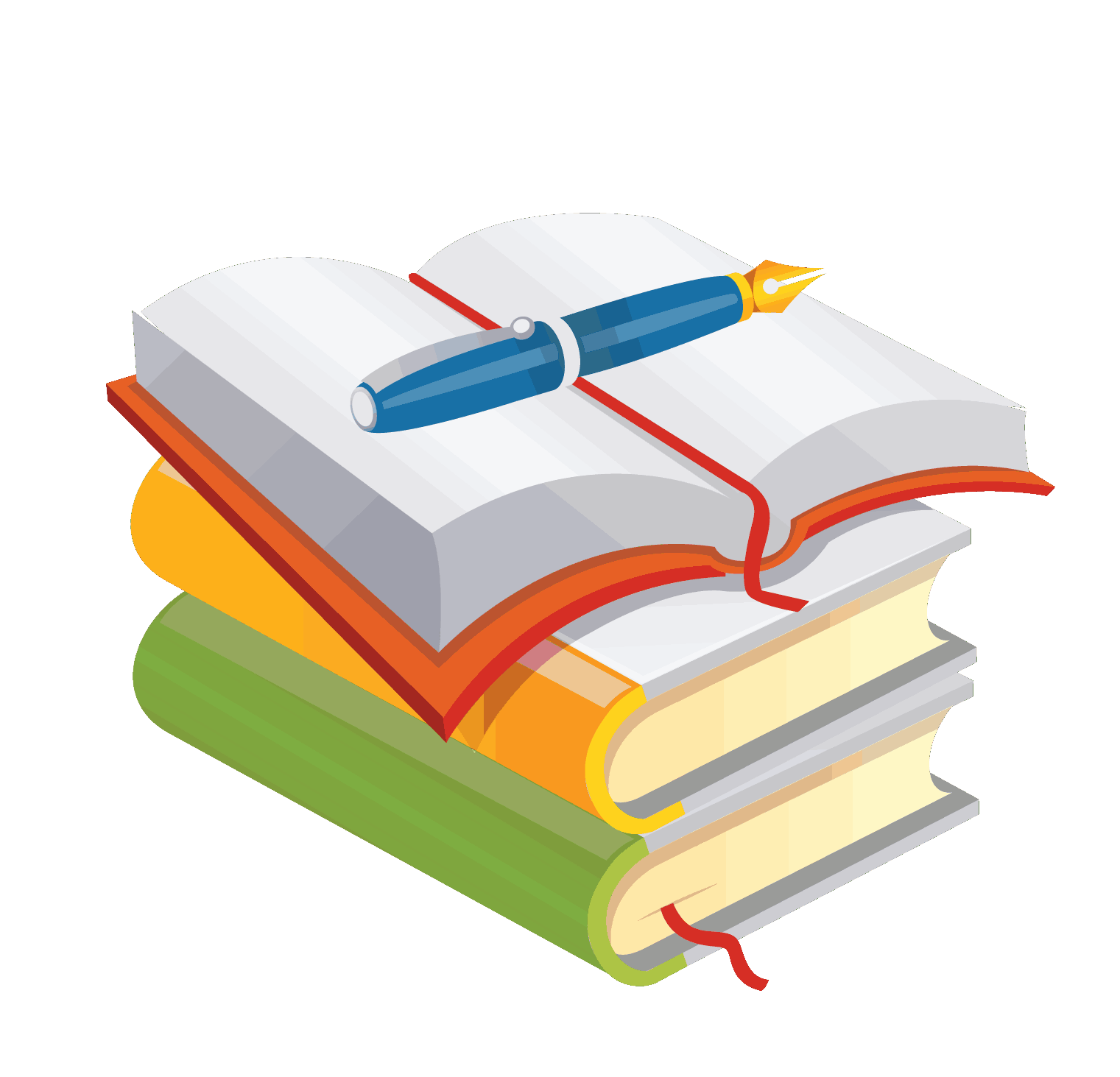 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.