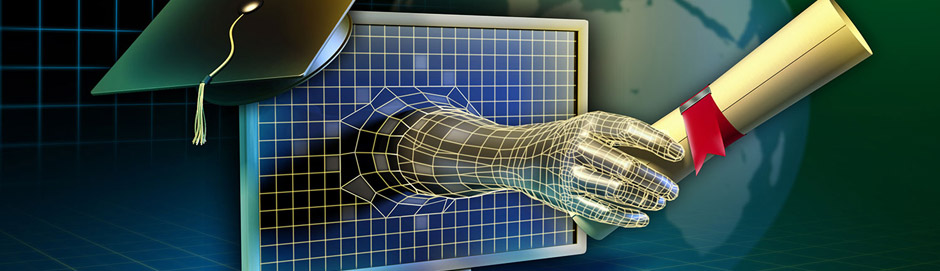Парадоксы ранней русской интеллигенции (1830-1850 гг.): национальная культура versus ориентация на запад
Сандер Броувер
Оппозиционность интеллигенции
Согласно достаточно распространенному определению, для русской интеллигенции до 1917 года характерна оппозиционность по отношению к царизму. С типологической точки зрения, как мне представляется, это определение нуждается в уточнении. Оппозиция оппозиции рознь: политические партии, защищая социальные и экономические интересы своих членов или избирателей, т. е. некоей «группы с общими интересами» могут вести оппозиционную политику, вполне оставаясь при этом внутри данной политической системы, - через определенный период правительство и оппозиция могут поменяться местами. Но оппозиционность русской интеллигенции иная: она характеризуется принципиальной невозможностью (или нежеланием) осознать свою позицию в терминах существующей социально-политической и идеологической системы. Русский интеллигент не действует в рамках системы политической репрезентации, либо потому что такой системы нет, либо потому что он ее не признает. Что касается самого характера его оппозиционности, можно сказать, что критике интеллигента (направленной против доминирующей идеологии, этики, правил поведения) всегда присущ более или менее явно выраженный утопизм. В его социально-политическом мышлении обнаруживается установка на трансформацию, а не на реформацию исходной ситуации.
Что же касается тех, во имя кого ведется эта борьба против власти, можно видеть, что интеллигент не защищает интересы какой-либо социальной группы, а говорит от имени социума в целом. При этом он определяет интересы этого социума, разумеется, не без влияния своих собственных представлений; но поскольку он не выступает как представитель этого социума, он и не отвечает перед ним за то, как он формулирует его интересы (возможная неадекватная репрезентация не наказывается неизбранием). В каком-то смысле он узурпирует голос безмолвствующего народа.
Разумеется, сказанное не является исключительной характеристикой лишь русской интеллигенции. И в Западной Европе оппозиционность «интеллектуала» отличается от обычной оппозиционности тем, что интеллектуал формулирует свои социально-политические идеи, мало считаясь с практикой политической жизни: эти идеи плохо переводятся в термины реальной политики, они не рассчитаны на компромиссы, достигаемые в ходе переговоров с представителями других групп (имеющих свои интересы); не сопровождаются взвешиванием расходов и реальной пользы и т. д. Чем больше оппозиционные группы склонны отказываться от представительства в системе репрезентации разных групп с общими интересами и чем больше они ориентируются на моральную, антиполитическую, утопическую трансформацию (от «сlerks» Жульена Банда до «flower-power» хиппи), тем ближе они к интеллигенции традиционного русского типа. С другой стороны, именно в период 1905-1917-го, когда и в России возникает система парламентской репрезентации, сами интеллигенты усиленно подвергают критике свой же утопизм. Кроме того. и среди интеллигенции XIX века были фигуры, менее склонные к утопизму (например, Грановский). Но можно предположить, что на Западе «интеллектуальность» - одна из ролей интеллектуала: он интеллектуал постольку, Поскольку он выступает за идеи, (пока) не отраженные в программе ни одной из существующих партий. Чтобы осуществить эти идеи, он может выступать против политической системы как целого. Но, как правило, речь идет о реформации, и большую часть своих политических идей западный интеллектуал старается формулировать в рамках программы одной из политических партий. В России же быть интеллигентом - это призвание и судьба, первейший фактор в организации личной жизни.
«Интеллигентность» проявляется не только в определенном образе мышления, но и в сфере поведения - может быть, даже по преимуществу в этой сфере, поскольку «в то время не могло быть и речи о возможности ощутимого воздействия на экономику, а тем более - на политику правительства» (Щукин 1992: 74; здесь говорится о XIX веке, но сказанное применимо и к XX веку). Начало формирования интеллигенции следует искать как раз в сфере поведения, а именно в дендизме второй половины 10-х - первой половине 20-х годов. Дендизм таких фигур, как Чаадаев, Пушкин, Вяземский, Каверин и др. качественно отличается от европеизированного поведения образованной элиты предыдущего периода. Оба типа поведения ориентированы на универсальные, просветительские нормы; но в то время как для русского XVIII века просвещение шло сверху, было делом и царя, и элиты, русский дендизм XIX века был направлен именно против придворной обрядности. Кроме того, несмотря на подчеркнутую отточенность манер и утонченную изящность, в дендизме XIX века обнаруживаются черты отрицания общеобязательных правил: ему свойственны намеренная холодность, сарказм, безответственное поведение (кутеж. бретерство, мотовство). Денди - индивидуалист, он не входит ни в какое «общество». Нормы его поведения не поддаются систематизации, он неподражаем; более того, его поведение построено именно на неподражаемости, на «внегрупповости»: денди создает свои правила, свое поведение, свой стиль. В конце концов, он творит свою жизнь. Именно в этом сказывается дух нового времени: денди воплощает не столько идеал «гуманности» (Карамзин), который должен сообщаться социуму, сколько свою личную утопию, утопию «интеграции искусства и жизни <...> вне общественных процессов <...> на уровне индивидуальной личности» 3 Именно в своем отказе от дидактики, в утопическом отвращении от общественных связей. денди предвосхищает поведение интеллигента.
Если это так, то возникновение интеллигентского склада ума нужно связывать с периодом разочарования в политике Александра I, когда, по словам А. А. Лебедева, «для мыслящего русского общества чувство гордости за свой народ отделилось от гордости за свою страну, патриотизм переставал быть чувством государственным» (Лебедев 1965: 46; цит. по: Щукин 1987: 145). С 1814 года, года возникновения Священного союза, «царь перестал быть символом прогресса и европеизации» и произошел «разрыв негласного союза интеллигенции с царем» (Щукин 1987:1454). Именно тогда образованная элита начинает понимать, что те универсальные ценности, тот идеал прогресса, во имя которого она ведет борьбу с отсталостью русского общества, явно не исповедуются во дворце.
2.1. Oриентация на запад
Этот процесс резко усиливается в царствование Николая I, после катастрофы декабристского восстания. Дендизм был выражением личного разрыва образованной элиты с двором, а в 30-е и 40-е годы этот разрыв приобретает групповой характер. Одновременно для русской интеллигенции снова встал вопрос об ориентации на западную цивилизацию. В XVIII веке главным образом преобладало убеждение, что в Западной Европе с максимальным успехом реализуются те универсальные ценности, которые и для России должны оказаться благотворными и о внедрении которых заботятся и царь, и элита. А теперь не только этот союз элиты с царем, но и сама ориентация на Запад становится проблемой.
В Х1Х веке интеллигенция берет на себя задачу создать национальную русскую культуру. Вполне естественно, что она при этом отворачивается от государства. В русской истории московского и петербургского периодов строительство государства, империи, шло отдельно от создания нации, и, как недавно отметил один исследователь, даже препятствовало ему. Теперь интеллигенция обращается к другому «полюсу, вокруг которого могло выкристаллизовываться русское национальное чувство» (Hosking 1997: XXV), т. е. к миру крестьян, а точнее, к крестьянской общине. Здесь чувствуется, конечно, влияние унаследованной от Гердера концепции об уникальном характере каждого народа, и общеевропейское романтическое требование, предъявляемое философу, поэту, артисту, выразить именно эти национальные качества. Однако специфическим элементом в русской ситуации является то, что самосознание интеллигента определяется чувством бесповоротного отчуждения от своего
--------------------------------
3 В этом стремлении к независимому эстетическому самоопределению чувствуется влияние шиллеровской концепции «эстетического воспитания» (1795), которая, в свою очередь, формировалась не без оглядки на Воспитание человеческого рода Лессинга (1777) – см. о «милленаризме» последнего: Lowith 1973: 190-195
4 В этой цитате слово «интеллигенция» употребляется в широком смысле, как «о6разованная элита».
народа. Свою приверженность принципу личной свободы и свою европеизацию он воспринимает как принципиально не сочетаемую с выражением народного духа. Чувство оторванности от народа характерно для русской интеллигенции всего XIX века (для конца этого века - Н. К. Михайловский, Н. В. Шельгунов; см.: Hosking 1997: 265). Впервые с петровских времен положение члена русской образованной элиты как носителя чужой, европейской культуры воспринимается им самим болезненно.
Как бы различно западники и славянофилы не смотрели на вопрос соотношения европейской и русской культур, для обеих групп характерно отождествление европейского «принципа» с развитием личной автономии и русской специфики с акцентом на корпоративизм, притом и те и другие рассматривали социальные структуры как коррелятивные по отношению к структуре отдельной личности. Анджей Валицки уже указал на фундаментальный изоморфизм восприятия социального разрыва между европеизированной интеллигенцией и русским народом, с одной стороны, и личного разрыва между «рефлексией», «сознанием» и «естественной», «непосредственной» жизнью — с другой (Walicki 1975:336-455). В русской культуре XIX века, в первую очередь, в литературе это раздвоение переживается как роковое и бесповоротное, и выход из него может быть найден лишь через качественный скачок. Построить мост между миром личным и божественным миром объективной действительности для Бакунина означало «возвращение из состояния смерти к жизни» Walicki 1975: 367). По Герцену, как в истории, так и в душе одного человека, соединение непосредственного существования с рефлектирующим интеллектом возможно лишь в форме перерождения, как потеря старой души и обретение новой (idem 381).
Положение интеллигенции становится проблематичным, когда свойственная европеизированной элите позиция «своего иностранца» теряет возможность вписываться в систему ролей, или стилей поведения. В XVIII веке такого конфликта между европеизированностыо и русскостью русского дворянина, в сущности, не было. Ю. М. Лотман показал, что эти разные роли были включены и упорядочены в системе, которая напоминает Ломоносовскую иерархию стилей: в зависимости от того, где (в Петербурге, в Москве, в провинции) и в каком социальном окружении (при дворе, в армии, в гвардии, среди дворян, среди своих крепостных) дворянин находился, он менял стиль своего поведения, свою роль 6.
Как известно, в XVIII веке иностранная одежда и иностранное поведение дворян воспринимались крестьянами как ряженье и нередко как кощунство. Этот взгляд мог распространяться и на самих дворян. Но для дворянина его причастность иностранной культуре все же не отменяла его русскости. По одной легенде, Наполеон сказал, что царю в Петербурге стоит только отпустить бороду, как он станет непобедимым (Sarkisyanz 1955: 17). Характерно, что в 1812 году такой возврат к русским обычаям, по крайней мере
------------------------
6 Позже эта система заменялась системой «амплуа», т. е. ролей, которые закреплялись за каким-либо индивидуумом, более или менее независимо от того, где он находился, но в которых также главным было постоянное удовлетворение стереотипа данного амплуа. Еще позже Лотман наблюдает тенденцию оформлять свою жизнь по примеру какого-нибудь исторического деятеля (особенно популярны были герои классического римского периода, а в период романтизма - литературные герои Шиллера, Байрона и др.). Но поведение продолжало ориентироваться на ролевые стереотипы (См.: Лотман 1992а).
со стороны образованного русского, не представляется невозможным. В действительности так поступали и представитель официальной культуры Ростопчин со своими афишками, и вовсе не официальный поэт Давыдов, который во время Отечественной войны 1812-го года «надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и заговорил с (солдатамимужиками - S. В.) языком народным (Лотман 19926:276). Для обоих, видимо, не существовало окончательного разрыва между стилем европейской образованности и стилем (псевдо-)народным. Но для интеллигента следующего поколения принадлежность европейской культуре проблематична.
2.2. Парадоксы европеизированной интеллигенции
Первая характерная реакция - забыть о своей собственной европеизации или скрыть ее, солидаризируясь с народом, и издеваться над дурной европеизацией царского режима и дворянства. У Герцена как царский режим, так и крепостная система могут представляться как чужеземное угнетение. Он пишет о том, что русский народ жил «под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным кнутом татарина и под западной розгой капрала» («La Russie», 1849, - Герцен VI: 199). И несколькими годами позже: «под монгольским гнетом ханов, под византийским царем, под немецким императором. под суринамским помещиком (русский народ) сохранил только свою незаметную, скромную общину» («Крещеная собственность», 1853 - Герцен XII: 112)7.
В этих словах поклонника западного философского и социально-политического мышления — Герцена — чувствуется и второй тип реакции на болезненное сознание своей принадлежности к западной цивилизации: возникает различение того Запада, на который ориентируется царь (и откуда идут парадность и казарменная дисциплина прусского происхождения), и того, на который ориентируются прогрессивные люди. Европа просвещения и прогресса и Европа реакции и буржуазии начинают противопоставляться.
Это очень характерно для интеллигентов типа Герцена, которые, познакомившись с реальным Западом, отворачиваются от него и ругают его буржуазный характер. Трудно согласиться с Анненковым, который считает, что осуждение Герценом европейской буржуазии, выраженное в письмах в Современник, — результат внесения своей русской позиции в западную культуру (Анненков 1960: 309)8. Наоборот, Герцен скорее занимает позицию западного социалиста перед своей русской публикой, тем самым распространяя эту позицию на русскую общественную ситуацию, в которой, однако, настоящей буржуазии нет и не было («Дай Бог, - пишет Боткин, - чтоб у нас была буржуазия!» См. письмо Анненкову от 12 октября 1847; Анненков 1960: 310).
---------------------------
7 Благодарю коллегу Ben’a Wiegers’a за указание, что прообразом «суринамского» помещика у Герцена, по всей вероятности, можно считать голландского колонизатора в Суринаме из Кандида Вольтера.
8 Анненков уверяет, что Боткин здесь выраает мнение московских друзей Герцена, которые считали его письма «произведением обычного фрондерства, свойственного всем путешественникам, которым стыдно с первого же раза покориться чужой стране и не сделать оговорок, вступая в близкие с ней связи».
Третья возможность - полный отказ от своего европеизма у славянофилов. Славянофильские переодевания à la Russe - не простая смена ролей. Им было противно само «представление о человеке как о ролевом существе» (Носов: 106); это представление было характерно для европейского XVIII века (см. выше), и славянофилы ему противопоставляют русскую народную «истинную жизнь». Отпустить бороду или, как Аксаковы, носить святославки и мурмолки значило для них совершить переход в мир, которому они до сих пор не принадлежали; одновременно это отказ от принадлежности к официальной культуре. Видимо, это почувствовал Николай I, запретивший в 1849 году государственным служащим носить бороду. То, что для Дениса Давыдова было простой переменой ролей, теперь воспринимается как переход в другой лагерь.
Отталкивание славянофилов от мертвой цивилизации Запада и их поворот к своему народу осложняются тем, что их одушевляет не столько узко национальная гордость, сколько универсалистский пафос (в этом и славянофилы также в известной мере - наследники универсалистского века Просвещения). Те здоровые начала русского народа, на которые они возлагают надежду, суть общехристианские ценности, благодаря которым должен спастись весь мир, - только живы они остались именно в русском народе; Запад же их забыл и заменил папизмом и культом индивидуальности. Материальное богатство Запада, его научное и технологическое развитие и степень распространения цивилизации в нем для славянофилов служат доказательством его морального разложения; его стремление к автономной личности - признаком общественной раздробленности. Наоборот, «бедные селенья» русского крестьянина доказывают, что его «Христос благословил».
Было бы также неправильно утверждать, что западники взывали к простой трансплантации западных норм и западного образа жизни. Даже Чаадаев ориентируется не столько на реальную западную Европу (которую он знал, хотя не очень хорошо), сколько на идеальное, органически цельное общество Ламенне, т. е. на будущую, очищенную, католически-социалистическую Европу. И такие западники, как Бакунин, Герцен, Огарев, и в какой-то мере Белинский вдохновляются скорее Европой будущей, чем Европой реальной. Они видят в этой реальной, буржуазной Европе умирающую культуру 9, а в России - молодые силы. Даже Владимир Печерин, который, пожалуй, больше всех других «сакрализировал Запад и профанировал Россию» (Щукин 1996:572) связывал будущее демократии именно с молодой Россией так же, как и с молодыми Соединенными Штатами Америки (там же: 571; это же сочетание находим и у Герцена, VI: 188, 190). Вообще же не надо забывать о том, что западники ищут у Запада ответы на русские вопросы, т. е. обнаруживают в нем ценности, которые должны способствовать развитию веского общества.
Итак, перед интеллигенцией стояли две парадоксальные задачи: а) вывести русский народ из положения некультурности, возвести его до уровня национальной культуры, но одновременно научиться у этого самого народа формам и ценностям, которые утрачены самой интеллигенцией, которые как бы составляют народное лицо, и без которых невозможна настоящая национальная, самобытная культура; б) избавить русский народ от ложной, ненужной и непонятной ему европеизации, но одновременно внедрить универсальные принципы гуманности (толерантности и т. д.), личной независимости и свободы, т. е. принципы, которые, несмотря на свою универсальность, были
--------------------
9 Очень характерна в этом смысле резкая критика Герцена французской буржуазии.
54
сформулированы и отчасти реализованы в Западной Европе и Америке, откуда, следовательно, и должны быть неизбежно переняты. Это привело к колебаниям в отношении к народной жизни, которая представлялась и как отсталая, и как сохранившая древние, здоровые, патриархальные начала (подавление личной инициативы versus хоровое начало, «соборность», либо versus общинный строй 10), но также и в отношении к Западу, который, по крайней мере для таких мыслителей, как Герцен, - и гнилой, и носитель утопических идеалов социализма. Еcли образованная элита XVIII века преследовала педагогическую цель воспитать русский народ в духе своих универсально-европейских идеалов, то русский интеллигент XIX века должен был искать выход из парадокса, сочетать несочетаемое. Он должен был возвести народ до такого состояния, в котором он, этот народ, развил бы свои собственные качества, но одновременно сбросил бы их. Сам он должен был слиться с народом, от которого он был оторван, но одновременно продолжать олицетворять принцип, чуждый этому народу. Это - задача, с которой вряд ли можно справиться человеческими усилиями, и не удивительно, что чаще всего решение ее представлялось в утопической перспективе.
3.1. «Cвой-чужой» - интеллигент как изгой
Ориентируясь на западную культуру, русский интеллигент XIX века, в отличие от образованного человека XVIII века, оценивает свое положение как позицию человека, одновременно принадлежащего своему социуму и оторванного от него. Интеллигент чувствует себя носителем неких высших ценностей, нужных тому обществу, которому он принадлежит; но одновременно он чужд этому обществу, члены которого смотрят на него с подозрением. Можно наблюдать, что это сопровождается реактивацией старых культурных механизмов, к возврату (в новом контексте) к допетровским типам социального поведения, а именно к тем, которые характерны для изгойничества (ср. Лотман, Успенский 1982). В поведении интеллигента может наблюдаться осмысление своего европейского поведения как поведения кощунственного, т. е. противоречащего нормам социума, которые воспринимаются как основные. Это особенно заметно у западников.
Уже в поведении первого русского западника, по определению В. Щукина (Щукин 1987), или первого русского политического диссидента, по выражению Рipes’a (Pipes 1979: 253-254) 11, князя Ивана Андреевича Хворостинина, явно обнаруживаются черты кощунственного антиповедения. Его обвиняют в том, что он людям своим не велел ходить в церковь, а которые пойдут, тех бил и мучил, говорил, что молиться не для чего и воскресение мертвых не будет; про христианскую веру и про святых угодников Божиих говорил хульные слова; жить начал не по христианским обычаям, беспрестанно пить, в 1622 (7130? - С. Б.} году всю Страстную неделю пил без просыпу, накануне светлого воскресенья был пьян и до света за два часа ел мясное кушанье и пил вино прежде Пасхи (Соловьев V: 317).
------------------------------
10 Нельзя утверждать что Герцен только идеализировал общину. Так, в 1849 г. он пишет: «…именно отрицательная сторона общинной жизни и вызвала петербургскую реакцию. Если бы в общине не было полного поглощения личности, то самодержавие <...> не могло б образоваться» (Герцен VI: 199).
11 Или же «первой ласточки московской культурной весны», по Платонову (Платонов 1926: 72).
Кроме кощунственного характера этого поведения, оно напоминает поведение Лжедмитрия I, о котором в повестях рассказывается, что он начал «въ среду и въ пятокъ и телчiя мяса и прочая нечистоты ясти», и что он во время пасхальной заутрени творил блуд в бане со своей Маринушкой (Успенский 1994: 90-91). Представляется возможным, что Хворостинин, который в молодости служил при дворе Лжедмитрия, и который обвиняется и в том, что он впал в ересь, соединившись в вере с поляками (при обыске у него обнаруживается «много образов латинского письма и много книг латинских, еретических». - Соловьев V: 316), здесь копирует иностранное поведение, точнее то, что в глазах русских характерно для поведения иностранца. Как известно, европеизация не всегда принимала форму заимствования реального европейского поведения; вспомним П. А. Кошкарова, у которого была «европейская» гарема (Лотман, Успенский 1994: 238-240; ср. позже у дяди Герцена, Александра Яковлева); или графа Скавронского, который со своими слугами говорил оперным речитативом (Лотман 1992а: 258).
В XIX веке как западники, так и славянофилы большое внимание уделяют таким аспектам жизни, как бытовое поведение, костюм, форма бесед, архитектура, внутреннее убранство жилища (Щукин 1992: 74). При этом западники особенно ценили в этих сферах элегантность, комфортабельность и вообще гармоническую оформленность и «организованность духовного облика человека и всего общества» (idem.: 75). Поэтому они, «как правило, проявляли слабость к модной одежде, изысканной кулинарии и прекрасному полу» (idem: 77-78). Можно наблюдать, как такое поведение нередко приобретает черты обрядности. Щукин замечает:
Так, например, «вечный бурш» И. X. Кетчер насильно вливал в уста друзей шампанское и заставлял дам вести себя фамильярно, а Боткин заявлял: «Принимать на себя ответственность за судьбу женщин - помилуй Бог!» Такая свобода нравов иногда становилась искусственной, как бы принужденной <...> Создается впечатление, что «русские европейцы» зачастую заставляли себя держаться свободно только потому, что французы и немцы давно уже умеют так себя вести, а кроме того желая своим раскованным поведением бросить вызов казенной дисциплине (idem: 78).
Нужно при этом иметь в виду, что в радикальном европейском и русском мышлении середины XIX века идея наслаждения жизнью была вовсе нешуточным предметом. И Фурье, и Фейербах, и Жорж Санд, а в России левые западники, такие как Белинский, Герцен, Писарев, Чернышевский, а также эстеты, такие как Дружинин, воспринимали борьбу за личное счастье как принципиально важный фактор в деле освобождения «от феодальных и буржуазных пут (социальных и нравственных) и от догм христианского аскетизма» (Егоров 1986: 454-455). Для нас здесь важно, что такое поведение в русском контексте может восприниматься как кощунственное. Свое сочинение шуточных порнографических стихотворений (что для многих литераторов западнического лагеря входило в «канон» раскованного поведения) такие писатели, как Панаев, Фет, Анненков, Дружинин, Некрасов, Тургенев, Лонгинов и др., обозначали словом «чернокнижие», что явно указывает на кощунственный его характер. Конечно, сами эти писатели не считали, что они действительно занимались кощунством, и это шуточное выражение употреблялось с самоиронией; но оно так же свидетельствует о том, что они хорошо понимали, насколько отдалено их поведение от принятых в русском народе норм 12. Притом для такого писателя, как Дружинин, сексуальная свобода связана с европеизмом: в своем дневнике он неизменно называет разных дам его сердца «доннами».
---------------------------
12 Можно предположить, что термин был им знаком из известного сборника И. П. Сахарова «Сказания русского народа» (1836, т. 2 - 1849), в котором подчеркивается, что чернокнижники «отрекались от Бога, родных и добра», (што они «научаются лихому делу от чертей и всю свою жизнь состоят в их зависимости» (Сахаров 1989: 22).
Если западники могут воспринимать свою «нечистоту» в глазах народа с долей иронии, то для славянофилов 40-х годов (особенно Хомякова), и для таких писателей, как Гоголь и Достоевский, русский народ действительно все более становится носителем сакрального начала. У позднего Гоголя находим характерное сближение принципа индивидуализма с европейским, нерусским духом, и вместе с тем с отпадением от Бога. В своих «Выбранных местах» он убеждает молодого друга, который хочет жить помещиком, чтобы тот показывал крестьянам, что он всегда следует христианским традициям, «чтобы они видели ясно, что ты во всем, что до них клонится, сообразуешься с волей Божией, а не с своими какими-нибудь европейскими или иными затеями» (Гоголь VI: 276; курсив мой. - С. Б.). Здесь уже намечается та линия, которая продолжается в «народе-богоносце» Достоевского. У него можно наблюдать, что, так как русский народ воспринимается как единство сакральное, то ложная репрезентация его (интеллигентами-атеистами, социалистами) интерпретируется как антисакральная узурпация (тема самозванства в Бесах) 13. Тема самозванства русского «передового героя» начинается в русской литературе уже у Пушкина и Гоголя, но у Достоевского она разработана во всей своей полноте.
3.2. Литературный образ интеллигента-изгоя
Двойной характер «своего-чужого» интеллигента-изгоя, потенциал одновременно нечистого, демонического чужого и носителя высших ценностей в самооценке русской интеллигенции отражается с особой яркостью в русской литературе. И здесь во многом роман «Бесы» является как бы итогом этой темы (элементы святости, но и инфернальности в образе Ставрогина); он как бы освещает и предшествующую традицию. Как показал Ю. М. Лотман (Лотман 1993а), в разных произведениях Пушкина роль аристократа как джентльмена-денди сочетается с позицией разбойника, часто с демоническими коннотациями (что в русском контексте неизбежно вызывает ассоциации с традиционной магической нечистотой атамана из фольклора). Иногда это проявляется в антитетических парах, как Гринев и Пугачев, иногда в мотивах из сна одного из персонажей, как разбойничество Евгения во сне Татьяны, иногда в маленьких внешних деталях, как кольцо с мертвой головой у Алексея из Барышни-крестьянки и его собака Сбогар (по фамилии героя, демонического джентльмена-разбойника известного романа Нодье), иногда персонаж действительно является и аристократом, и разбойником, как Дубровский. И в поэзии Пушкина разбойник играет свою роль, как, например, в песнях о Разине (фольклорные тексты о котором Пушкин собирал). Вспомним и «Историю
----------------------------
13 Выше я уже сказал, что интеллигенция всегда узурпирует голос народа. Но для Достоевского vox populi – vox Dei, и узурпация этого сакрального голоса во имя атеистических идеалов - ложная сакральность, то есть самозванство. О теме самозванства в Бесах см.- Murav 1991.
пугачевского бунта», и поэму «Братья-разбойники», и планы романа «Русский Пелам» (по роману Бульвер-Литтона, в котором один из главных персонажей - аристократ-разбойник). Конечно, тип демонического героя-разбойника хорошо известен в европейской романтической и предромантической литературе. Достаточно назвать Шиллера, Байрона, Скотта, Вульпиуса, Цшокке, Нодье, Матюрина (их влияние на Пушкина хорошо изучено). Позже в XIX веке разбойники встречаются у Гюго (Жан Вальжан), Дюма, Сю, Феваля и многих других. Образ (благородного) разбойника был предметом целой библиотеки литературоведческих и историко-культурных исследований. Демоническая коннотация характерна для всех этих романтических разбойников-отверженных. Специфика русской ситуации заключается в том, что этот джентльмен-разбойник в своей внешности и в своем поведении ориентируется на чужую культуру, так что его отчуждение - не только социальное, но и национальное. Это сочетание в свою очередь напоминает традиционный образ изгоя.
В этом контексте весьма примечательно, что демоническо-негативная ассоциация «своего иностранца» может превратиться именно в позитивную оценку. В русской литературе представлен целый ряд русифицированных иностранцев - «честных тружеников», которые приносят много пользы русскому обществу и олицетворяют нужные России качества. Первый пример, конечно, - это рациональный, предусмотрительный и много работающий Штольц, которому противопоставляется летаргический русский Обломов, хотя рационализм Штольца оценивается не только позитивно. Рациональность с негативными оттенками - расчетливость - уже раньше в русской литературе была связана с иностранцами. Некоторое время она служила одним из главных элементов образа Наполеона (у славянофилов), вместе с эгоизмом и жаждой власти. Присуща она и образу русского немца Германна из Пиковой дамы: он совмещает в себе немецкую расчетливость («Германн немец - он расчетлив») с русской мечтой о приобретении в один миг баснословного капитала.
В «Накануне» Тургенев контрастирует болгарина Инсарова, активного идеалиста, с велеречивыми, но инертными русскими идеалистами. В Нови встречается положительный, много трудящийся Соломин, о котором рассказывается, что «на первый взгляд Соломин производил впечатление чухонца или, скорее, шведа» (Тургенев IX: 223). Однако для него характерна именно смесь иностранности с русскостью: о фабрике, которой руководит Соломин, и которая выглядит неряшливо, один персонаж замечает: «Русская фабрика - как есть; не немецкая и не французская мануфактура». И дальше: «Беспорядка тут нет, <...> а неряшливость русская» (idem). Но самый яркий пример ~ это Костанжогло из второго тома Мертвых душ. Он - идеальный помещик, крестьяне его живут вполне благополучно, даже деревья растут на его земле быстрее, чем у соседей; важную роль он играет и в обращении Павла Чичикова к праведной жизни. Он описывается как полурусский, полуиностранец (окончание «-огло» его фамилии характерно для греков тюркского происхождения). В этом персонаже явно преобладают позитивные коннотации — как деловые, так и моральные — «своего иностранца». Ю. М. Лотман (Лотман 1993 б) писал, что такие выпадающие из национального социума фигуры могут выполнять одну из двух функций: быть либо «спасителем», либо «погубителем» этого социума. Парадигму этого образа находим в образе европеизированного джентльмена-денди Онегина, как он представляется Татьяне: «Кто ты, мой ангел ли хранитель / Или коварный искуситель». В основе этой схемы, сложившиейся у Татьяны, с одной стороны — литературные штампы прочитанных ею сентиментальных западных романов (отметим сходство с Ленским, который мыслит точно такими же штампами), а с другой стороны — фольклорные традиции, знакомые ей как провинциальной барышне.
Можно наблюдать, что эта статическая схема спасителя/погубителя своего социума как бы пускается в ход, развивается в сюжет в русской литературе после Пушкина и Гоголя, а отчасти и у них самих. В основе многих произведений известной линии в русской литературы лежит и пространственное, и моральное движение главного мужского персонажа, аристократа или представителя интеллигенции с периферии в центр России, из европейской культуры Петербурга в народную культуру российской деревни. Назову только: «Кто виноват?», «Обрыв», все романы и многие рассказы и повести Тургенева, отчасти «Война и мир». Элементы такого движения находим в «Мертвых душах», в «Идиоте» (Швейцария - дачный пригород), в «Бесах». Как правило, в тематике этих произведений немаловажную роль играет возможность или невозможность для главного героя найти свое место в русском обществе, слиться с народом (на фоне разговоров о судьбе этого самого народа). К тому же жизненный путь этого героя часто строится как поиск возможности моральной трансформации, перерождения (а о судьбе народа преобладают представления, что он «вдруг заговорит и скажет свое слово»). Герой стремится к духовному обновлению, очищению, а иногда и достигает его (хотя это остается вне рамок текста романа, например, в «Мертвых душах», в «Преступлении и наказании» и др. - так же, как эсхатон имеет место вне времени и истории). Конечно, возможны многие варианты, но для Тургенева характерно отрицание возможности такого перерождения.
Итак, в литературе обнаруживаются явные параллели с социополитическим мышлением XIX века, с присущими ему эсхатологизмом, ожиданием радикального поворота и двойственностью представлений об отношении интеллигента к народу. Для русского интеллигента было характерно парадоксальное сочетание, с одной стороны, желания оттолкнуться от чужой цивилизации и развить свою национальную культуру и, с другой - желания сохранить ценности этой чужой цивилизации и оплодотворить ими свою культуру, несмотря на то что они казались неприемлемыми в этой культуре. Сам процесс этого преобразования представлялся как качественный скачок, имел эсхатологический характер. Этому соответствовало осознание интеллигентом своего положения как «своего чужого» в собственном же социуме, как потенциального «спасителя» и «погубителя» социума в одно и то же время.
Объяснить, почему такая культурная ситуация возникла, трудно. Мне кажется, что для решения этой проблемы было бы важно абстрагироваться от конкретного идеологического содержания дискурса самой интеллигенции и не вдаваться в фаталистические спекуляции о русской душе. С культурно-исторической точки зрения может было бы полезным поискать типологические параллели среди других культур, испытавших «шоковое» столкновение с чужой культурой, воспринимаемой как более развитая. Такой подход предложил уже Ричард Пайпс:
Russia was the earliest of the non-western countries to undergo that crisis of self-confidence which other non-western copies have experienced since; a crisis caused by the realization that inferior and odious as it may appear, western civilization had discovered the secrets of power and wealth which one had to acquire if one wished successfully to compete with it (Pipes 1979: 112).
Действительно, европеизацию русской культуры можно объяснить таким образом; в мировой перспективе не является исключением и реакция на этот процесс в следующем (после первой волны «наивной» ориентации на чужую культуру) поколении. Во многих отношениях в умонастроении русской интеллигенции XIX века обнаруживаются характерные признаки «автохтонизации второго поколения» (Dore 1985: 420), стремление избавиться от импортированной культуры, воспринимаемой обычно как орудие в руках угнетательской государственной элиты, и вернуться к своей автохтонной культуре. Такой процесс имел место во многих бывших колониальных обществах, но и в обществах, непосредственно не колонизуемых, но испытавших сильное влияние Запада, - прежде всего в Японии (другие примеры и более подробное описание этого процесса см.: Dorе 1985). Но, как я показал
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Развитие музыкального вкуса у детей младшего школьного возраста на уроках музыки
- Современная фокл-музыка
Фолк - культура уникальна. Это культура, которой просто нельзя дать умереть. Надо противостоять всему этому «Макдоналдсу», который пропа
- О художественной культуре модернизма: в развитие одной идеи
Г.К. ЩедринаВ безусловном утверждении нового взгляда на окружающий мир и жизнь человеческого духа, в напряжении, прочерчивающем силовые
- Типология костюма
- Особенности формообразования и музыкального языка в хоровых сценах оперы Псковитянка Н.А. Римского-Корсакова
- Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи
Прохватилова О. А. Коммуникативно-семантическая обусловленность интонационного оформления молитвы Исходя из выделенных нами в третьем
- Византийские начала и их русская обработка
Грабарь И. Э. Переходя от архитектуры к живописи, приходится с грустью установить, что в последней области Россией достигнуто неизмеримо
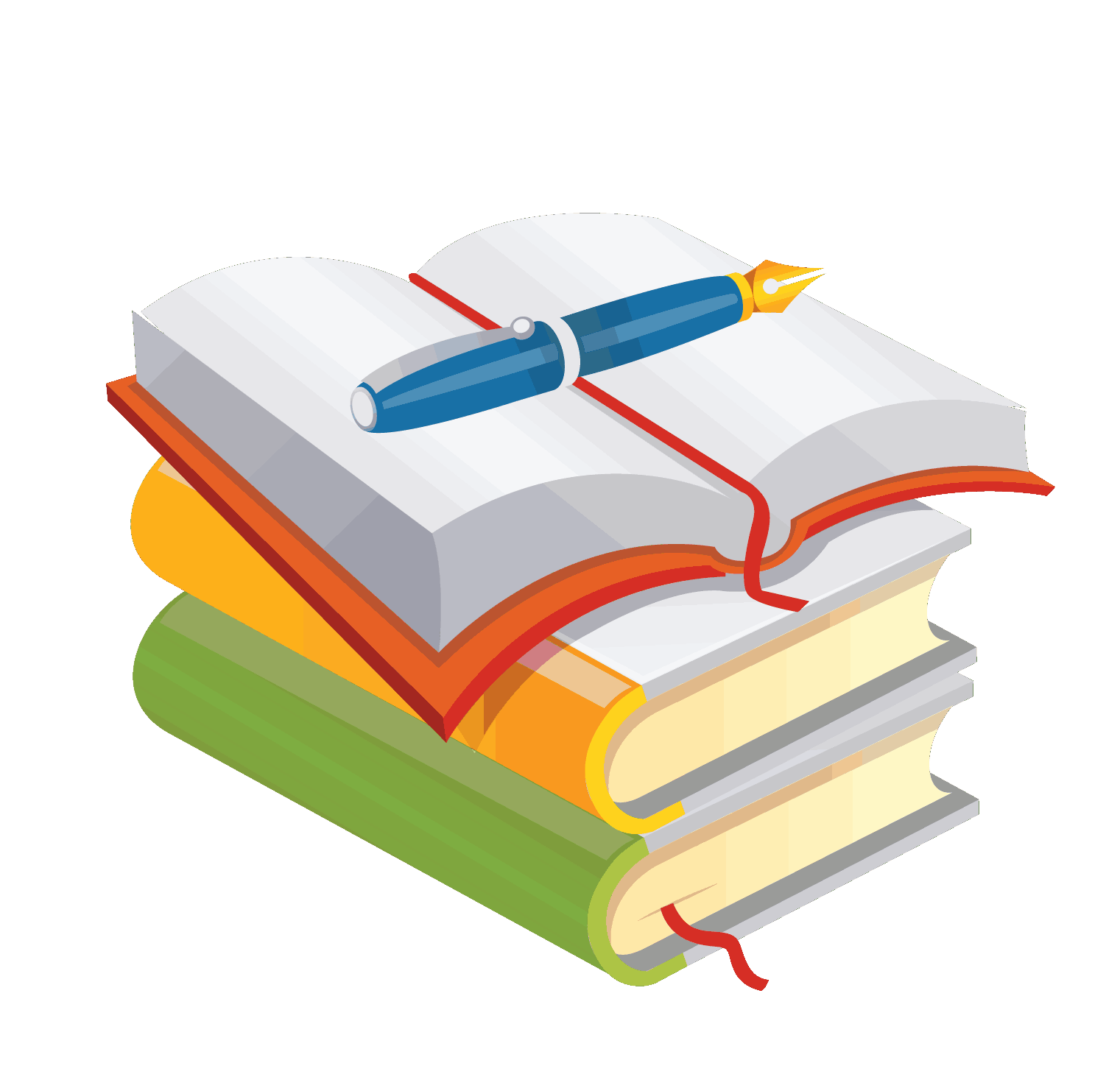 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.