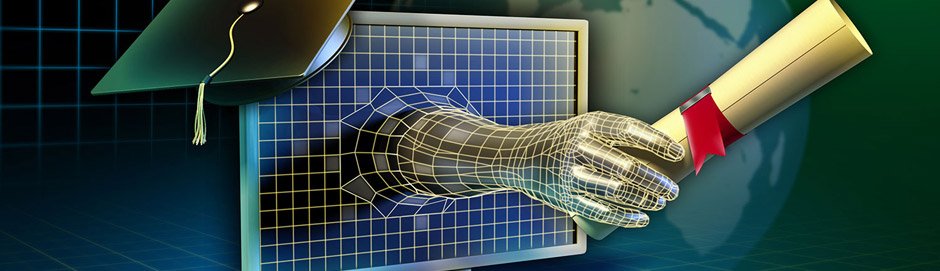О драме в современном театре: verbatim
И. Болотян
Что мы имеем?
О том, что репертуарные театры переживают затяжной кризис, говорят с 80-х годов. И с тех же пор думают о том, как этот кризис преодолеть.
Что изменилось за прошедшие полтора десятка лет, так это терминология. В былые годы критики ругали так называемые “кассовые пьесы”, смачно описывающие жизнь “дна”, называя их “чернухой”. Теперь же такого рода пьесы называют “неонатурализмом”. С разного рода уточнениями: Николай Коляда — неосентименталист. Людмила Петрушевская — постреалист.
Сценические трактовки классических произведений (в особенности пьес Чехова) дали критикам повод говорить об исчерпанности традиционной драматургии. Характерно звучат названия статей: “Чайки над городом реют…” или “Кто убил Чехова?”1 . Особенно много споров вызвал спектакль “Чайка” в “Школе современной пьесы” по пьесе Б. Акунина, определенный некоторыми критиками как “чисто коммерчески, пиаровски рассчитанный манок”, “пьеса-парафраз модного современного литератора”, не лишенный при этом достоинств, делающих его событием театрального сезона2 . Подобные злоупотребления традицией вызвали разговоры о том, что пора “объявить мораторий на Чехова”, что “Чехов должен ставиться через много лет и теми людьми, которые прочитают его впервые и не будут знать никаких других постановок…”3 .
Если “Школа современной пьесы” все-таки ставит очередную “Чайку”, то уже оперетту, хотя и с участием того же актерского состава. В следующем сезоне, видимо, стоит ожидать мюзикла — “Чайка”.
Примета времени в театре — “бизнес-искусство”4 с его главным жанром — мюзиклом. Советское театроведение изначально относилось к мюзиклу как к проявлению буржуазного искусства (“Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты”, ““Юнона” и “Авось”” Марка Захарова и т. п. постановки значились как оперы или музыкальные спектакли). Первым мюзиклом постперестроечного времени принято считать “Metro” (реж. Януш Юзефович), премьера которого состоялась в Театре оперетты в октябре 1999 года. Продюсеры купили права на уже готовый спектакль, набрали российскую труппу, и мюзикл был запущен. Единственный пока в своем роде в России опыт театра одного мюзикла — “Норд-ост” возник по образцу бродвейских технологий. Последующие постановки данного жанра, такие, как: “Notre Dame de Paris”, “Чикаго”, “42-я улица”, “Иствикские ведьмы” и др. — также сделаны по западным образцам.
Мюзикл (в переводе с английского musical — музыкальный) — универсальный жанр. От музыкального театра в нем — драматургия и профессионально написанные тексты. От оперы — сложные аранжировки и высокотехнологичные декорации. От оперетты — исполнение песен в соединении с танцем и возможность использования незатейливого водевильного сюжета наряду с серьезным драматургическим. От цирка — наличие трюков и спецэффектов. Эти шоу представляют собой хорошо отлаженные коммерческие предприятия с присущими этому роду деятельности просчитанным бюджетом и развернутыми рекламными кампаниями. Мюзикл — часть индустрии развлечений, и как таковой он (по словам одного из продюсеров “Notre Dame de Paris” А. Вайнштейна) имеет “свое определенное театральное место. Это просто новый для Москвы жанр и ничего более. У москвичей — дикий дефицит досуга и нормального красивого зрелища, и они остро среагировали на появление нового театрального жанра и новых талантливых актеров, способных в этом жанре работать”5 .
Кроме мюзиклов, на российской сцене появились спектакли, созданные по серьезным классическим произведениям, но в стиле кабаре. Критики сетуют, что в этом явлении можно усмотреть тенденцию к снижению высокого: театр “сознательно, ернически (хотя иногда вполне невинно, точнее неосознанно) упрощает зрелище до уровня массово-культурного вагонного чтива”6 . Может быть, это лишь “неизбежные издержки того, что театр сейчас нащупывает манеру разговора со зрителем, вместе с обществом выбираясь из-под груды идейного мусора, образованной обломками прежних социальных и духовных теорий”; “театр ищет новое равновесие между сложностью языка и его ясностью и точностью”?7
Ясно, что мы застаем русский коммерческий (в советские годы сказали бы — буржуазный) театр в период его становления. Мюзиклы и кабаре — только единичные его примеры. Как результат этого становления происходит смешение эстрадных, телевизионных и театральных жанров.
Есть и другое мнение, согласно которому современный развлекательный театр неверно расставляет приоритеты: “В новом времени театр пошел по пути коммерции. Брошенный на самоокупаемость, он борется за кассу, за зрителя, борется, как правило, бестолково, потому что маркетингов никаких не проводится и что люди хотят видеть, на самом деле никто не знает. Почему-то люди, занимающиеся репертуарной политикой в театрах, думают, что окупаема в первую очередь комедия, какое-то легкоусвояемое развлекательное зрелище… Как развлекательная индустрия театр совершенно неконкурентоспособен. Обидно и глупо, когда театр уходит в сторону entertainment’а. Видео сейчас есть в любой точке планеты, даже у хантов в чуме. У театра совершенно другая ниша, и там, где люди это понимают, это работает”8 .
Во второй половине 90-х годов, когда кризис репертуарных театров достиг своей кульминации, многие критики, актеры, режиссеры и другие деятели театра свалили вину на драматургов. О том, что у нас нет современной актуальной драматургии, говорили все.
Если ее нет, значит, ее нужно создать. Как результат — множество театральных фестивалей, конкурсов и акций. Среди наиболее известных и плодотворных: Национальный фестиваль “Золотая маска”, фестиваль NET/НЕТ (New European Theatre/Новый Европейский Театр), Фестиваль молодой драматургии (“Любимовка”), фестиваль “Новая драма”, фестиваль “Окно” (представлял новинки западной драмы), российско-британский семинар “Новая пьеса/New Writing”, фестиваль “Майские чтения” (г. Тольятти), репертуарная практика “Дебют-центра” и многие другие. Появляются драматургические призы (например, премия “Три сестры” в рамках премии “Антибукер” и др.).
Организаторы фестивалей в своих манифестах больше задают вопросов, чем дают какие-либо ответы: “Современная драматургия… Конъюнктура или новое слово? Чернуха или слово правды? Вторичность или откровение? Отчего драматургия разошлась с современным российским театром — оттого, что отстала от него, устарела, или потому, что опередила? Что же сейчас происходит — кризис в драматургии или кризис в способе читать эту драматургию?”9
Несмотря на видимую “растерянность” организаторов, именно благодаря участию в конкурсах фестивалей “Новая драма”, “Любимовка” и других молодые авторы смогли впервые открыто заявить о себе. “Были открыты” такие имена, как: Евгений Гришковец, Максим Курочкин, Екатерина Нарши, Олег Богаев, Василий Сигарев, Владимир и Олег Пресняковы, Алексей Вдовин, Сергей Калужанов, Иван Вырыпаев, Лаша Бугадзе, Наталья Ворожбит, Вадим Леванов, Екатерина Садур, Родион Белецкий и многие другие. Список авторов впечатляет10 .
Именно на “Любимовке” впервые были представлены независимые региональные театры “Ложа” (Кемерово), “Бабы” (Челябинск), “Особняк” (Санкт-Петербург), тольяттинская Студия Вадима Леванова, “Пространство игры” И. Вырыпаева (Иркутск) и московские “Апарте”, “Центр драматургии и режиссуры” А. Казанцева и М. Рощина и другие.
Современная драма появилась, но остается в театре явлением маргинальным. Причины сложившейся ситуации видятся, во-первых, в уверенности многих руководителей театров в том, что качественной современной драмы нет и быть не может; во-вторых, в достаточной экстравагантности новой драмы, в ее несоответствии формату репертуарных театров.
Наиболее ярким экспериментальным проектом в русле современного театрального авангарда стал “Документальный театр” (и сценическая его реализация на площадке “ТЕАТРА.DOC”). Этот театр всегда подает себя эпатирующим жестом. Названия его спектаклей напоминают заголовки статей “желтой прессы”.
“Большая жрачка” — спектакль об изнанке производства телевизионных ток-шоу.
“Преступления страсти” — о жизни женщин-убийц из колонии строгого режима.
“Война молдаван за картонную коробку” — криминальная история о нелегком житье-бытье нелегалов в Москве.
“Песни народов Москвы” — зарисовки из жизни московских бомжей.
“Трезвый PR-1” раскрывает тайны политтехнологов и пиарщиков.
Зрители выходят со спектаклей возмущенными или восхищенными. Равнодушных не бывает. То, что они там видят, — “правда жизни” в ее полноте безусловной (без условности) наготы.
Во многих проектах участвуют не только студенты и выпускники театральных вузов, но и такие известные драматурги, как Елена Гремина, Михаил Угаров, Ольга Михайлова, Елена Исаева.
Еленой Исаевой написано немало пьес: “Вечная радость”, “Абрикосовый рай”, “Инфернальная комедия”, “Две жены Париса”, “Иудифь”… В “ТЕАТРЕ.DOC” поставлен спектакль по ее пьесе “Первый мужчина” (опубликована в “Новом мире”, 2003, № 11), дразнящей запретной темой инцеста.
Литературным событием можно считать выход в свет книги “Документальный театр. Пьесы” (М.: Три квадрата, 2004), в которую вошли двенадцать пьес молодых авторов.
Каждую из пьес этого своеобразного “собрания сочинений” по праву можно считать литературной новинкой, ибо выполнены они в совершенно новой для российской драматургии технике — вербатим.
Литературная новинка — вербатим
Вербатим в переводе с латинского значит “дословно”11 и представляет собой технику создания текста путем монтажа дословно записанной речи. Схему работы можно изложить по пунктам: драматург выбирает тему, собирает материал, то есть берет интервью у нужных ему людей и записывает их на диктофон, из всего этого делает пьесу и ставит спектакль. Техника эта не является исключительно новаторской (документы часто использовались в художественной литературе и ранее), однако свое новое рождение она получила в XX веке именно в документальной драме, своеобразной “наследнице драмы исторической”12 , а в начале XXI века — в драме-вербатим, использующей исключительно живую речь. Новая методика пришла к нам, конечно, с Запада, в частности, она разрабатывается известным лондонским театром “Ройал Корт” (был открыт в Лондоне в 1956 году как первый репертуарный театр, поставивший себе целью ставить значительные пьесы современных авторов).
Особенно нашумевшие западные спектакли по пьесам-вербатим — “Язык тела” Стивена Долдри (исследование образного, психологического и информационного представления мужчин-гомосексуалистов об их теле), “Серьезные деньги” Кэрил Черчилл (о деловых людях Сити) и др. Ярким примером того, как документальное произведение может воздействовать на общественное мнение, то есть выполнять некую социальную функцию, является пьеса Ив Энслер “Монологи вагины” (“The Vagina Monologues”), написанная в 1996 году. Текст “Монологов…” был составлен из интервью на тему женского тела, взятых драматургом у нескольких сотен женщин. Сначала Энслер читала свою пьесу сама на сцене студенческих и любительских театров, попутно разворачивая рекламную кампанию “Монологов…”. Затем к постановке пьесы на большой сцене были привлечены “звезды” кино и шоу-бизнеса, известные своими феминистскими взглядами. На сегодняшний день явление, выросшее из данной документальной драмы, превратилось в крупнейшее предприятие шоу-бизнеса и вышло за рамки сугубо театрального события: регулярные ток-шоу с участием “звезд”, постановки более чем на сотне профессиональных сценических площадок в двадцати пяти странах мира, проведение ежегодного праздника — V-дня (V-day), объединяющего разнообразные общественные движения женщин (“за права вагины (vagina) против насилия (violence)”)13 , собирающего огромные пожертвования в поддержку женщин, пострадавших от избиений в семье, студенток, детей, женщин бедствующих регионов. “Энслер удалось позиционировать “вагину” как новый бренд”, “все, что было неприличным, моментально вошло в моду и стало приносить доход”, “политкорректность оказалась чрезвычайно выгодным вложением”14 . Размышляя о феномене пьесы, критики и психологи выводят простую формулу успеха: “эпатаж плюс откровение”15 . Эпатажной оказалась сама тема пьесы, в большей степени — ее название, превращенное ныне в “мировой бренд”. “Сексуальное насилие в детстве, инцест — одно из наиболее частых признаний, которые мне довелось выслушать во время интервью”, — говорит Ив Энслер16 .
По тематике “Монологи вагины” созвучны с “Первым мужчиной” русского драматурга Елены Исаевой, однако пьеса Энслер — это прежде всего акция, направленная на непосредственное социальное воздействие.
Для Е. Исаевой это был первый опыт работы с методикой вербатим. Выбрав тему “Взаимоотношения мамы и дочки”, драматург совершенно случайно наткнулась на тему обратную — “Папа и дочка”, а дальше уже никак нельзя было пройти мимо темы инцеста.
После определения темы и сбора материала драматург пишет пьесу на основе “расшифровок” интервью, причем по возможности сохраняются особенности произношения, паузы, интонация и т.п. Во время работы встает вопрос о том, как из интервью создать пьесу. Сложность в том, что автор не имеет права редактировать текст своих персонажей. Он может только компилировать и сокращать. Интервью редко содержит в себе внутренние диалоги, поэтому драматический текст создается либо соединением нескольких монологов, которые автор каким-либо образом связывает между собой, либо компоновкой отдельных реплик из разных интервью. В пьесе Исаевой “Первый мужчина” — три героини, так и обозначенные: Первая, Вторая, Третья. Больше мы ничего о них не знаем. Героини произносят текст по очереди, они не слышат друг друга. Каждая говорит о своем. Вербатим-пьеса — чаще всего монолог или множество перебивающих друг друга монологов:
“П е р в а я. Родители никогда при мне даже не обнимались, не говорили друг другу ласковых слов, не говорили друг другу: “Я тебя люблю”. Зато они постоянно ругались при мне. Помню, маленькая, я засыпала, а они кричали друг на друга за стенкой. Я уши руками зажму и засыпаю, когда плакать устану.
В т о р а я. Самое противное, что я бы полжизни отдала, чтобы понять — где выход.
П е р в а я. Хочется сказать ему: “Давай с тобой просто молча походим по улицам”.
В т о р а я. Он не верит мне, не верит совсем. Ну, и наверное, он прав. Я много врала…
Т р е т ь я. Я родилась, и я умру”.
От зрителя требуется только умение слушать. Постановка любой вербатим-пьесы держится в основном на тексте и физическом присутствии актеров — минимум сценических средств. Язык героев без изменений воспроизводит различные стилистические уровни, социодиалекты, интонацию. Целью игры становится создание иллюзии полного тождества исполнителя с персонажем. Именно поэтому часто актеры сами собирают интервью.
Из-за кажущейся искусственности в создании текста вербатим-драматургию иногда определяют как “неполноценную” драму, как монтаж кусков текста, хотя, скорее всего, следовало бы говорить об искусстве монтажа. Однако при этом не стоит забывать, что монтаж представляет собой лишь прием создания текста.
Практически все написанные на сегодняшний день вербатим-пьесы наполнены, и иногда и переполнены, обсценной лексикой (то есть матерной лексикой и словами, которые неприлично употреблять в обществе). Пьеса Е. Исаевой едва ли не единственное исключение. Однако, несмотря на “интеллигентность” героинь, критики называют спектакль “Первый мужчина” “самым безжалостным”17 из всех спектаклей репертуара “ТЕАТРА.DOC”. Причиной тому — своеобразная композиция спектакля: в этой “пьесе-обманке”18 зритель не сразу понимает, что предметом любви трех девочек оказывается их отец. “Тайна” открывается только в конце первой части пьесы. Во второй части происходит дальнейшее развитие темы. Выясняется, что каждая из героинь так или иначе видела в своем отце именно мужчину.
Темы и русских, и западных вербатим-пьес, как уже говорилось выше, остросоциальны. По сути “Первый мужчина” и “Монологи вагины” говорят об одном. Однако русские драматурги предпочитают проводить границы “между нами и ними”.
Интересно мнение самой Е. Исаевой: “Когда я думаю о подобных западных пьесах и вообще о тематике, которая интересна Западу, — инцест, наркотики, гомосексуализм, изнасилование, всякого рода извращения, мне становится грустно. Такое ощущение, что у них слишком спокойная, устоявшаяся жизнь, поэтому в искусстве необходимы подобного рода изощрения. У нас в России — ничего спокойного и устоявшегося нет, поэтому на какую тему ни начни писать — обязательно упрешься в трагедию, причем высокую. Или в очумительную комедию. Или в то и другое вместе… Нам придумывать ничего не надо. У нас сюжеты — под ногами валяются, только подбирай. Нам не приходится выискивать трагедии. Российская действительность посильнее любого наркотика. Мне кажется, “Монологи вагины” на нашей почве не приживутся. Сделают, конечно, некую волну, соберут кассу. Но глубинно не затронут. Потому что все, что ниже пояса, беспокоит нас постольку, поскольку оно связано с тем, что выше. Сексуальные проблемы возникают от проблем психологических, а не наоборот… Неумение любить и слышать друг друга. И сохранять и уважать свободу друг друга. И строить жизнь гармонично. Это не в нашем веке возникло, и не в России, и не на Западе. Эта проблема бесконечная — из глубины веков и дальше, дальше, дальше.
И потом. Боюсь, что на Западе создатели спектаклей во многом исходят из соображения продажи спектакля, а мы из соображения — философскую проблему решить. Российская школа избалована тем, что можно один спектакль репетировать годами — углубляться в материал, жить этим. А у них — три недели — спектакль готов. Еще три недели идет. И все — новый давай. И что?”19
Подобную позицию разделяют многие русские драматурги, но не все. В общем, вербатим сам по себе не стал в русской драматургии самоцелью. Драматурги так или иначе следуют лучшим традициям русского театра, дописывают тексты, “наполняя бытовые разговоры символическими смыслами”20 . Однако основной формулой успеха по-прежнему остаются эпатаж и откровение. Авторы проектов стремятся ставить такие спектакли, на которые было бы стыдно привести своих родителей.
Эстетика документального театра
Ее основные положения сформулированы в манифесте“ТЕАТРА.DOC”.
“МАНИФЕСТ “ТЕАТРА.DOC”21
(Предложения группы Вартанов-Копылова-Маликов по созданию манифеста “ТЕАТРА.DOC”):
“ТЕАТР.DОС” — организация, придерживающаяся определенных эстетических принципов.
Творческие группы, сотрудничающие с театром, обязаны учитывать данные принципы при подготовке своих спектаклей/разовых акций.
Цели и задачи:
1. “ТЕАТР.DОС” отражает острые конфликты современного общества.
2. “ТЕАТР.DОС” исследует пограничные зоны человеческого существования.
3. “ТЕАТР.DОС” приветствует конфликтность позиции автора.
4. “ТЕАТРУ.DОС” интересны провокационные темы.
5. “ТЕАТРУ.DОС” интересен новый взгляд на привычные явления.
6. “ТЕАТРУ.DОС” интересны инновационные техники создания театрального произведения.
7. “ТЕАТРУ.DОС” интересны темы, которые ранее не исследовались театром.
8. “ТЕАТРУ.DОС” важна простота и ясность высказывания.
9. “ТЕАТРУ.DОС” важна социальная значимость произведения.
10. “ТЕАТРУ.DОС” отрицает понятие “искусство ради искусства”.
Эстетика постановок:
1. Минимальное использование декораций.
— громоздкие декорации исключены
— пандусы, помосты, колонны и лестницы исключены
2. Музыка как средство режиссерской выразительности (музыка “от театра”) исключена.
— музыка допустима, если ее использование оговорено автором в тексте пьесы
— музыка допустима в случае ее живого исполнения во время представления
3. Танец и/или пластические миниатюры как средство режиссерской выразительности исключены.
— танец и/или пластическая миниатюра допустимы, если их использование оговорено автором в тексте пьесы
4. Режиссерские “метафоры” исключены.
5. Актеры играют только свой возраст.
6. Актеры играют без грима, если использование грима не является отличительной чертой или частью профессии персонажа”.
Следует отметить, что проект “Документальный театр” не ограничивается только документальными пьесами. “Нас в принципе интересует новая пьеса. Не любая, но прежде всего произведения с активной социальной позицией”22 — так определяет критерии отбора пьес один из руководителей проекта Е. Гремина.
Здесь нет ни слова о художественности, четкой форме, драме в традиционном понимании — есть зритель, на которого нужно подействовать, повлиять, и все средства хороши. В “ТЕАТРЕ.DOC” ставились и будут ставиться пьесы, которые не могут быть поставлены в других театрах из-за несоответствия формату или по причине провокативности материала. Критики отмечают, что все большее сжатие продолжительности спектакля давно стало характерной приметой современного театра23 . Спектакли “ТЕАТРА.DOC” длятся чаще всего не более часа. Причины подобного “сжатия” критики видят, во-первых, в ускорении темпа жизни вообще (у современного зрителя нет времени на полноформатную пьесу с антрактом); во-вторых, “эмоциональная насыщенность документального материала <…> оказывается настолько высокой, что часа хватает, чтобы до нутра пропитаться непридуманными страстями”24 .
Провокативность материала, как уже говорилось выше, с одной стороны, восходит к “чернухе” 80—90-х годов XX века, с другой стороны, продолжает традиции натурализма. Несмотря на общую “усталость” зрителя, “перекормленного экстримом”, спектаклям-вербатим удается шокировать публику. Этот факт доказывает, что “наше, казалось бы, разъеденное постмодернизмом общество не менее тоталитарно, чем советское времен Брежнева или американское времен маккартизма”25 .
И дело не в обсценной лексике. Как уже отмечалось, в тексте Е. Исаевой “Первый мужчина” подобная лексика отсутствует вообще, однако этот факт не отменяет провокативности как пьесы, так и спектакля. Несомненно, вербатим-драматургия может быть соотнесена с “шоковой драматургией”, но с той лишь разницей, что тексты-вербатим в меньшей степени испытали на себе авторскую обработку и в большей степени документальны.
Критика часто непримирима к такой драматургии, видя в ней лишь способ к разрушению традиции: “Разрушение классического сюжета, текста как основы драматургии, передразнивание жизни, искусство, которое прикидывается реальностью, — путь для новой драмы достаточно сомнительный, но ведь это всего лишь один из путей”26 .
Или разрушения нравственности: “Героями печатного слова у нас стали сплошь отбросы общества, чьи интересы не лежат дальше утреннего опохмела”; в пьесах доминирует “наглая и высокомерная, пошлая и бестактная” интонация. В результате журналист увидел в новой драматургии только “смакование интимных подробностей и упражнения в ненормативной лексике”27 .
Негатив критической оценки преобладает в отношении к новой драматургии: “Если на сцене вам рассказывают про инцест, изнасилование, убийство или однополую любовь, чередуя действия с разговорами о смысле жизни, пересыпанными обильным матом, знайте: это Новая драма”28 .
Самые частые упреки, которые могут услышать драматурги-документалисты, — в отсутствии художественного начала в их произведениях, утверждения о том, что документальные пьесы не могут быть фактом искусства, так как все, что в них написано, можно увидеть и на улице, и т. п.
Однако у современной документальной драмы есть своя традиция, восходящая по крайней мере к тем временам, когда писались манифесты европейского натурализма и воплощались в жизнь, встречая на своем пути столь же убежденное сопротивление: “…если верно, что буквальное подражание есть конечная цель искусства, то знаете ли, что будет лучшей трагедией, лучшей комедией, лучшей драмой? — стенографические отчеты об уголовных процессах: в самом деле, там воспроизведены все без исключения слова. Ясно, однако, что если в них встречаются порой естественные черты и порывы неподдельного чувства, то это лишь крупицы драгоценного материала в нечистой и грубой горной породе. Они могут служить материалом для писателя, но не имеют ничего общего с художественным произведением” (И. Тэн “Философия искусства”)29 .
Так полагали в XIX столетии, но нет ли дополнительных аргументов для опровержения этого мнения теперь — в начале XXI века? Документальное кино, как и документальные фотографии, уже воспринимается как феномен искусства30 . Художественность возникает за счет типичности жизненных сцен, необычной съемки, монтажа. Некогда чрезвычайно кассовый и знающий механизм успеха драматург Афанасий Салынский отмечал: “Документальность может быть отличным средством изображения жизни и воздействовать на зрителя так же сильно, как воздействуют средства традиционно художественные”31 . Главное при этом, чтобы документ не использовался “как удобное прикрытие безответственности или бесталанности писателя и режиссера”32 .
Сложно согласиться с тем, что в документальном произведении не может быть ни строчки вымысла. Это практически невозможно. “Там, где нет документа, — нет и документальной пьесы”33 . С той же долей уверенности можно сказать, что там, где нет хотя бы малейшего вымысла, не может быть пьесы вообще. Ясно, что наличие одного лишь документа не решает проблему искусства.
Документалист с самого начала ограничен рамками имеющегося у него материала, хотя так же, как и любой другой писатель, стремится к типизации и обобщению, которых и достигает за счет выбора и отбора фактов. Разница между работой традиционного драматурга и работой драматурга-документалиста состоит лишь в том, что документалист опирается прежде всего на реально существующие явления, на уже зафиксированные факты, и только потом — на свою фантазию и память. Любой документальный фильм, фото, документальная пьеса своим появлением обязаны прежде всего самим героям, их действиям, их присутствию в действительности на правах безусловного факта. По меткому замечанию П. Пави, документалист очень часто “выступает против манипуляций с фактами, в свою очередь, манипулируя документами, преследуя собственные цели”34 .
Кроме того, современная тенденция драматического письма сводится к требованию пригодности любого текста к возможному мизансценированию: “Любой текст поддается театрализации, когда используется на сцене”35 . Три ключевых понятия документального театра: монтаж, театрализация и социальная функция.
Именно поэтому говорить о нетеатральной природе документальных пьес и ограничиваться оценочными суждениями — по меньшей мере непрофессионально.
Другой упрек, наиболее часто предъявляемый экспериментальному театру, — это использование неприглядных персонажей, напоминающих о “чернухе” перестроечного времени, или персонажей, ранее не задействованных на театральной сцене. В существующих и поставленных на данный момент пьесах-вербатим действуют: шахтеры (“Угольный бассейн” театра “Ложа”), рыбаки (“Рыбалка” Ильи Фальковского), солдаты (“Солдатские письма” театра “Бабы”, “Цейтнот” Екатерины Садур, Георга Жено), работники телевидения (“Большая жрачка” группы Вартанов-Копылова-Маликов), преступницы-рецидивистки (“Преступления страсти” Галины Синькиной, “Яблоки земли” Екатерины Нарши), бомжи (“Бездомные” Александра Родионова, Максима Курочкина), гомосексуалисты (“Гей” Александра Вартанова, Сергея Калужанова), политтехнологи (“Трезвый PR-1” Ольги Дарфи)36 .
Как видим, в этом списке присутствуют не только “люди дна”. Вышеперечисленные группы объединяются не по признаку принадлежности их к “отбросам общества”, а по общему роду занятий (шахтеры, солдаты, политтехнологи), социальному положению, сексуальной ориентации. Таким образом, эти группы образуют некие субкультуры.
Субкультура — это устойчивые совокупности норм, ритуалов, особенностей внешнего вида, языка (сленга) и художественного творчества (как правило, любительского), характерные для отдельных групп со специфическим образом жизни, которые осознают и, как правило, культивируют свою обособленность. Повышенное внимание к различным субкультурам вызвано, во-первых, продолжением “вскрытия” не исследуемых ранее пластов общества — отсюда провокативность, экстравагантность и эпатажность экспериментального театра. Во-вторых, если смотреть шире на то, что происходит сейчас в культуре вообще, то, по словам журналиста И. Смирнова, можно наблюдать все признаки подмены культуры субкультурой, так как разворачивается коммерческая эксплуатация субкультур: “Судя по пьесам, которые уважаемый Британский Совет представил в Москву на Чеховский фестиваль, и по комментариям не менее уважаемого “Ройал Корт”, подобная переоценка ценностей вдохновляет некоторых наших коллег. Когда-то теоретики классицизма утверждали, что героем трагедии может выступать только человек благородный — так теперь нормальным людям навязывают героев из числа криминальных меньшинств. В кино и некоторых направлениях популярной музыки откровенно смакуются криминальные субкультуры со всеми их тошнотворными атрибутами”37 .
Почему “изнанка бытия” так усердно выносится на всеобщее обозрение, причем довольно часто, особенно на Западе, это происходит из коммерческих соображений? Почему зрители “поглощают” “тошнотворные атрибуты” и телевидения, и искусства с удовольствием? Почему то, что считалось неприличным, стало модным?
Этот вопрос требует отдельного социологического и философского осмысления. Ясно только, что происходящие явления напрямую связаны с феноменом массовой культуры и связанным с ним “культом молодежи”, то есть культом молодости как выражения физической мощи. Культ молодости существует параллельно с культом технократии, что в свою очередь породило “культ эстетической агрессивности <…> и, как следствие, культ насилия, секса и вульгарности везде и повсюду, и в первую очередь в информатике и искусстве, и пошлость стала “нравственной” нормой жизни”38 .
Искусство оказывается вынужденным обслуживать запросы “массового человека”: “Современный художник, зависимый от спроса, чувствует, что обслуживает шариковых, которые являются фактическими животными, моментально забывающими все, что с ними было вчера, и нацеленными на “вкусное” проживание “здесь и сейчас””; “сегодняшнее общество как будто требует от художника лишь одного: быть оригинальным и новым, эффектно интересным во что бы то ни стало”39 .
Быть оригинальным и новым, быть интересным — вот что требует от художника постмодернистская культура. Ничего более. Однако экспериментальный театр и не может быть другим. Для этого театра не имеет значения, что скажет критика, более того — совершенно неважно, как реагирует зал. Важным и существенным его признаком является как раз противопоставленность, с одной стороны, театру коммерческому, основная цель которого — финансовая рентабельность, и, с другой стороны, театру с классическим репертуаром, ставящим пьесы только завоевавших всеобщее признание авторов. Цель экспериментального театра — трансформировать взгляд зрителя, часто пребывающего во власти тех или иных стереотипов, заставив его вопрошать, вызвав в нем смятение от столкновения с необычными текстами и их воплощением. Публика в любом случае находится в центре эксперимента, в результате которого меняется ее отношение к произведениям искусства, причем для экспериментального театра важен сам процесс переосмысления и осмысления зрителем всего действа, а не выявление им каких-либо отдельных составляющих40 . Текст рассматривается как материал, как монтаж фрагментов, то есть как предмет постмодернистской игры.
Экспериментальный театр часто обвиняют в непрофессионализме. Невозможно избежать подобных упреков и молодым драматургам. Однако любой эксперимент предполагает готовность искусства к поиску, даже к ошибкам ради того, что, по определению Пави, “еще не существует”, “ради скрытой истины”41 . Подобное “право на поиск”, а значит, и на ошибку, побуждает создателей экспериментального спектакля постоянно вносить изменения в текст, режиссуру, заставляет рисковать отношением к нему публики. Зрители могут отказаться от просмотра просто по причине эпатирующего названия или уйти со спектакля, не выдержав “зрелища”, как это часто и бывает.
Чего они добиваются?
Вскрывая “правду жизни”, современный театр обозначает проблему или усугубляет ее? Для многих, и в частности для Е. Исаевой, документальный театр — “возможность выговориться”.
Документалисты не любят слово “натурализм”. “Думаю, что желание “подсмотреть” возникать не должно, — говорит Елена Исаева о своем спектакле. — Должно возникать желание — сопереживать, как и в любом другом театральном произведении”42 .
Во время сбора материала драматурга удивило то, что женщины охотно рассказывали о глубоко интимных вещах, зная, что потом из их рассказов сложится пьеса, но, видимо, их негативный опыт требовал вербального воплощения, “проговоренности”, приносящей облегчение. Налицо некий психотерапевтический эффект. И не случайно многие, по словам Исаевой, потом упрекали ее в том, что она выбрала “тему для психиатра”.
Сама Исаева так комментирует свое решение все-таки выпустить в свет этот “негатив”:
“Если среди нас есть какой-то процент женщин, страдающих “на эту тему”, то они должны понимать, что их проблема волнует не их одних, они должны понимать, что с “этим” можно жить, что “это” можно преодолеть и найти выход помимо самоубийства.
Конечно, есть еще масса проблем, о которых говорить непривычно, трудно, непонятно — как. Но загонять все внутрь себя и потихоньку сходить с ума от этого — тоже не выход. Выход — дать возможность выговориться, обсуждать, а не осуждать, пытаться помочь — это то немногое, в чем мы не можем отказать им.
К тому же опыт годичного существования спектакля показал, что он вызывает интерес не только у тех немногих, кого это впрямую касается, но и у большинства зрителей, потому что проблема господства и подчинения, манипулирования друг другом, желание добиваться любви любой ценой, властвовать над близким человеком, которого любишь, — существуют в той или иной форме в любой семье и касаются каждого”43 .
Таким образом, театр вновь становится местом публичного обсуждения социальных проблем, снова вовлекает в это обсуждение зрителя...
Много интересного в процессе работы обнаруживают для себя сами драматурги и актеры. И это ценное, обнаруженное ими, открывают зрителю. Яркий пример — работа над проектом “Бездомные” Александра Родионова и Максима Курочкина (спектакль по этой пьесе — “Песни народов Москвы”).
Какие цели можно преследовать, занимаясь сбором материала о бомжах? Максим Курочкин отвечает: “Задача — дать жесткую картину, где неприятно выглядит даже сам автор. Потому что он-то пойдет дальше, не будет менять жизнь этих бомжей. Он тоже виноват перед ними”44 . Авторы и актеры показывают зрителю ту крайнюю степень равнодушия и безразличия, которая царит в нашем обществе. Во время сбора интервью выяснилось, что бездомным очень важно, чтобы другие люди не подумали плохо о тех, кто им хоть как-то помогает. Они могут на протяжении нескольких лет ночевать в коридоре перед квартирой у старого друга и не знать, как выглядит его кухня, ванная, туалет. Но они хотят, чтобы друг в этой ситуации выглядел красиво. А вывод, к которому пришли авторы и к которому они подводят зрителей, — ни один из нас не способен даже на такое. И человек, который так позорно помогает бомжу, на самом деле является героем.
Защищать интересы других — модная болезнь в среде всех документалистов. Они как бы говорят от лица тех, у кого нет собственного голоса. В иные времена это вряд ли было бы возможным, а в современном мире демократии каждое сообщество может рассказать о себе. Обычно это делается средствами печати и кино. Тем более странно, что и театру удалось стать площадкой, на которой обсуждаются политические и общественные проблемы.
Один из самых скандальных и эпатажных спектаклей — “Большая жра
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Ошибка Киплинга
Юлий Самойлович Мурашковский «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись...» – писал когда-то великий английский поэт Р
- Человек с двумя мечами
В современной процветающей Японии мало что может напомнить о тех временах, когда люди падали ниц при появлении человека с двумя мечами.
- Евреи и европейцы
Михаил ПоджарскийЭта статья - о вкладе евреев в становление европейской цивилизации, об их совместной судьбе. Она писалась не оригиналь
- Жизнь ради смерти
Согласно буддистскому обряду мертвое тело самурая сжигалось, а память о нем и о его подвигах начинала свою жизнь в сердцах его близких, о
- Архитектура Марокко
В сравнении с архитектурой других арабских стран марокканская заметно выделяется пышностью, вниманием к деталям. Объясняется это долги
- Япония: Закат которого не было
Сегодняшние потомки славных своими подвигами самураев не носят мечей и не имеют обыкновения вспарывать себе животы. Но, даже сменив дос
- Символы Швейцарии
Швейцария — страна маленькая, всего-то сорок с небольшим тысяч квадратных километров. Она даже меньше Московской области. Зато здесь це
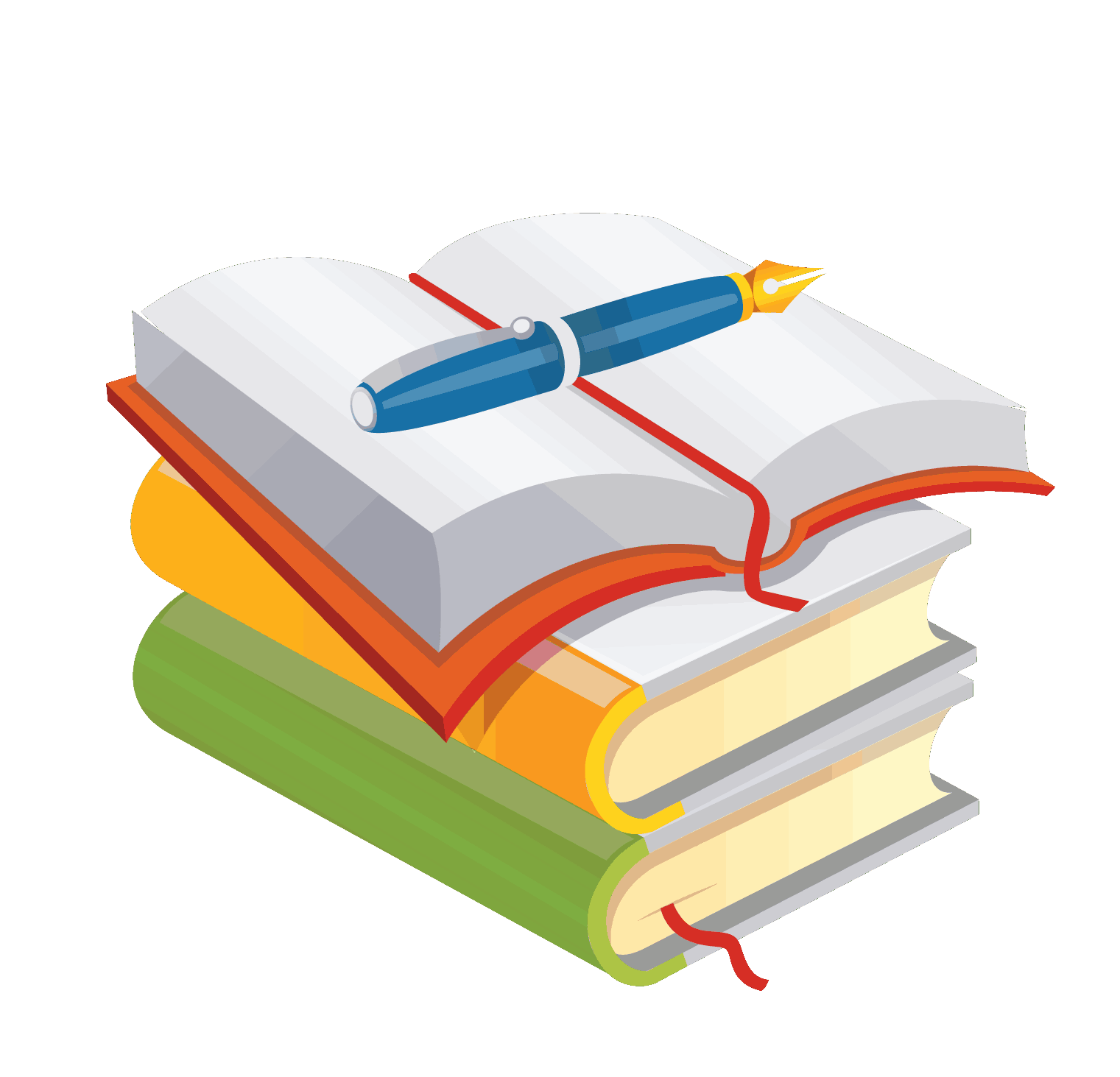 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.