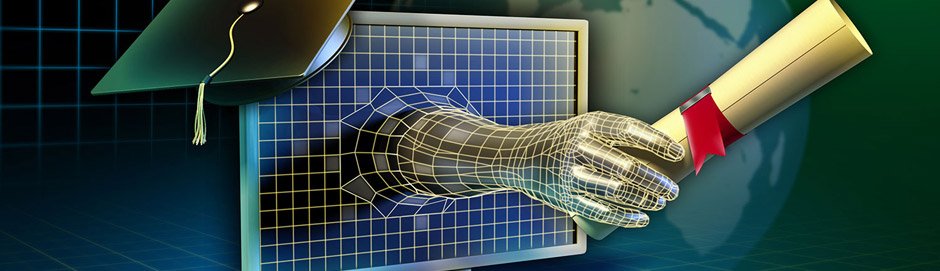Национализм и демократия
Нодия Г.
Падение коммунизма в Восточной Европе и на территории бывшего Советского Союза немедленно повлекло за собой как огромные достижения в области либерализации и демократии, так и возрождение национализма. На взгляд многих исследователей, здесь таится противоречие, поскольку они рассматривают национализм как явление принципиально антидемократическое. Я же полагаю, что это поверхностный взгляд, который мешает понять реально происходящее в посткоммунистических странах, а также и в других частях света. Как бы там ни было, опыт антикоммунистических революций требует от нас переосмысления не только отношений между национализмом и демократией, но и многих других постулатов, на которых основана современная цивилизация.
Первой значительной попыткой подобного переосмысления были раздумья Ф.Фукуямы (Francis Fukuyama) о "конце истории", изложенные в его работе, вышедшей в свет летом 1989 года (1). Основная идея Фукуямы, развитая им в дальнейшем в целую книгу, сводилась к тому, что распад коммунизма оставил идеи либеральной демократии без реального противовеса, когда невозможно было определить какую-либо идеологию-конкурента (2). Иными словами, наступила постисторическая стадия развития человечества, которая, сколь ни скучна она на первый взгляд, более не содержит в себе никакой идеологической угрозы для либеральной демократии.
В целом разделяя мысли, изложенные в работе Фукуямы, я не согласен с его чисто негативной оценкой роли национализма в возникновении, развитии и победе либеральной демократии. Проще говоря, Фукуяма (несмотря на ряд оговорок и сносок) согласен с доминирующим на Западе оценкой демократии и национализма как явлений взаимовраждебных (3). Победа одного из них возможна лишь за счет другого. Более того, демократия в данном контексте представляется термином, к которому легко применимы такие определения, как "хороший" "цивилизованный", "прогрессивный", "рациональный" и т.д., в то время как национализм ассоциируется с "отсталостью", "незрелостью", "варварством", "иррациональностью" и т.д. С учетом вышесказанного, исходное положение работы Фукуямы сводится к тому, что "иррациональность национализма", не может быть серьезной альтернативой демократии, и история таким образом благополучно закончилась. Весьма оптимистическая позиция! Между тем, пессимисты вроде Шломо Авинери (Shlomo Avineri) не согласны с этой точкой зрения, и утверждают, что не либеральная демократия а именно национализм явился реальным наследником коммунизма, а это означает, что история продолжается(4).
Но что, если национализм и демократия это не две разные философии? Что если национализм является компонентом более сложного явления, которое со всеми его составляющими как раз и именуется "либеральной демократией"? Поднимая эти вопросы, я имею в виду, что идея национализма невозможна - даже теоретически - без идеи демократии, и что демократия никогда не существовала без национализма. Эти два компонента соединены причудливым браком, не могут жить друг без друга, хотя и сосуществуют в состоянии постоянного напряжения. Развод представлялся бы логичным выходом из положения для западного либерала, напуганного опытом национализма в Европе ХХ века. Но с учетом реальной расстановки политических сил такой подход можно считать просто выдачей желаемого за действительное.
Распад коммунистической системы и развал Советского Союза продемонстрировали наглядно верность моей точки зрения. И напротив, неспособность основных политических учений Запада проанализировать развитие посткоммунистического Востока во многом объясняется односторонним подходом к оценке национализма и его отношениям с демократией.
Эта односторонность во многом объясняется излишней ориентированностью западной политологии на экономический детерминизм и непроверенные постулаты. Считается само собой разумеющимся, что социальное развитие общества нельзя "научно объяснить", не опираясь на условия экономического развития данного общества. Однако и это лишь шаг к современной инструментальной доктрине, в соответствии с которой нации и национализм возникают в результате 1) индустриализации 2) манипуляций массами народа, предпринятыми элитами, преследующими свои собственные (исключительно экономические) интересы. Этот "научный" подход однако, не мешает тем же самым исследователям пользоваться терминами "демократия" и "национализм" как оценочными, а не описательными категориями. Демократии отводится роль положительного героя, не имеющего ничего общего с "плохим" национализмом.
Безусловно, ни один политолог не может избежать оценочности в своих описаниях. Это не удавалось еще никому,. Я, например, согласен с Уинстоном Черчиллем в том, что демократия - это очень плохая политическая система, у которой есть лишь одно оправдание - все другие еще хуже. Однако оценочность несовместима с теоретическим подходом. Будучи теоретиком, я не могу рассматривать национализм в категориях "плохо" или "хорошо". Важно то, что он существует. С другой стороны - и здесь я согласен с Фукуямой - социальные реалии не зависят исключительно от объективных данных; субъективные факторы человеческого отношения, сводящие на нет все попытки схематизировать ситуацию, могут влиять на ситуацию и влияют на нее. Совершенно очевидно, что мы должны иметь в виду это положение, пытаясь понять отношение между демократией и национализмом.
Принципиальным моментом в нашем анализе национализма и демократии является изначальное введение определенных разграничений. Во-первых, в то время как термин "демократия" зачастую считается взаимозаменяемым с термином "либеральная демократия", последний включает в себя две самостоятельные идеи. Либерализм и демократия это понятия, совместимость которых на сегодня не столь очевидна, как казалось еще недавно среднему западному гражданину. Между ними существует различие и даже напряженность, которая заставляет их по-разному относиться к национализму.
Во-вторых, нельзя игнорировать важность различий между нарождающимися демократиями (которые обычно характерны для вновь образованных государств) и устоявшихся демократических режимов, существующих в государствах с долгими традициями непрерывавшейся суверенности. Национализм работает по-разному в каждом из этих типов стран. Соединив два эти различия, можно сказать, что экзамен на зрелую демократию может считаться сданным только там, где удалось достичь правильного соотношения либеральных и демократических принципов, в то время как родовые потуги, характерные для рождающихся демократий, это лишь усилия к достижению подобного компромисса.
Третье различие, которое я считаю полезным здесь ввести, это различие между "доморощенными" и "импортированными" моделями либеральной демократии. Современная демократия впервые зародилась на северо-западе Европы и в Северной Америке. В дальнейшем демократическая модель распространилась по всему миру, и теперь, после поражения коммунизма в "холодной войне", похоже, воцарилась во всем мире. Но можно ли считать, что исторические предпосылки и механизмы, которые объясняют реальное зарождение демократии, сопоставимы с теми, которые привели к ее распространению? Можно ли говорить, что соотношение либеральных и демократических принципов было одним и тем же в "исконных" и "импортированных" демократиях?. Играл ли в обоих случаях национализм одну и ту же роль? Ответ, на мой взгляд однозначен - нет. Это так же полезно иметь в виду при ведении анализа.
И наконец, необходимо помнить, что сейчас мы имеем дело с явлением беспрецедентным в истории: переход к либеральной демократии после коммунизма. Все предыдущие переходы происходили в более традиционных обществах. Предполагает ли это, что национализм сыграет в данной модели более принципиальную роль в демократических преобразованиях? Я полагаю, - да.
Логика демократии
Основой основ демократии является принцип народной власти, который предполагает, что правительство может быть легитимировано только через волю тех, кем оно правит. Этот принцип можно отличать от тех демократических процедур, которые разработаны как средство определения того, чего же на самом деле хочет народ. Основной из этих процедур, безусловно, являются выборы. Другой набор процедур помогает защитить демократию, ограничивая власть избранных правителей через разделение властей, ограничение перевыборов, специальных требований к внесениям поправок в конституцию и т.д.
Предполагается, что демократия - это высокорациональная модель. Ее связь с рационалистическими и философскими традициями легко прослеживается через понятие социального контракта. Социальный контракт предполагает, что общество состоит исключительно из свободных и умеющих считать индивидов, нацеленных на максимализацию собственных интересов. Демократия - это система правил, легитимированных волей народа: предполагается, что волеизъявление народа всегда будет четко соответствовать интересам этого народа.
Таким образом, все, что не является достаточно рациональным, будь то иррациональная философия или иррациональные человеческие чувства, обычно рассматривается как нечто противоречащее идее демократии. Национализм - это лишь один из примеров "иррационального" феномена, который, как полагают, противоречит завоеваниям демократии. Настаивая на том, что существует необходимая и позитивная связь между национализмом и демократией, я сознательно восстаю против этой общепринятой точки зрения.
Чтобы убедиться в том, что нерациональный феномен, такой как национализм, может быть жизненно важным элементом демократической системы, можно сравнить данную систему с игрой. Демократия, подобно игре, имеет свои правила, незыблемость которых полностью зависит от готовности определенного сообщества (будь то игроки или граждане) соблюдать их. Эта аналогия хорошо соотносится с обоими упомянутыми аспектами демократии: принципом народовластия и тем фактом, что власть народа может реально быть выражена только в пределах определенного набора правил (конституции и законов), созданных от имени этого народа.
Народовластие сводится к притязанию на то, что "Мы, народ..." собираемся играть только по тем правилам, которые мы сами для себя свободно выбрали. Эти правила (в отличие от правил игры) обычно предполагают наличие неких независимых моральных ценностей, которые в свою очередь могут основываться на определенных религиозных верованиях ("веруем во единого Господа"). Однако конкретная интерпретация этих абсолютных ценностей (или воли Господней) зависит от личности верующих - от "нас, народа". Таким образом, демократия принципиально отличается от политических систем (будь то традиционные или современные системы), в которых некая правящая элита трактует божественную волю (либо как ее эквивалент, марксистские "законы" исторического развития) и в соответствии с этой трактовкой правит обществом.
Если рассматривать демократию как игру, многие ее аспекты будут выглядеть абсолютно рационально. Но продолжив аналогию, мы вскроем и иррациональный аспект демократической модели. Помимо правил, игра предполагает наличие команд игроков и игровой площадки. В играх все это сугубо условно и случайно. Но с демократией дело обстоит не так. Законы демократии (правила игры) могут быть продуктом консенсуса рациональных политиков, но состав и территория ("игроки" и "игровая площадка"), в рамках которых действуют эти законы, определить таким же способом невозможно.
Демократия, безусловно, имеет набор стандартных категорий для определения состава игроков и игровой площадки: гражданство и границы. Но критерии, определяющие, кто именно является гражданином, и где именно проходят границы, уже не удается вывести из каких-либо логических построений в рамках демократической модели. Успешное развитие демократии предполагает урегулирование этих вопросов, независимо от того, обладает ли демократическая модель какими-либо внутренними ресурсами для логичного и рационального их разрешения. Справедливо, что демократический принцип самоопределения и демократические процедуры голосования могут способствовать их разрешению, но сама логика демократии не дает никаких специфических критериев для влияния на электоральное поведение граждан либо для определения того, какие именно народы и территории должны быть включены в политику. Не позволяет она объяснить и того, почему данная группа граждан или данная территория должна - или наоборот, не должна - войти в состав (или выйти из состава) некой более крупной политической единицы.
Поскольку идеи демократии универсальны, логичным было бы распространить принцип власти народа повсеместно. Но это предполагает, что повсеместно должны пройти демократические преобразования, и что именно этих преобразований повсеместно желают народы. История показывает, что оба эти предположения не выдерживают проверки реальностью. Демократия всегда возникала в отдельных сообществах. Еще нигде не зафиксирован случай, когда свободные, не связанные друг с другом сознательные индивидуумы спонтанно сошлись бы вместе, чтобы заключить демократический социальный контракт на пустом месте. Нравится нам это или нет, национализм есть та историческая сила, которая позволила объединить политические организмы в демократические модели правления. "Нация" вот другое название понятия "мы, народ".
Создание наций
Традиционный европейский национализм пытался сформулировать объективные характеристики жизни наций, которые позволили бы любому сообществу людей высказать рациональное суждение по поводу своих прав на "самоопределение". К этим характеристикам относились язык, общие корни, историческая традиция государственности или чего-то соответствующего государственности. Все это должно было - как минимум предполагалось, что сможет - заложить рациональный фундамент в основу будущей демократической конструкции. Таким образом, должен был бы найтись всеобщий объективный критерий, позволяющий определить принципы "честного" распределения территории между народами. И если бы у кого-то возникли сомнения по поводу правомерности членства неких групп граждан в данной нации, эти критерии должны были предоставить однозначные справедливые стандарты для ответа на все спорные вопросы.
Но реальная история национализма, не говоря уже о теоретических изысканиях, предложенных такими исследователями как Ганс Кон и Эрнст Геллнер (Hans Khon and Ernest Gellner) показали, что такие объективные и всеобщие критерии в реальной жизни недостижимы (5). Развитие наций из предшествовавших им этнических сообществ всегда сопровождалось историческими катаклизмами и сознательными усилиями политиков. В мире просто нет национальных границ, данных от Бога, или предопределенных естественным развитием.
Если последнее суждение и подрывает претензии национализма на универсальный рациональный подход, оно тем не менее ничего не меняет в функции национализма как плавильного котла демократических (в смысле самоопределяющихся) политических сообществ. Критерии, по которым нации отличаются одна от другой, могут не быть универсальными, но политическое единство, необходимое для демократии, не может быть достигнуто без того, чтобы люди не определили себя сами как "нацию".
Не вполне рациональный характер националистических принципов может потрясать основы демократии и даже вести к кровопролитию. При отсутствии универсальных критериев принадлежности к нации возникают конфликты, урегулирование которых не всегда возможно на основе рациональных решений. Сложно найти какую-либо, пусть даже островную нацию, у которой не было бы территориальных споров с соседями. Типичным средством разрешения подобных конфликтов служит война. Многие нации вынужденно рассматривают этнические меньшинства как потенциальных предателей, а те в свою очередь видят в этнически более крупных сообществах потенциальных угнетателей. Существуют различные способы разрешения подобных проблем: радикальным, финальным решением служит геноцид или изгнание; взвешенным решением может служить ассимиляция, компромиссным решением - различные схемы коммунальной и региональной автономии в рамках федерального государства. Лишь крайне редко решение достигается без боли и насилия, что и объясняет стремление сторонников современных моделей демократии сознательно избежать националистических подходов. Однако желаемое и действительное - это не одно и то же.
Попытки отрицать реальное положение вещей и важность национализма зачастую проистекают из нежелания признать тот факт, что демократическая модель, которую представляют вершиной рационального развития, в действительности опирается на иррациональный фундамент. На ранних стадиях становления демократической модели особенно очевидно, что иррациональность политических дефиниций (определяющих, кто именно входит в понятие "мы, народ") является необходимым предварительным этапом рационального политического поведения. Непризнание этого факта для многих западных мыслителей не позволила последним понять, что же в действительности происходило в Советском Союзе (а вернее, с Советским Союзом) во время перестройки. Их предупреждения о том, что национализм окажется основным препятствием на пути демократических реформ, игнорировали тот непреложный факт, что все реальные демократические движения (кроме демократических движений в самой России) были одновременно и движениями националистическими.
Лидерам республик, ориентированных на независимость, задавали вопросы, чего именно они надеются достичь с помощью независимости для своей экономики, в то время как для этих лидеров независимость была конечной целью сама по себе, а не просто средством достижения экономического процветания. Взаимозависимость между демократией и национализмом проявилась еще и в другом.
Современные демократические режимы, как и современные нации, являют собой искусственные конструкции. Демократии, зародившиеся на более раннем этапе, были напрямую связаны с полисами, классическими городами-государствами. Эта демократия была личностной: модель действовала на малой территории, граждане знали друг друга в лицо и общались напрямую. Современные демократические модели вышли далеко за пределы этих интимных границ, что заставляет граждан развить в себе чувство сообщества, основанное не на их личных ощущениях, а, скорее, на оценках и представлениях (6). Для большинства из них, то есть граждан, современные нации и демократии слишком велики, чтобы можно было обойтись без "домысливаемых" свойств.
Очерк Эжена Вебера "Превращение крестьян во французов" показывает, что во времена Французской революции (когда и возникла французская нация в современном смысле этого слова) очень немногие из сельских жителей во времена старого режима считали, что они являются французами также и потому, что многие из них даже не говорили по-французски (7). Интеграция явилась плодом запланированных централизованных, иногда даже суровых политических мер. Поэтому сложившаяся французская нация получилась скорее "искусственной", чем "естественной". Эту книгу можно было бы назвать также "Превращение крестьян в граждан", что подчеркнуло бы парадокс, заключающийся в возникновении граждан ("жителей городов") из крестьян ("жителей сельской местности") без перемещения их в города. Таков парадокс, на котором базируется возможность существования современной демократии, ибо демократия, будучи прежде всего городским явлением, должна была распространиться по всей стране (в смысле, по всей сельской местности, где большинство людей жило на рассвете демократизации). Это могло быть осуществлено только путем сознательных политических мер, предпринимаемых либо централизованной государственной бюрократией, культурной элитой или иными органами. Фактически превращение крестьян во французов и граждан явилось единым процессом. Крестьян можно было превратить во французов, только превратив их в граждан, и наоборот: эти два момента могут быть разделены только теоретически, но не практически (8).
Таким образом, сам процесс построения демократии связан с формированием наций из прежде существовавшего этнического материала. Высказывание Эрнста Гельнера ("Национализм порождает нации") подразумевает также, что демократические преобразования (а не только индустриализация или капитализм) порождают нации (9). Вот почему в зарождающихся демократиях движение за независимость и движение за демократию часто совпадают. И то и другое действует во имя "самоопределения": "Мы, народ" (то есть нация) будем решать нашу собственную судьбу; мы будем соблюдать только те правила, которые сами устанавливаем, и мы не позволим никому - будь то абсолютный монарх, узурпатор или иностранная держава - править нами без нашего согласия.
Этот аргумент имеет особенную силу в случае зарождающихся демократий, где необходим национализм для запуска механизма демократизации. Роль национальных чувств в сохранении процесса демократизации различна. Как только демократии станут стабильными и надежными в своих границах, интенсивность и важность национальных чувств может постепенно снижаться. Можно спорить о том, происходит или нет нечто подобное в современной Западной Европе, но это отдельный вопрос.
Либерализм против национализма
Многие упреки национализма во имя демократии являются на самом деле упреками национализма во имя либерализма. Под либерализмом я имею в виду то учение, согласно которому свобода индивида является основной политической ценностью. Напротив - национализм отдает приоритет коллективным требованиям на основе рассовой, культурной или какой-либо иной общинной идентичности. Либерализм отстаивает право личности выбирать, в то время как национализм выдвигает на первое место то, что не зависит от личного выбора.
Однако это противоречие означает нечто большее, чем предпочтение тех или иных ценностей. В основном либеральная критика национализма заключается в утверждении, что нация "нереальна" ("воображена", "создана", "выдумана" и так далее), в то время как отдельная человеческая личность вполне "реальна". С этим мнением тесно связано понятие о том, что индивид (носитель неотъемлемых прав) "рационален", в то время как нация "иррациональна". Нации считаются иррациональными и нереальными, потому что, как мы видели ранее, не существует общепринятых объективных критериев нации. Фукуяма дает следующее оправдание такой дифференциации:
"Различие между человеческим и нечеловеческим вполне рационально: только человеческие существа свободны, то есть способны бороться за признание в битве за чистый престиж. Это различие основано на природе или, скорее, радикальном различии между царством природы и царством свободы. С другой стороны, различие между одной человеческой группой и другой - это случайный, произвольный побочный продукт человеческой истории (10)".
Этот отрывок показывает сколь шаткими являются притязания либерализма на рациональную обоснованность. Различие между человеческим и нечеловеческим рациональны в том смысле, что оно очевидно и может быть описано в "естественных" терминах. Но фокус заключается в том, что притязания на всеобщее признание человека человеком (то, в чем я согласен с Фукуямой, и что является стержнем либерализма) не основаны просто на различии между человеческим и нечеловеческим царствами. Доктрина "личного достоинства" зиждется не просто на факте, что человек отличен, но на идее, что существует нечто, обладающее абсолютной ценностью в этом отличии. Однако эта ценность не является эмпирически очевидной или "естественной". Сам Фукуяма признает, следуя в этом за Гегелем, что притязания на всеобщее личное признание основано на христианстве, которое он именует "рабской идеологией" (в отличие от "идеологии хозяев", которая означало бы признание только хозяев) (11). Именно христианство приписало своего рода трансцендентальную ценность исключительно человеческой душе. Однако, если христианство является просто "идеологией" (что означает, что оно по определению ложно), тогда всеобщее человеческое признание покоится на ложной предпосылке и таким образом не может быть названо "естественным" и "рациональным". Конечно, не обязательно быть верующим христианином, чтобы быть человеческой личностью с человеческим достоинством, но равным образом не обязательно заявлять, что мое требование признать ценность моей личной свободы основано на каких-то "рациональных" (в смысле, научно доказуемых) предпосылках.
Хотя либеральная демократия обязана, быть может, многими своими победами прогрессу научной рациональности, ни демократический ни либеральный принципы не основаны на рациональном фундаменте. И те и другие можно описать как "нерациональные" или "предрациональные" (но не обязательно "иррациональные", так как это слово обычно подразумевает враждебность рациональности). Предпочтение ценностей в этом случае (как я думаю, и во всех других случаях) должно быть в конечном итоге основано на вере (во многом сходной с христианской верой), а не на рациональном знании.
Верно, что современное инструменталистское учение о случайном характере наций взорвало националистический миф о нации, как неисторическом единстве, непосредственно коренящемся в каком-то трансцендентальном или естественном порядке. Однако ни то, ни другое не делает нацию "нереальной" для обычного человека, рожденного в конкретном обществе, в конкретной культуре или в конкретном государстве, и стоящего перед лицом конкретного выбора в социальном и политическом, также как в духовном и экзистенциальном планах. Нация должна быть "рациональной", чтобы быть "реальной"
Нации и личность
До сих пор мы не сказали ничего, что противоречило бы традиционному представлению о том, что либерализм и национализм - это два взаимоисключающих принципа, между которыми человек должен выбирать. Но давайте зададим себе другой вопрос:а не существует ли между ними какого-либо позитивного связующего звена, типа безусловно существующей позитивной связи между понятиями "нация" и "человеческая личность"?
Не вызывает вопросов утверждение о том, что оба эти понятия связаны с периодом новейшей истории. Отношения между ними не могут регулироваться только "объективными" механизмами модернизации. На самом деле связь между ними восходит к современной парадигме политической мысли, из которой развилась либеральная идеология.
В основе этой парадигмы лежит концепция автономии человеческой личности. Будучи носителем уникальной и трансцендентальной ценности (пользуясь терминологией Канта, это всегда цель и никогда не средство), человеческая личность всегда хочет следовать тем правилам, которые возникли как результат ее свободного волеизъявления (самоопределения). Идея эта, несмотря на все современные ее толкования, по сути своей восходит к христианской традиции. В принципе для отдельной личности возможно признать наличие абсолютного божественного порядка, даже оставаясь на точке зрения, в соответствии с которой интерпретация этого порядка и проведение в жизнь его основных предписаний в конечном итоге есть дело разума и морального выбора отдельного человека, а не сообщества людей или какой-то структуры (12).
Понятие "нация" также напрямую связано с понятием "человеческая личность", и это положение составляет основу различий между современным сознательным национализмом и этнической ориентированностью предыдущих эпох. Сущность этнической ориентированности сводится к тому, что понятие "семья" распространяется до макросоциального уровня. Сообщество людей рассматривается как большая семья, происходящая от общих предков. Однако, когда нация начинает создавать представление о себе, она видит себя не семьей, но единой личностью с отчетливо выраженным характером.
Существуют два аспекта выражения национального самосознания через отдельную человеческую личность. Во-первых, нация рассматривается как сообщество людей, организованных вокруг идеи о самоопределении. Современная нация как современный сознательный индивидуум (и в отличие от древнего этноса) признает только те законы, которые она сама для себя выбрала, и отвергает законы, навязанные внешними силами. Во-вторых, нация так же, как и индивидуум, предполагает, что существуют определенные законы взаимодействия и взаимного признания прав. Нациям нужны другие нации. Нация может осознать и признать себя только в контексте истории человечества в целом - подобная мысль казалась немыслимой даже для самых передовых этнических сознаний (как, например, у древних греков). Идея принадлежности к нации как форма членства в человечестве и идея о том, что человечество - это "семья наций" в течение долгого время была краеугольным камнем либерального национализма.
Концептуальная связь между понятиями нация и личность - это важное положение нашей теории. Нация требует самоопределения не как исключительной привилегии, но как средства реализации общего положения о том, что каждой нации необходимо собственное государство. Я не понимаю, почему Фукуяма считает, что национализм по определению "мегалотимен" (то есть требует признания больших прав одних по сравнению с другими), в то время как либеральный индивидуализм он определяет как "изотимный" (то есть требующий равного признания прав для всех). Национализм в его истинном смысле не требует, как это утверждает Фукуяма, "признать права только членов данной нации или этнической группы" (13). Подобное отношение скорее следует охарактеризовать термином "расизм" или "шовинизм". Национализм не требует признания и индивидуальных прав только членов данной национальной и этнической группы. На самом деле требуется лишь признание нации как единого целого, то есть набора черт, характеризующих нацию как таковую: законный статус независимого государства (сравнимый со статусом гражданина, если перенести это на индивидуальный уровень) и равноправное членство в "единой семье народов". То есть базовые идеи национализма как минимум не менее "изотимны", чем индивидуализма, хотя нации, как и отдельные личности, могут стать "мегалотимными".
Другим знаком связи между либерализмом и национализмом может служить то, что оба они часто подвергаются критике за одно и то же: это средство разделения. Индивидуализм, рассматривающий личности как атомы единого вещества, ассоциируется с либерализмом, который разделяет сообщества, в то время как национализм разделяет человечество. Эти обвинения в известном смысле справедливы, но если посмотреть на реальные исторические факты, то мы увидим. что либерализм и национализм оказались самыми эффективными объединительными силами современной истории, что явно недооценивалось теоретиками этой проблемы.
Либеральный индивидуализм на эмоциональном уровне - идеология разделяющая. Но только либеральным обществам удалось достигнуть стабильного гражданского мира, в то время как "теплые" идеологии человеческого общежития в конечном итоге приводили к рекам крови. Все попытки объединить мир на основе универсальных доктрин, таких, например, как христианство (здесь я рассматриваю христианство как политическую силу), или коммунизм, привели только к росту межнациональной вражды. И хотя моря крови были пролиты во имя соблюдения "национальных интересов", единственной организацией, включающей в себя все нации мира, стала Организация Объединенных Наций (а не мировая Церковь или Коммунистический Интернационал), и эта организация основана на принципах изотимического национализма ("уважение к национальной независимости", "нерушимость национальных границ" и т.д.). На сегодняшний день основные принципы национализма получили более широкое распространение в мире, чем принципы либерализма или любой другой идеологии (14). Западная Европа, та часть света, где национализм зародился и развился, далеко обошла все другие части света в разработке новых схем международных объединений. Европа достигла самого высокого уровня объединения национальных государств не через отрицание национализма, как многие утверждают, но, напротив, всячески способствуя укреплению изотимических составляющих данной идеологии. Движение от мегалотимии к изотимии возможно не только на индивидуальном, но и на национальном уровне.
Либеральная дилемма
Хотя большинство либералов со времен Второй мировой войны клеймят национализм как варварский атавизм, отношение классических либералов Х1Х века к нему было более сложным. На теоретическом уровне либеральная идеология исключает какое-либо признание принципов национализма, так как для истинного либерала человеческая личность сама по себе является определяющей единицей любого анализа. Однако, отношение либералов к национализму уравновешивается их отношением к государству.
Государство как таковое неизбежно предполагает некое подавление и высшую власть над личностью, а это либералам, естественно, не нравится. Они рассматривают государство как неизбежное зло, приемлемое лишь постольку, поскольку отсутствие такового грозит индивидуумам еще большими бедствиями. Либералы готовы примириться с государством, так как государство - это единственная сила, способная предотвратить войну всех против всех и обеспечить соблюдение индивидуальных прав граждан. Но здесь встает вопрос, о каком государстве идет речь. Сегодня кажется очевидным, что либералы должны отдавать предпочтение демократическим государствам. Но отнюдь не все либералы однозначно встают на эту точку зрения. Почему бы, например, не предпочесть старую форму достойной просвещенной монархии? В конце концов, социальную базу либерализма всегда составляли элиты аристократов (если не наследственных аристократов, то хотя бы аристократов совести и духа). Либералы всегда боялись демоса как силы, несущей угрозу свободе (15). Тирания большинства - а большинство всегда есть большинство посредственности - это страшная угроза демократии. Но в конце концов либералы возненавидели тиранию крови над душой и своеволие династических правителей еще больше и поэтому восприняли демократию. При этом им пришлось уважать и даже в некоторой степени следовать за общей волей. Однако, как мы видели, эта воля не могла не стать более или менее националистической.
Заключенная здесь дилемма получила яркое выражение в работах великих либеральных философов Х1Х века, таких, как Джон Стюарт Милль и лорд Актон. Милль не был эмоциональным националистом, он был скорее твердым сторонником демократического либерализма и утверждал, что "действия свободных государственных институтов почти невозможны в стране, состоящей из различных наций... Необходимым условием свободной деятельности этих институтов является совпадение границ распространения власти правительств с границами расселения данных наций" (16). Таким образом, прославляя демократию, Милл обнаружил, что у него нет другого выхода, кроме как восславить и национализм.
С другой стороны, лорд Актон был безусловным противником национальных принципов, которые казались ему несовместимыми с принципом личной свободы. В отличие от Милля, он считал, что "комбинация различных наций в одном государстве - это необходимое условие цивилизованного образа жизни, равно как и наличие в обществе мужчин и женщин" (17). Этот постулат логически привел его к принятию расизма и имперского правления (18). Он также вплотную подошел к полному отрицанию демократии. И в конце концов он пришел к отрицанию принципов равенства людей, провозглашенных Жан-Жаком Руссо, не в меньшей степени, чем принципов коммунизма и национализма (19). Но, опровергая все теории и разработки либеральных аристократов, подобных лорду Актону, сами народы, когда наступает их очередь создавать свои демократии, начинают с создания независимых национальных государств, которые в конечном итоге могут занять гораздо более жесткую позицию по отношению к личным свободам их граждан, чем занимали предыдущие свергнутые режимы.
Сегодня народ, превращенный в средний класс, по-видимому, не представляет большой угрозы. Но и сегодня либералы как никогда решительно отвергают
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Новые общественно-политические движения как предмет политической социологии
Головин Н.А.Новые общественно-политические движения как особая форма проявления политической активности возникли в 60-е годы одновремен
- Политические и правовые учения в странах Арабского Востока в период средних веков
В начале VII в. население Аравии переживало смену эпох. Распадались древние государства, перемещались торговые пути, смешивались старые и
- Политические и правовые учения в России в период возникновения и развития феодализма и образования единого русского государства
Формирование и развитие древнерусской политико-правовой идеологии проходило в условиях становления феодального общества и возникнове
- Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока
Древнейшие политико-правовые учения возникли в Египте, Индии, Палестине, Китае и других странах древнего Востока.В цивилизациях Древнег
- Предмет истории политических и правовых учений
- Политические и правовые учения в Западной Европе в период средних веков
Падение Западной Римской империи (476 г.) завершило период истории Древнего мира и положило начало истории средних веков. В странах Западн
- Прогресс как проблема
Алексеев В.П.Широко распространено мнение (в том числе среди студентов), будто понятие прогресса "марксистское", чисто идеологическое, пр
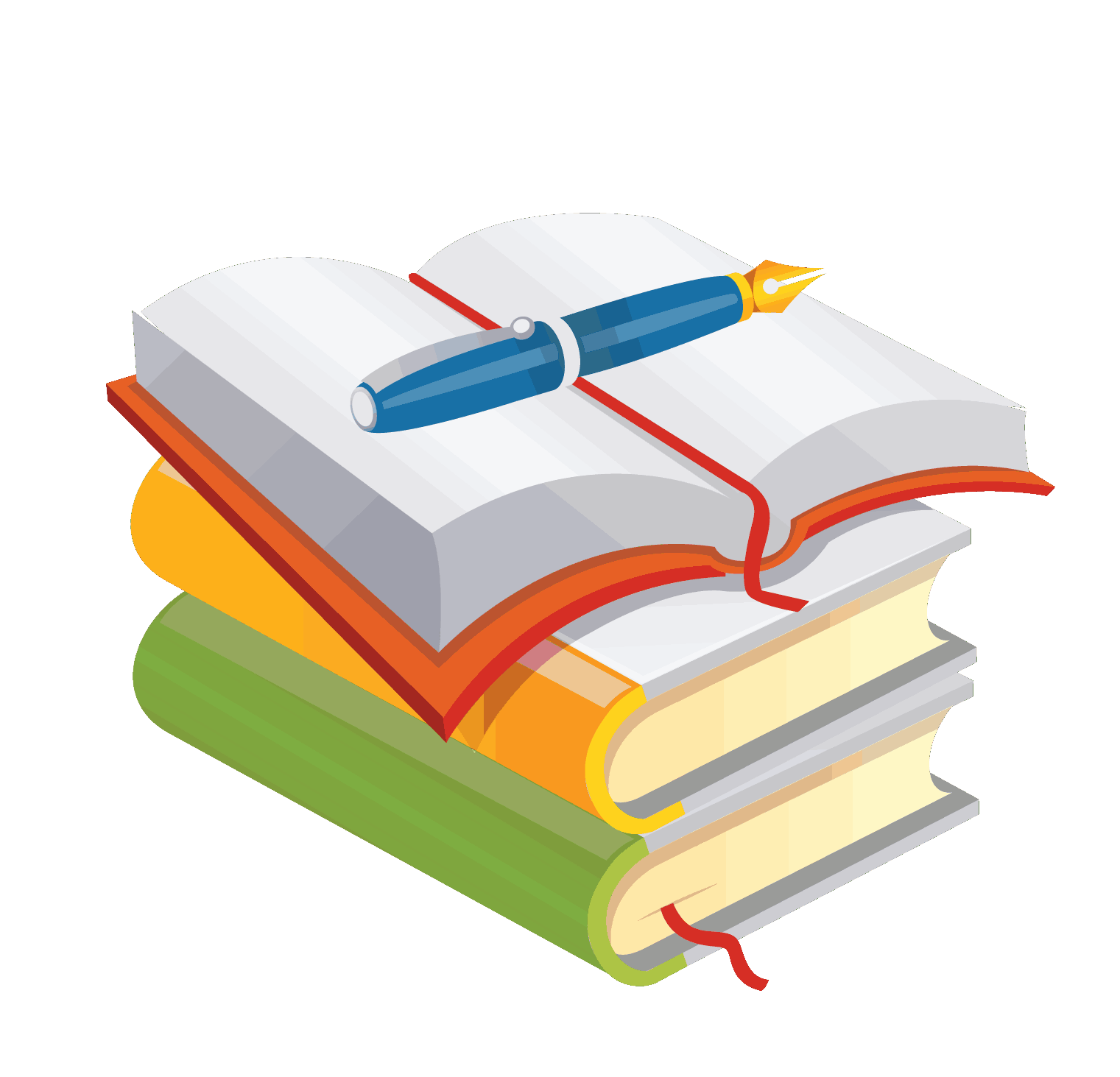 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.