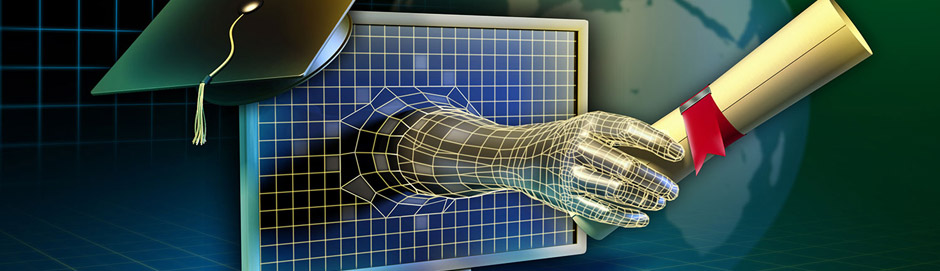Максим Горький
Александрова Т. Л.
"О Горьком, как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет точного представления", – писал Бунин в 1927 г. Как это ни удивительно, та же ситуация сохраняется и поныне. Для большинства современных читателей Максим Горький – знаковая фигура советского времени. Его именем называли города и улицы, теплоходы и заводы, университеты и библиотеки, его книги выпускались миллионными тиражами и переводились на языки народов мира, о его творчестве были написаны тысячи исследований. С концом советской эпохи авторитет "великого пролетарского писателя" заметно пошатнулся: начались открытия тайного и темного, разоблачения, предпринимались попытки "сбросить Горького с корабля современности", но сделать это оказалось все же невозможно, – тем более, что, параллельно заметному падению интереса к этому писателю в России, внимание к нему на Западе только возрастало. Чем объяснить "непотопляемость" Горького?
Его слава не была насильственно введена советским официозом, она пришла к нему спонтанно и мгновенно, с первых шагов на литературном поприще. Уже за первое десятилетие его писательской деятельности количество публикаций, посвященных Горькому, достигло почти 2 000 – так много не писали ни об одном другом русском писателе. Его талант признавали все: Толстой и Чехов, Бунин и Леонид Андреев, Мережковский и Блок. Цветаева, сравнивая Горького с Буниным, и ставя первого выше, выразилась так: "Горький – эпоха, Бунин – конец эпохи". Действительно, Горький – это эпоха. Это исключительно "своевременный" писатель, причем "своевременный" не в смысле эфемерной, дешевой популярности, а в том, что он выразил какие-то сокровенные чаяния своей эпохи – и ее явные противоречия. Эпоха же Горького и прославила. "В Горьком – большая сила, но мало того, она опирается на большую силу", – писал Д.В. Философов (Философов Д.В. Завтрашнее мещанство. – печ. по изд.: Максим Горький. Pro et contra. СПб., 1997. C. 688). Оценка Горького в значительной мере зависит от оценки его времени, точнее, от оценки его эпохи в динамике. В советское время Горькому отводилась роль пророка, с крушением советского строя на него обрушилась ненависть, какой заслуживают лжепророки. И то, и другое – преувеличение. Очевидно, оценка Горького еще будет меняться, хотя о некоторых его исторических заслугах, как и об ответственности за определенные моменты истории уже можно говорить.
В свое время Ленин в статье "Партийная организация и партийная литература" говорил, что Толстой "смешон, как пророк", но "велик как художник". Горький тоже смешон (или, по крайней мере, сомнителен), как пророк как художник – неоднозначен. Читать Горького тяжело. Его язык и стиль скуднее и прямолинейнее, чем у Толстого, Чехова, Бунина, в его произведениях нет занимательной интриги, – однако мастерство писателя у него несомненно чувствуется: яркие, запоминающиеся характеры, смелые стилистические приемы, ощущающиеся как нечто принципиально новое в сравнении с предшествующей литературой. Очевидно, форму Горького было бы легче воспринимать, будь она наполнена иным содержанием.
Суть пророческого служения сформулировал некогда Владимир Соловьев: "Отличие пророка от праздного мечтателя в том, что у пророка цветы и плоды идеальной будущности не висят на воздухе личного воображения, а держатся явным стволом настоящих общественных потребностей и таинственными корнями религиозного предания" (Соловьев В.С. Оправдание добра. М., 1996, С. 402). Настоящие общественные потребности Горький чувствовал, что же касается корней религиозного предания, то их он решительно отсек, попытавшись заменить "имплантантом" западной философии и науки. "Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?" – сказано в Евангелии (Лк. 11:35). Современники видели у Горького свет надежды, который светит в тьме. Современного читателя отталкивает сгущение реальной тьмы и призрачность, иллюзорность света. Горьковской вере в Человека не хватает человечности. Но надо учитывать и то, что Горький-человек был намного человечнее Горького-писателя. Поэтому этот автор заслуживает внимательного, вдумчивого прочтения.
Биография
"Максим Горький" – псевдоним, который взял себе Алексей Максимович Пешков, – много говорит о писателе. Имя "Максим", взятое писателем в память об отце, в то же время выражает его декларируемый максимализм. "Горький" – потому что рассказывает горькую правду о горькой жизни. Значит ли это, что свою задачу писатель видит в том, чтобы с бескомпромиссным максимализмом говорить читателю горькую правду? Мнения на этот счет могут быть разные. Правда для Горького всегда горькая. Обычно этот взгляд объясняется биографически: действительно, с детства жизнь его не баловала. Но горьковская "горечь" объясняется не только внешними обстоятельствами жизни, но и природным характером, возможно даже наследственностью.
Современников поражал жизненный опыт, приобретенный Горьким уже в ранние годы его жизни. В начале 1900-х гг. – времени массового преклонения перед ним, вышла даже книга "Максим Горький в карикатурах и анекдотах". Приведенный в ней материал, хотя и представляет писателя в шаржированном виде, заостряет черты, вызывавшие недоумение одних и восторг других. Книгу открывает краткий "послужной список" популярного писателя:
"1878-й год. Поступил ″мальчиком″ в магазин обуви.
1879 - ″ - ″ - Был учеником у чертежника.
1880 - ″ - ″ - Служил поваренком на пароходе.
1883 - ″ - ″ - Работал в крендельном заведении.
1884 - ″ - ″ - Был пильщиком дров.
1884 - ″ - ″ - Перешел на занятия грузчика.
1885 - ″ - ″ - Состоял хлебопеком в пекарне.
1886 - ″ - ″ - Был хористом в мелкой оперной труппе.
1887 - ″ - ″ - Торговал яблоками.
1888 - ″ - ″ - Покушался на самоубийство.
1889 - ″ - ″ - Занял должность железнодорожного сторожа.
1890 - ″ - ″ - Исполнял обязанности заведующего метлами и брезентом железнодорожной станции.
1890 - ″ - ″ - Поступил письмоводителем к присяжному поверенному.
1891 - ″ - ″ - Стал бродить по России и работал на соляных промыслах.
1892 - ″ - ″ - Служил рабочим в железнодорожных мастерских.
1892 - ″ - ″ - Написал первый рассказ.
1903 - ″ - ″ - Всемирно известный писатель, имя и произведения которого сделались популярными среди интеллигентных читателей всех стран" (Либрович С.Ф. Максим Горький в карикатурах и анекдотах. М., 1995 (Репр. воспр. изд. 1903 г.). С. 1).
"Сказочна вообще судьба этого человека, – много лет спустя писал Бунин. – Молва твердит: ″Босяк, поднялся со дна моря народного…″ А в словаре Брокгауза другое: Горький-Пешков, Алексей Максимович. Родился в шестьдесят девятом году в среде вполне буржуазной: отец – управляющий большой пароходной конторой, мать – дочь богатого купца-красильщика…" (Бунин. Собр. соч. т. 9. С. 292). Все это так – и не так.
Алексей Максимович Пешков родился 16 (28) марта 1868 г. в Нижнем Новгороде. Его отец, Максим Савватеевич, сын солдата, разжалованного из офицеров (за жестокое обращение с нижними чинами – как писал сам Горький), столяр-краснодеревщик, в 1870 г. он занял место управляющего пароходной конторой в Астрахани, жил вдали от семьи и в 1871 г. умер от холеры. Горький не знал отца, но все, что связано с ним, было для него окружено особым ореолом, в честь него он и сына своего назвал Максимом. Может быть, по отцовской линии – от деда – передалась ему некая неудовлетворенность, чувство протеста. Интересно: сын Горького, Максим, проявлял немалые способности к рисованию, хотя и не стал профессиональным живописцем. Талант этого веселого и остроумного молодого человека был сатирического свойства, но, по определению знакомых, рисовал он "в стиле Босха", – а это не просто сатира, это своего рода патология. В отличие от отца, Максим рос в атмосфере любви и понимания, – но некая наследственная "горечь" проявилась и в нем.
Мать Горького, Варвара Васильевна, вскоре после смерти мужа вышла замуж вторично. В 1879 г. она умерла от скоротечной чахотки. Таким образом, в 11 лет будущий писатель остался круглым сиротой. В наследство от матери ему достались слабые легкие. Со временем у него развился туберкулез, от которого он так и не вылечился окончательно. Эта болезнь тоже накладывает отпечаток на характер человека: затрудненность дыхания, повышенная температура и слабость, – все это способствует мрачному, пессимистическому взгляду на жизнь.
Горький считал себя атеистом. Но это не значит, что он вырос вне религиозного воспитания. Его автобиографическая трилогия "Детство" – "В людях" – "Мои университеты" изобилует подробностями церковного благочестия, и в то же время это пособие для воспитателя: как не надо учить вере.
Рос Алеша Пешков в доме деда, Василия Васильевича Каширина, владельца красильного заведения. Характер у деда был тяжелый, как многие люди его среды, он был церковно благочестив, каждый день перед сном читал Псалтирь и Часослов, но благочестие его было формальное, внешнее. "Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды, – вспоминал Горький в повести "Детство", – она отравляла взрослых и даже дети принимали в ней участие" (Горький М. "Детство" – цит. по.: Горький М. Собр. соч. в 12-ти тт. т. 5. С. 22). Бог, которому поклонялся дед, внуку представлялся жестоким, карающим.
Как большинство русских детей, Алеша Пешков учился читать по Псалтири, церковнославянскую грамоту одолел раньше русской, хорошо знал Священное Писание и, уже будучи сознательным атеистом, нередко щеголял цитатами из Библии и умением стилизоваться под библейский слог. Свое обучение он вспоминал так: "Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья.
– Ну, говори, пожалуйста: ″Отче наш, иже еси…″
И если я спрашивал: ″Что такое яко же″ – она, пугливо оглянувшись, советовала:
– Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: ″Отче наш…″ Ну?
Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово ″яко же″ принимало скрытый смысл и я нарочно искажал его: ″Яков же″, ″я в коже″" (Горький М. "Детство". С. 26). За не выученными молитвами следовало непременное распоряжение деда: "высечь". Естественно, такая методика на способствовала укоренению в Православии.
Впрочем, нравственной проповеди Христа Горький никогда не отрицал, но Его самого воспринимал скорее по Ренану, чем по Евангелию – как историческую личность, чья подлинная история впоследствии обросла легендами и вымыслами. Он считал, что Бог – Бог это человеком выдуманное воплощение всего лучшего, что есть в человеке. "Бога – нет, Леонидушка. – писал он в письме Леониду Андрееву. – Есть – мечта о нем… Бог – удобное объяснение всего происходящего вокруг и – только". (Горький М. Полное собрание сочинений и писем. Письма. т. 3. С. 11). Но сыну своему подарил Новый Завет с надписью: "Дарю тебе, дорогой мой, одну из лучших книг в мире", – а в одном из писем ему же писал: "Ты прочитай Евангелие, хорошая книга, и ее надобно знать". (Полн. собр. соч. и писем. Письма. т. 8. С. 465.) В письме к Екатерине Павловне в декабре 1910 г. замечает: "Хорошая книга, согласись, знать ее надобно"; и Максиму: "Ты прочитай Евангелие, хорошая книга, и ее надобно знать" (Там же С. 205 и 222). Горький хорошо знал также молитвы, жития святых, церковную службу, но святости Церкви не признавал – в этом, очевидно, немалую роль сыграло то, что ему пришлось слишком рано без прикрас увидеть "соль, переставшую быть соленой", а положительной антитезы не было – или Горький не умел ее видеть. Понятия доброты, милосердия, сострадания он усвоил от бабушки, Акулины Ивановны. Бабушка, такая, какой она показана в "Детстве" – не горьковский типаж, она скорее напоминает праведников Шмелева или Никифорова-Волгина. "Гляди, гляди, как хорошо! – восклицает она, с парохода показывая внуку открывающуюся панораму Нижнего Новгорода, – Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, Богов!" (Горький М. "Детство". С. 19). "Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк; слушать их очень интересно; бабушка подробно рассказывает богу обо всем, что случилось в доме.
– Все Ты, родимый, знаешь, все Тебе, Батюшка, ведомо.
Мне очень нравился бабушкин бог, такой близкий ей, и я часто просил ее: Расскажи про бога!
– Сидит Господь на холме, среди луга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом, нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам Божиим…" (Там же. С. 68).
"Я очень рано понял, что у деда – один бог, а у бабушки – другой" – вспоминал писатель (Там же, С. 114). Но жестокость и равнодушие жили и в бабушкином раю: "Вот твой ангел Господу приносит: ″Лексей дедушке язык высунул″. А Господь и распорядится: ″Ну, пускай старик посечет его!″ И так все, про всех, и всем он воздает по делам, кому горем, кому радостью" (Там же, С. 68). Такого рая и такого суда мальчик не принимал.
Наблюдая бабушку, Алеша Пешков пришел к выводу, что религиозность в русском народе срослась с предрассудками, пассивностью, инертностью, его активной натуре такое мировоззрение было чуждо.
В 1877 г. Алексей Пешков поступил в училище, учился очень хорошо, после двух лет ученья сдал экзамен и получил похвальную грамоту, но на этом его формальное образование закончилось: к этому времени Каширины разорились и вскоре будущий писатель оказался "в людях". "Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди" (Там же, С. 291) – сказал ему "благочестивый" дед, а кроткая бабушка ничего не возразила.
Действительно, как было упомянуто в юмористическом ″послужном списке″ Горького, ему довелось побывать и "мальчиком" при магазине модной обуви, и учеником (а одновременно и прислугой) у чертежника, и посудником на пароходах "Добрый" и "Пермь". Некоторое время состоял учеником в иконописной мастерской, но духом иконописного мастерства не проникся: "Уродливо написанные иконы не нравились мне; продавать их было неловко. По рассказам бабушки я представлял себе Богородицу молодой, красивой, доброй, такою она была и на картинках журналов, а иконы изображали ее старой, строгой, с длинным, кривым носом и деревянными ручками <...> Иконопись никого не увлекает: какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишенных красоты, не способных возбудить любовь к делу, интерес к нему. Косоглазый столяр Панфил, злой и ехидный, приносит выстроганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров; чахоточный парень Давидов грунтует их; его товарищ Сорокин кладет ″левкас″, Миляшин сводит карандашом рисунок с подлинника, пишут пейзаж и одеяние иконы, затем она, без лица и ручек, стоит у стены, ожидая работы личников. Очень неприятно видеть большие иконы для иконостасов и алтарных дверей, когда они стоят у стены без лица, рук, ног, – только одни ризы или латы и коротенькие рубашечки архангелов. От этих пестро расписанных досок веет мертвым, того, что должно оживить их – нет, но кажется, что оно уже было и чудесно исчезло, оставив только свои тяжелые ризы…" (Горький М В людях. – цит. по: Собр. соч. в 12-ти тт. т. 5, С. 559).
Природный ум подростка искал развития. Не найдя для себя пищи в традиционном благочестии, он обрел ее в некритически поглощаемом светском печатном слове. Поваром на пароходе "Добрый" служил отставной унтер-офицер М.А. Смурый, "человек сказочной силы и грубости и – нежности". Он пробудил в мальчике, "дотоле ненавидевшем всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению". Читал Алеша Пешков все, что попадало под руку: Некрасова, Гоголя, Дюма, – "классиков и литературу лубочную" вперемешку. В 15 лет поехал в Казань, надеясь продолжить образование в университете, т.к. "простодушно полагал, что науки желающим даром преподаются". Мечта об учебе не осуществилась, чтобы выжить, юноше пришлось работать – чернорабочим, грузчиком, учеником и подручным пекаря в крендельном заведении. Однако он познакомился со студентами и, будучи лишен "горького корня ученья", плоды которого сладки, оказался приобщенным к вожделенному для студенческой молодежи "запретному плоду" – науке революционной борьбы. В булочной А.С. Деренкова имелась библиотека нелегальной литературы – юный Алексей Пешков стал ее усердным читателем. Он посещал также кружки самообразования. "Физически я родился в Нижнем Новгороде. – писал он впоследствии. – Но духовно – в Казани. Казань – любимейший из моих ″университетов″" ("30 дней", 1936, № 8, С. 77).
Систематического образования Горький так и не получил, хотя благодаря постоянному чтению и крепкой памяти в значительной мере компенсировал этот недостаток. "На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них написано. – писал В.Ф. Ходасевич, – Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос, откуда он это знает, вскидывал он плечами и удивлялся:
– Да как же не знать, помилуйте? Об этом была статья в ″Вестнике Европы″ за 1889 г. в октябрьской книжке.
Каждой научной статье он верил свято…" (Ходасевич В.Ф. Горький. – Pro et contra. C. 132). Б.К. Зайцев, оценивавший Горького гораздо более негативно, язвительно подметил в нем закомплексованность самоучки-начетчика, беспорядочное многознание которого зачастую представляется бессмысленным человеку, прошедшему правильное обучение ("Вы читали радиоактивиста Содли? Знаете-ли, пре-восходная брошюра…" (Зайцев Б.К. Максим Горький (К юбилею). – Pro et contra. C. 122). В то же время по складу ума Горький не выглядел "человеком из народа". Об этом писал М.О. Меньшиков, публицист "Нового времени", в очерке о его ранних произведениях: "Но, вы скажете, все-таки жаль, что сверх того даровитый автор не получил обыкновенного образования. На это я замечу, что он, к сожалению, получил и обыкновенное образование, т.е. путем беспрерывного чтения книг приобрел все так называемое ″развитие″, отличающее интеллигенцию от народа. Читаешь г. Горького и убеждаешься, что он вполне на уровне своего века и совсем законченный ″интеллигент″. Ему все ″проклятые вопросы″ так же близко известны как любому акцизному чиновнику с университетским дипломом или уездному врачу" (Меньшиков М.О. Красивый цинизм. – Pro et contra. C. 454).
В 1887 г. будущему писателю пришлось стать свидетелем репрессий против студентов. Его друзей арестовали и он оказался в одиночестве. Душевный кризис усугублялся безответной любовью – к сестре булочника Деренкова Марии Степановне.12 декабря 1887 г. Алексей Пешков совершил попытку самоубийства, за которую Казанской духовной консисторией был отлучен от Церкви на 7 лет, – а фактически навсегда, потому что в Церковь он больше не вернулся и сделался богоборцем. Позднее он признавался, что любимой библейской книгой его была книга Иова. "На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого путь окружен мраком?" (Иов. 3:23) – вопрос страдающего Иова был ему близок. И в той же книге он видел ответ: как человеку "быть богоравным и спокойно стоять рядом с Богом". "И отвечал Господь Иову из бури и сказал: ″Препояшь, как муж, чресла твои: Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли ты возгреметь голосом, как Он? Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою. Тогда Я признаю, что десница твоя может спасать тебя″" (Иов, 40:1–9). Далее следуют слова о величии Божием. Умудренный жизнью и страданиями Иов ответил Господу смиренно: "Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий Провидение, ничего не разумея? – Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. <...> Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле" (Иов, 42: 2 – 6). Молодой Горький не увидел иронии в самом вопросе Бога человеку и наивно решил, что ему под силу принять вызов. Идеальный Человек Горького – это как раз тот, кто способен "спокойно стоять рядом с Богом", иными словами – сверхчеловек. Неудивительно, что молодой писатель нашел единомышленника и опору во входившем тогда в моду Ницше, богоборце, провозгласившем, что "Бог умер", и яром враге христианства. В самом псевдониме, выбранном Алексеем Пешковым, есть момент богоборчества: "Горький" – некая антитеза Иисусу Сладчайшему. Но все же ницшеанство Горького не было последовательным и причудливо сочеталось в нем самом и в его произведениях с усвоенными в детстве истинами христианской нравственности.
В 1888 – 1889 гг. юноша Пешков странствует "по Руси", видит разных людей, общается с революционерами, знакомится с "неблагонадежной" интеллигенцией, входит в среду газетчиков, журналистов, писателей. Эти знакомства дали направление его творческой мысли. "Лет двадцати я начал понимать, что видел, пережил, слышал много такого, о чем следует и даже необходимо рассказать людям", – вспоминал сам Горький. В 1889 г. его впервые арестовали, после освобождения, находясь под негласным надзором полиции, он служил письмоводителем у адвоката А.И. Ланина. В этот период ему посчастливилось познакомиться с В.Г. Короленко, которому он показал первые свои литературные опыты – в том числе, поэму "Песнь старого дуба", в которой содержалась фраза: "Я в мир пришел, чтобы не соглашаться". Поэму он вскоре сам уничтожил, но фраза уцелела. С нее начался писатель Горький (Цит. по: Русские писатели 1800 – 1917. Биографический словарь. М., 1989, С. 646).
В 1891 – 92 гг. он снова странствует "по Руси", посещает Поволжье, Дон, Украину, Южную Бессарабию, Крым, Кавказ. В Тифлисе организует "коммуну", своего рода просветительский центр для рабочей и учащейся молодежи.
12 сентября 1892 г. в тифлисской газете "Кавказ" был напечатан первый рассказ Горького – "Макар Чудра". В нем уже видны специфические черты манеры раннего Горького, сразу привлекшие к нему внимание: яркие краски, сильные характеры, романтическое бунтарство. В.В. Вересаев так вспоминал дебют писателя: "Среди всеобщего нытья, безнадежности и тоски вдруг зазвучал смелый, яркий, озорной голос, говоривший о красоте и радости жизни, об еще большей красоте и радости борьбы, о безумстве храбрых, как высшей мудрости жизни. Этот бодрый голос сразу всех очаровал, больше – прямо опьянил. Как будто распахнулось запертое окно и в спертый, душный воздух тюрьмы ворвался свежий, бодрый голос" (Вересаев. Воспоминания. С. 473). "У Чехова кто-то говорит: ″Голос сильный, но противный″" – иронизировал впоследствии Зайцев (Зайцев. Максим Горький. – Pro et contra. С. 116). "То громкое слово, которое несет из глубин народных г. Горький, не всегда, к сожалению, является народным. Часто оно кажется даже не русским", - писал М.О. Меньшиков (Меньшиков. – Pro et contra. C. 445). "Послушайте, каким страшным языком философствует этот цыган, – замечал он также, цитируя речь Макара Чудры, – Вы чувствуете, что Макар Чудра не цыган, а человек, читавший и ″Алеко″ Пушкина и ″Тараса Бульбу″, и статьи гг. Петра Струве и М.И. Туган-Барановского. Г. Горький все же художник; видимо, его самого коробит журнальный язык диких цыган, и он старается пересыпать его междометиями: ″Эге!″, ″Ого!″, ″Хе!″, Эх!″, ″Э-э-э″ и пр. Это должно, видите ли, придавать речи характер дикий и народный" (Меньшиков. – Pro et contra. C. 440).
В "бодром голосе" молодого Горького ясно различались ницшеанские нотки. "На ее смуглом, матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама" – это портрет Нонки, дочери Макара Чудры, которая – лишь бледная тень главной героини, Радды. Единственная любовь, на которую способны "красавец Лойко и гордая Радда" – это любовь-вражда, любовь-поединок. "Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга… ″Волю-то я, Лойко, больше люблю, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня…″" Все герои рассказа сильны и красивы, хотя в изображении чувствуется некая чрезмерность – но она в какой-то мере оправдывается фольклорной стилизацией.
О ницшеанском понимании смысла жизни писал в те же годы Владимир Соловьев: "Есть смысл в жизни, – именно в ее эстетической стороне, в том, что сильно, величественно, красиво. Предаться этой стороне жизни, охранять и укреплять ее в себе и для себя, доставлять ей преобладание и развивать дальше до создания сверхчеловеческого величия и новой чистейшей красоты – вот задача и смысл нашего существования. Такой взгляд, связанный с именем талантливого и злополучного Ницше и сделавшийся теперь модною философией на смену недавно господствовавшего пессимизма, не нуждается, <...> в каких-то внешних опровержениях со стороны: он сам себя опровергает <...> тот факт, что конец всякой здешней силы есть бессилие и конец всякой здешней красоты есть безобразие" (Соловьев В. Оправдание добра. С. 46).
Эта мысль волновала и Горького, но логический вывод, к которому приходит Соловьев: "Сила и красота божественны, только не сами по себе: есть Божество сильное и прекрасное, которого сила не ослабевает и красота не умирает, потому что у Него и сила, и красота нераздельны с добром" (Соловьев В. Оправдание добра. С. 50), – для него был неприемлем. Свою попытку совместить красоту и добро Горький делает в рассказе "Старуха Изергиль" (1894 г.), где рассматривает два противоположных "сверхчеловеческих" пути – путь Ларры и путь Данко; скрепляющим, промежуточным звеном служат личные воспоминания рассказчицы, старухи Изергиль. В каждом случае возникает вопрос об итогах пути. Ларра, сын орла – типично ницшеанский герой, он по-своему прекрасен и абсолютно свободен от общества, но в его собственном эгоцентризме заключается его кара: лишенный даже человеческой возможности умереть, он превращается в неприкаянную и никчемную тень, – красота и сила, таким образом, сходят на нет, оставив по себе лишь "отрицательный пример" для потомков. Изергиль в молодости была красива и сильна, ее не сдерживали никакие условности цивилизованной морали (можно себе представить, сколь шокирующее впечатление производил рассказ о ее похождениях на читателя рубежа XIX – XX веков, воспитанного все-таки в духе заповеди "не прелюбодействуй"). Но красота и сила с годами уходят, по мере их убывания иссякает и гордость, и автору-слушателю уже чудятся в ее интонации "боязливая, рабская нота", а события молодости постепенно стираются даже из ее собственной памяти. Наконец, Данко – сверхчеловек, идеальный герой, гордый своими многочисленными достоинствами и не лишенный презрения к людям ("Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!"). Однако при этом он почему-то жалеет людей и жалость к людям гасит в нем негодование против них. Только жанр легенды-притчи делает этот образ жизнеспособным – психологически он никак не мотивирован. Но сам тип героя вполне укладывается в ценностную шкалу русского "революционно-демократического христианства": жертвенный герой, готовый жизнь отдать за людей, отрицающий Христа и внешне уподобляющийся Христу. Есть в рассказе о Данко и параллели с библейской книгой Исход, с историей Моисея. Данко сохраняет красоту и силу до последнего мгновения своей жизни, и после смерти о нем остается красивая легенда и таинственные огни, мерцающие в ночи. Таким образом, ницшеанство смыкается и христианским идеалом XIX века – по-видимому, именно это сделало Горького "всенародным" писателем. Но все же это в значительной мере было приспособление новой идеологии, продвигаемой диктатом общественного мнения, к привычному голосу совести. Сам же Горький не заботился о том, чтобы его взгляды соответствовали христианским идеалам. Близкому человеку – жене – он писал: "У меня, Катя, есть своя правда, совершенно отличная от той, которая принята в жизни" (Цит. по: Спиридонова Л.А. М. Горький. Новый взгляд. М., 2004. С. 55). Вертикаль добра и зла в произведениях Горького, как правило, присутствует, есть и "внутренний компас", тяготеющий к добру, но это добро понимается им по-своему.
"Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. – писал Ходасевич. – Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще – и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босяка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой". (Ходасевич. Горький. – Pro et contra. C. 138).
М.О. Меньшиков не без оснований писал, что Горький "тщательно ищет зверя в человеке. Если зверь красив, силен, молод, бесстрашен – все симпатии автора на его стороне… ″Не бойтесь греха″ – вот то громкое слово, которое несет с собой г. Горький. Другое попутное, – призыв к помощи тем. кто гибнет на дне жизни, – звучит около первого холодной фразой… ″Не безумство храбрых″ спасает мир, – его спасает мудрость кротких" (Книжки ″Недели″, 1900, № 9, С. 233, 242, №. 10, С. 242). Однако афоризм Меньшикова в обществе, к сожалению, не укоренился. Произведения же Горького, напротив, ввели в обиход немало крылатых фраз, которыми жило впоследствии и советское общество: "В жизни всегда есть место подвигу" (неточная цитата из "Старухи Изергиль"), "Безумство храбрых – вот мудрость жизни" ("Песня о Соколе"), "Человек – это звучит гордо", ("На дне"), "Жалость унижает" (парафраз высказывания из "На дне": "Не жалеть человека надо, не унижать его жалостью") и т. п. Из возможных вариантов атеистической морали это далеко не худший – следуя ему, можно всю жизнь оставаться достойным человеком, – если не задавать себе более глубоких вопросов о цели жизни человечества вообще, о смысле существования "маленького человека" и т.д., а также игнорировать борьбу добра и зла, происходящую в собственной душе. Но о глубинах вечности как сам Горький, так и его эпоха в целом предпочитали не задумываться.
Из ранних произведений Горького широкую известность получили также "Челкаш" (1894 г.) и "Песня о соколе" (1895). "Песня о соколе" – произведение чисто романтическое. Интересно, что ритмическая единица самой песни – это стихотворный размер (двустопный ямб с наращением: И_И_И: "О смéлый сóкол" и т.д.), широко использовавшийся поэтами-модернистами, прежде всего, К. Бальмонтом ("Я вóльный вéтер" и т.д.). Взаимного влияния в данном случае предположить нельзя – очевидно, это просто был ритм эпохи, улавливаемый наиболее чуткими ее представителями. "Эта ″Песня о Соколе″ очень многим нравится, – писал Меньшиков, – многие из молодежи от нее в восторге. Но мне эта вещь кажется необыкновенно слабой и фальшивой. Не говоря уже о том, что она плохо написана, кричащими красками, – она насквозь фальшива по нравственному замыслу. Хороша аллегория – лететь к небу, чтобы там подраться, раскровянить и себя, и врага, повыщипать перья друг у друга, поломать крылья?"
"Челкаш" – шаг к реализму и несомненная творческая удача Горького (именно с этого рассказа, как считается, он вошел в "большую литературу"). "Челкаш" был напечатан в июньском номере "Русского богатства" за 1895 г. Как истинно художественное произведение рассказ допускает расширенное толкование, не учтенное самим автором. Авторский замысел довольно прямолинеен: противопоставление свободного и независимого вора Челкаша, "красивого зверя", и – "жадного раба" (но в то же время "раба Божьего") – крестьянина Гаврилы. Авторские симпатии безусловно на стороне первого. Но образ Гаврилы допускает и иное толкование. Гаврила – типичный крестьянин-христианин в представлении атеиста Горького: человек, живущий, прежде всего, страхом, боящийся какой бы то ни было ответственности за свои поступки. Его христианские убеждения поверхностны, в нем гораздо сильнее инстинкт собственника, якобы освящаемый Церковью. Но Горький изображает только видимую "верхушку айсберга": молодого, неокрепшего в своем внутреннем мире человека в момент, может быть, первого своего серьезного искушения проявившего себя не лучшим образом. "Скрытой частью айсберга" может оказаться способность к покаянию, твердая вера, и дальнейшая беспорочная жизнь. Но Горький не верил в героя-крестьянина, потому что вообще не любил крестьянства. "…Меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций", – писал он позднее. Вор и люмпен были ему симпатичнее – хотя идеала в них, он, конечно, не видел. С момента вступления Горького в литературу до обретения им реального исторического идеала в лице революционера-большевика ушло более десяти лет – но это время поисков и "сделало" Горького. Найденный идеал многих разочаровал и заставил усомниться в харизме писателя-"буревестника".
Писатели старшего поколения с самого начала встретили Горького в высшей степени благожелательно. "Это самородок с несомненным литературным талантом, еще не совсем отыскавшим свою дорогу", – писал В.Г. Короленко Н.К. Михайловскому, посылая ему стихотворения Горького. Благоприятными были и впечатления Чехова: "Вы художник, умный человек, Вы чувствуете превосходно, – писал он Горькому в 1898 г. – Вы пластичны, т.е. когда изображаете вещь, то видите ее и ощупываете руками. Это настоящее искусство" (Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 тт. Письма. Т. 7. М., 1979, С. 352).
С середины 90-х гг. Горький уже всецело посвятил себя литературной работе. Он жил в Нижнем Новгороде, сотрудничал в газете "Самарские новости", где писал, в частности, еженедельные фельетоны под псевдонимом "Иегудиил Хламида"); чуть позднее работал в газете "Нижегородский листок". В 1896 г. он женился на Екатерине Павловне Волжиной (1878 – 1965). В это время у него обострился туберкулез и в 1897 г. он с женой уехал в Крым (на ссуду, полученную из Литературного фонда). В 1897 г. были напечатаны его повести и рассказы "Коновалов", "Супруги Орловы", "Мальва", "Бывшие люди". В том же году у Пешковых родился сын Максим, в 1901 г. – дочь Катя, умершая в возрасте 5 лет.
В конце 90-х гг. Горький – уже писатель с европейской известностью. Бунин так описывает свои впечатления от встречи с ним, (познакомил их Чехов): "…Высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми глазами, с утиным носом в веснушках и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит". Бунину показалось, что Горький все время немного позирует: "… он <...> продолжал говорить, , изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром, и все образами, и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. <...> Чехов почти не слушал. Но Горький все говорил и говорил…" (Бунин. Собр. соч. т. 9. С. 241). Потом Горький пригласил Бунина к себе: "Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шутливо-ломающийся, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевным волжским говорком с оканьем. Он играл и в том, и в другом случае, – с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно…" (Бунин. Собр. соч. т. 9. С. 294). Вывод о том, что Горький "играл", Бунин сделал, когда они уже давно были "по разные стороны баррикад". В молодости они подружились и сохраняли дружеские отношения на протяжении многих лет. Бунин, мало кого жаловавший из писательской братии, признавал, что "непубличный" Горький был человек "иногда чрезвычайно милый". А.М. Ремизов вспоминал, что он умел создать "поле доверчивости" в отношениях между людьми.
Ходасевич, пристально наблюдавший Горького, правда, уже в преклонном возрасте, тоже писал, что тот испытывал определенное давление своей "лубочной биографии" "Горького-самородка, Горького-буревестника, Горького-страдальца и передового бойца за пролетариат". "Нельзя отрицать, – продолжал он, – что все эти героические черты имелись в подлинной его жизни, во всяком случае, необычной, – но они были про
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Тайна пшеничного зерна ("Братья Каарамазовы")
Тайна пшеничного зернаТарасов Ф. Б. На рубеже XX и XXI столетий все yже сжимается круг книг, которые берутся человеком в руки, но Достоевский
- Константин Бальмонт
- Иван Бунин
Александрова Т. Л. Иван Алексеевич Бунин (1870 - 1953) - русский писатель с мировым именем, которого, с течением времени все чаще удостаивают эп
- Михаил Афанасьевич Булгаков
- Как измерить себя человеку?
О некоторых результатах «дружбы» Православия и литературыКокшенева К. А. Православная литература, православный театр, православная кул
- Узников помните!
Кокшенева К. А. Виктор Николаев. Из рода в род. Документальная повесть. М., 2003О тюрьме и каторге в русской литературе писали много и по-разн
- Мир "лазури" в поэмах М.Цветаевой
Мир "лазури" в поэмах М.Цветаевой Тарасов А. Б. К двери светлой и певучей Через ладанную тучу Тороплюсь, Как торопится от века Мимо Бога - к
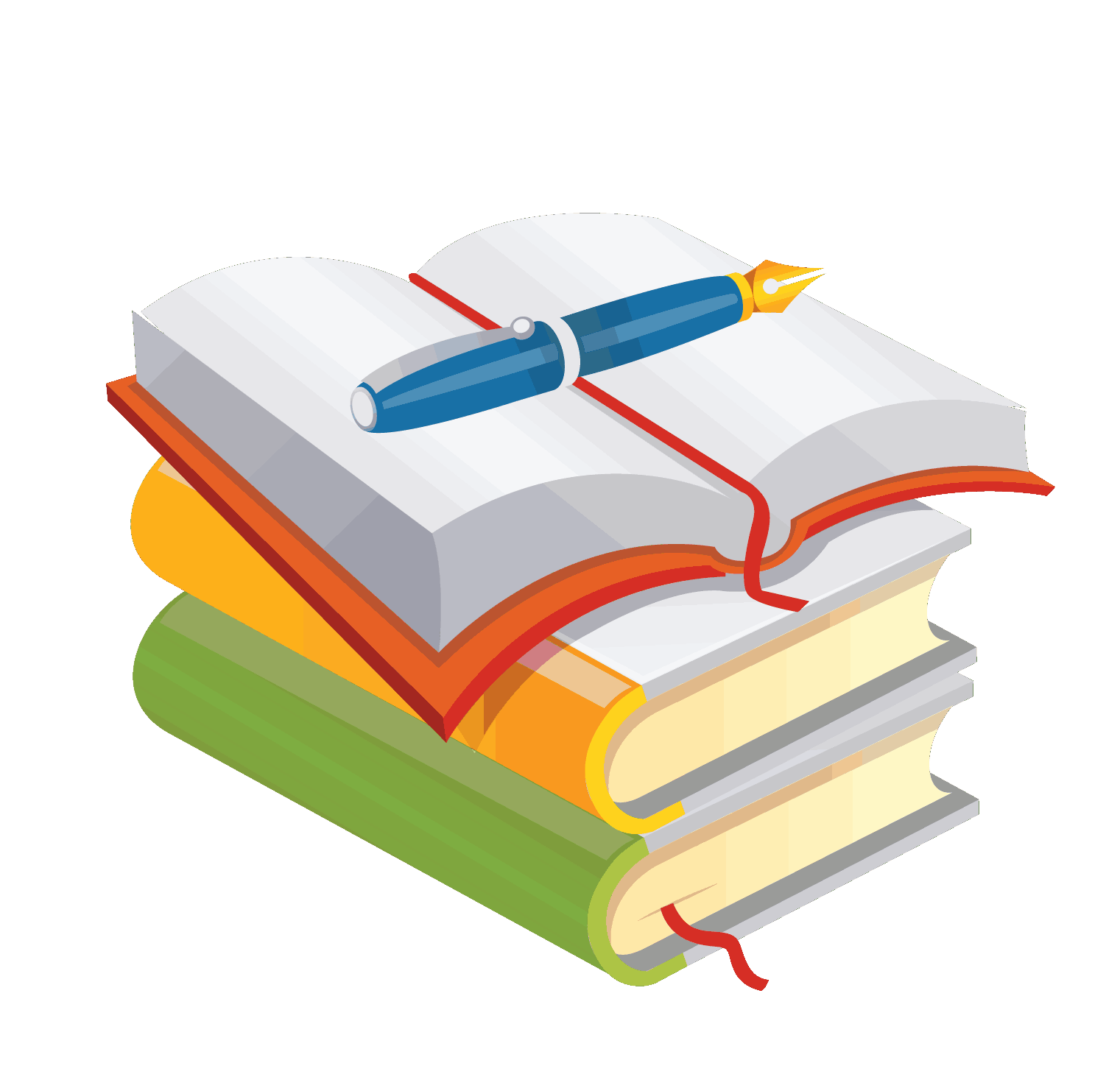 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.