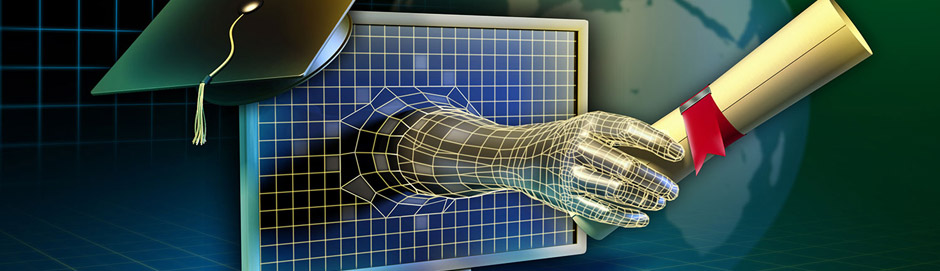Константин Бальмонт
Александрова Т. Л.
"Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы, не задумываясь, сказала: Поэт" – писала Марина Цветаева в очерке "Слово о Бальмонте". И, поясняя свою мысль, которую несколько странно было услышать от поэта в век поэзии, продолжала: "Не улыбайтесь, господа. Этого бы я не сказала ни о Есенине, ни о Мандельштаме, ни о Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже о Блоке, ибо у всех названных было еще что-то кроме поэта в них. Большее или меньшее, лучшее или худшее, но – еще что-то. <…> В Бальмонте, кроме поэта в нем, нет ничего. Бальмонт – Поэт – адекват. <...> На Бальмонте – в каждом его жесте, шаге, слове – клеймо – печать – звезда поэта". И далее, процитировав пушкинские строки: "Пока не требует поэта // К священной жертве Аполлон…" – Цветаева говорила о неприменимости их к Бальмонту: "Бальмонта Аполлон всегда требовал, и Бальмонт в заботы суетного света никогда не погружался, и святая лира его никогда не молчала, и душа хладного сна никогда не вкушала…" и т.д. (Цветаева М.И. Собр. Соч. в 7-ми тт. М., 1994. Т. 4., С. 271). Восторженный тон очерка отчасти обусловлен ситуацией: он был написан в 1936 г. к 50-летнему юбилею творчества Бальмонта, и имел целью привлечение внимания эмиграции к забытому, больному и сильно нуждающемуся поэту. В других своих подобных эссе Цветаева несколько более критична. Она говорит о "нерусскости" Бальмонта: "В русской сказке Бальмонт не Иван-Царевич, а заморский гость, рассыпающий перед царской дочерью все дары жары и морей. <...> У меня всегда чувство, что Бальмонт говорит на каком-то иностранном языке, каком – не знаю, бальмонтовском" (Цветаева М.И. Герой труда. – в кн.: Цветаева М.И. Пленный дух. Воспоминания о современниках. Эссе. СПб., 2000. С. 88).
Приведенные суждения Цветаевой о Бальмонте, как почти все у нее, субъективны, но очень метки, и сами по себе дают достаточно емкое представление об этом поэте. Емкое, но, конечно, далеко не исчерпывающее. Судьба Бальмонта – и человеческая, и литературная, - это история взлетов и падений, громкой славы и долгого забвения, ниспровержения и возвращения, отрицания и утверждения. Считать ли его классиком – вопрос дискуссионный. Что-то у него можно принять, что-то – трудно, что-то – невозможно. Но для христианина жизненный путь этого поэта примечателен, прежде всего, как свидетельство удивительной милости Божией к человеку, удивительного Его долготерпения, как свидетельство того, что Бог не оставляет человека даже тогда, когда сам человек, казалось бы, навсегда оставил Бога.
Биография
"Заморским гостем" был Бальмонт в русской поэзии. Экзотично звучала и его фамилия, заставляя предположить "заморские" корни. Возможно, они и были, но документальных подтверждений тому нет. Более того – по документам (на которые ссылается в жизнеописании поэта его вторая жена – Е.А. Андреева-Бальмонт) прадед его был помещиком Херсонской губернии с совсем прозаической фамилией: "Баламут". С течением времени "Баламут" как-то превратилось в "Бальмонт". Странное объяснение, противоречит законам текстологии. Скорее наоборот: иноземную фамилию помещика народ приспособил к своему пониманию. Но, так или иначе, очевидно одно: среди предков поэта попадались большие оригиналы, и в этом смысле он был верным представителем своего рода. Впрочем, ни отец его, Дмитрий Константинович, ни братья, которых у него было шестеро, ничем особенным среди людей своего круга не выделялись – кроме, может быть, старшего брата, Николая, но тот умер 23-х лет от роду.
Еще одна странность: все родственники поэта произносили свою фамилию с ударением на первый слог, поэт же "из-за каприза одной женщины" перенес ударение на второй, отчего современники-поэты рифмовали ее со словами "горизонт", "Геллеспонт", "Креонт".
Константин Дмитриевич Бальмонт родился 3 (15) июня 1867 г. в селе Гумнище Шуйского уезда Владимирской губернии. В семье он был третьим сыном, всего же, как уже было сказано, сыновей было семеро, а дочерей – ни одной. Казалось бы, в такой семье должны были сформироваться суровый мужской характер и предпочтение к мужскому обществу. Между тем, парадоксальным образом в характере Бальмонта было что-то неистребимо-женственное, – в какие бы воинственные позы он ни вставал, – и всю жизнь ему были ближе и роднее женские души. Сам он считал, что именно отсутствие сестер пробудило в нем потребность их иметь, вызвало особый интерес к женской природе. Вероятно, уважение к женской личности развилось в нем и от общения с матерью. Вера Николаевна Бальмонт (урожденная Лебедева), была женщиной властной, сильной, образованной, хорошо знала иностранные языки, много читала, не была чужда некоторого вольнодумства (в доме принимали "неблагонадежных" гостей). Раннее детство будущего поэта прошло в деревне. "Мои первые шаги, вы были шагами по садовым дорожкам среди бесчисленных цветущих трав, кустов и деревьев, - писал впоследствии Бальмонт, выражаясь обычным своим вычурным слогом, - Мои первые шаги первыми весенними песнями птиц были окружены, первыми перебегами теплого ветра по белому царству цветущих яблонь и вишен, первыми волшебными зарницами постигания, что зори подобны неведомому Морю и высокое Солнце владеет всем" (Бальмонт К.Д. На Заре. – в кн. Бальмонт К.Д. Автобиографическая проза. М., 2001, С. 570). Бальмонт много вспоминал свое детство, детские впечатления – описывая все это с каким-то женственным умилением.
Помню я, бабочка билась в окно,
Крылышки тонко стучали.
Тонко стекло и прозрачно оно,
Но отделяет от дали.
В мае то было. Мне было пять лет.
В нашей усадьбе старинной.
Узнице воздух вернул я и свет
Выпустил в сад наш пустынный.
Если умру я и спросят меня:
"В чем твое доброе дело?" –
Молвлю я: "Мысль моя майского дня
Бабочке зла не хотела".
Бальмонт немного кокетничает "детскостью" своей души. Эта "детскость" в нем сохранялась всю жизнь – друзья считали ее искренней, недруги – притворной. И те, и другие имели основания для такого суждения. Но все же, в какие бы бездны не бросался поэт впоследствии, то, что от природы душа его была отзывчивой, доброй и чистой – это истинная правда.
Когда пришло время отдавать старших детей в школу, семья переехала в Шую. Однако переезд в город не значил отрыва от природы. Шуйский дом Бальмонтов, окруженный обширным садом, стоял на живописным берегу реки Тезы; кроме того, отец, страстный любитель охоты, часто наведывался в Гумнище. Сын Костя сопровождал его чаще других. Детство, проведенное среди природы, сближает Бальмонта с Буниным – но до чего по-разному преломились в них сходные впечатления! Может быть, потому, что если для Бунина "смежным искусством" была живопись, то для Бальмонта, несомненно, – музыка.
В 1876 г. Костя Бальмонт поступил в подготовительный класс гимназии. Сначала учился хорошо, потом ученье наскучило, и внешняя успеваемость снизилась, зато пришла плодотворная пора запойного чтения: Майн Рид и Гоголь, Диккенс и Пушкин, Гюго и Лермонтов – одно книжное впечатление сменяло другое, многие книги – французские и немецкие – мальчик читал в подлиннике. Под впечатлением прочитанного он сам начал писать стихи, но первые пробы пера, сделанные в десятилетнем возрасте, не понравились матери, и это на какое-то время остановило его, серьезное же сочинительство началось с 16 лет.
В 17 лет, будучи еще гимназистом, Бальмонт стал участником революционного кружка. Обращение к революции было, как многое в его жизни, - от противного: "Потому что я был счастлив, и мне хотелось, чтобы всем было так же хорошо. Мне казалось, что, если хорошо лишь мне и немногим, это безобразно" (Бальмонт К.Д. "Революционер я или нет" - Автобиографическая проза. С. 452). Через некоторое время деятельностью кружка заинтересовалась полиция, некоторые члены его были арестованы, некоторые – в том числе и Бальмонт – отчислены из гимназии. Мать стала добиваться для сына возможности доучиться в другом месте, и в конце концов разрешение было получено: Бальмонт был принят в гимназию г. Владимира. Жить ему пришлось на квартире у учителя греческого языка, который ревностно исполнял обязанности "надзирателя". Когда в декабре 1885 г. Бальмонт опубликовал свои первые стихи в журнале "Живописное обозрение", "надзиратель" был весьма недоволен и запретил подопечному подобные опыты вплоть до окончания гимназии. Неудивительно, что от гимназии у Бальмонта остались самые тяжелые впечатления.
I. Поиски себя
"Кончая гимназию во Владимире-губернском, я впервые познакомился с писателем, - вспоминал Бальмонт, - и этот писатель был не кто иной, как честнейший, добрейший, деликатнейший собеседник, какого когда-либо в жизни приходилось мне встречать, знаменитейший в те годы повествователь Владимир Галактионович Короленко" ("На заре". – "Автобиографическая проза". С. 571). Писатель тогда приехал во Владимир, и знакомые Бальмонта передали ему тетрадь стихов начинающего поэта. Короленко отнесся к ним серьезно и, прочитав стихи, написал гимназисту обстоятельное письмо. "Он писал мне, что у меня много красивых подробностей, успешно выхваченных из мира природы, что нужно сосредоточивать свое внимание, а не гоняться за каждым промелькнувшим мотыльком, что никак не нужно торопить свое чувство мыслью, а надо довериться бессознательной области души, которая незаметно накопляет свои наблюдения и сопоставления, и потом внезапно все это расцветает, как расцветает цветок после долгой невидной поры накопления своих сил" (Там же. С. 572).
В 1886 г., окончив, наконец, ненавистное учебное заведение, Бальмонт поступил на юридический факультет Московского университета. Юридические науки привлекали его мало – он по-прежнему предпочитал самообразование, изучал языки и, как многие вольнолюбивые молодые люди, увлекался освободительными идеями. Вскоре в университете был введен новый устав, ограничивавший права студентов, начались студенческие волнения, зачинщики были отчислены. Среди зачинщиков оказался и Константин Бальмонт. Три дня пришлось провести ему в Бутырской тюрьме (как раз те "три дня", которые необходимы были русскому интеллигенту, чтобы потом всю жизнь говорить, что и он "страдал за народ"). Потом он прожил год в родной Шуе, много читал, - в частности, увлекся поэзией Шелли. Увлечение со временем переросло в серьезную многолетнюю работу: Бальмонт задумал перевести все собрание сочинений английского поэта, чтобы дать читателю "русского Шелли".
Из облачка, из воздуха, из грезы,
Из лепестков, лучей и волн морских
Он мог создать такой дремотный стих,
Что до сих пор в нем дышит дух мимозы.
И в жизненные был он вброшен грозы,
Но этот вихрь промчался и затих.
А крылья духов, – да, он свеял их
В стихи с огнем столепестковой розы.
Но чаще он не алый – голубой,
Опаловый, зеленый, густо-синий, –
Пастух цветов, с изогнутой трубой.
Красивый дух, он шел – земной пустыней,
Но – к морю, зная сон, который дан
Вступившим в безграничный Океан. ("Шелли")
Это уже – типичный Бальмонт. Правда, стихи эти написаны много позже, – они вошли в сборник 1917 г. "Сонеты солнца, меда и луны". Но родственную душу в английском поэте-романтике Бальмонт почувствовал уже тогда, в годы юности, когда сам писал стихи, во многом следуя влиянию кумира тогдашней молодежи - Надсона. Вот один из первых его опытов, из тетради, переданной Короленко.
Бог создал людям светлый мир,
Дал нам свободную природу, -
Они восставили кумир,
Забыли братство, честь, свободу.
Он нам Спасителя послал,
Чтоб вняли слову примиренья, -
Его насмешкою распял
Народ в порыве озлобленья.
Христос на землю вновь сойдет, -
И вот, тревогой не волнуем,
К нему Иуда подойдет
С своим злодейским поцелуем.
("Из тьмы в тьму" – Цит. по кн.: Куприяновский П.В., Молчанова Н.А. Поэт Константин Бальмонт. Биография. Творчество. Судьба. Иваново. 2001. С.30).
Как не вспомнить надсоновские стихи:
Христос! Где Ты, Христос, сияющий лучами
Бессмертной истины, свободы и любви!
Взгляни, – Твой храм опять поруган торгашами,
И меч, что Ты принес, запятнан весь руками,
Повинными в страдальческой крови!...
Модернистская критика впоследствии заклеймила Надсона как никудышного поэта с "честными" порывами – это представление о нем было подхвачено последующим литературоведением. Но причиной такой оценки было не столько качество стихов Надсона, сколько стремление "новых поэтов" возвыситься на его фоне. Конечно, Надсон еще находится в рамках традиционной поэтики XIX в., но, по крайней мере, музыкальностью своего стиха он уже близок эстетике символизма. Не так уж плохи и первые стихи Бальмонта – хотя нечто подобное тогда писали многие. Конечно, видно, что в ту пору он еще не нашел своего, неповторимого стиля, но заслуживает доброго слова та чистая тональность, которая в них слышится. Пусть увлечение идеями "братства, чести, свободы" были в значительной мере данью общему настроению, но эти его убеждения были искренни и в тот период вырастали из христианского чувства сострадания. Еще несколько лет – пока он не вошел в роль "демона" - эта чистая тональность звучала в его стихах.
Одна есть в мире красота, -
Не красота богов Эллады,
И не моря, не водопады,
Не гор весенних чистота.
Одна есть в мире красота
Любви, печали, отреченья
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.
Понадобилось много лет и много жизненных испытаний, чтобы поэт вновь вернулся к этой мысли.
В 1888 г. Бальмонт возобновил занятия в Московском университете, но опять ненадолго. Он жаловался на "нервное расстройство". Но главной причиной была любовь. В сентябре 1888 г., находясь в Шуе, Бальмонт познакомился с "ботичеллиевской красавицей", Ларисой Михайловной Гарелиной (1864 – 1942), и учеба отошла на второй план. Знакомству способствовала мать Бальмонта, но она же резко воспротивилась, когда сын заговорил о женитьбе. Тем не менее юноша был непреклонен в своем решении и готов был порвать с собственной семьей. "Мне еще не было двадцати двух лет, когда я, бросив университет, в 1889 г. женился на красивой девушке, - вспоминал он, - и мы уехали ранней весной, вернее, в конце зимы, на Кавказ, в Кабардинскую область, а оттуда по Военно-Грузинской дороге в благословенный Тифлис и Закавказье" (Бальмонт К.Д. Волга. – Автобиографическая проза. С. 541). Это было первое большое путешествие в жизни поэта. Но свадебная поездка не была прологом к счастью. Брак оказался неудачным. Поссорившись с родителями, Бальмонт рассчитывал жить литературным трудом, но первый его поэтический сборник, вышедший в 1890 г., успеха не имел и почти не расходился. Жена не сочувствовала ни его литературным устремлениям, ни его революционным настроениям. К тому же, была страшно ревнива, а еще – пристрастилась к вину. Начались ссоры. Первый ребенок умер, второй – сын Николай – впоследствии страдал нервным расстройством. Потом, уже разойдясь с Бальмонтом, Лариса Михайловна вышла замуж за журналиста и историка литературы Н.А. Энгельгардта и мирно прожила с ним много лет (ее дочь от этого брака, Анна Николаевна Энгельгардт, стала второй женой Николая Гумилева). Было бы несправедливо считать первую жену Бальмонта его "вампирным гением" – просто, очевидно, она и он плохо сочетались друг с другом, поскольку оба были людьми неуравновешенными. Но тогда, в 1890 г. семейные неурядицы едва не стоили поэту жизни. Его стали посещать мысли о смерти и 13 марта 1890 г. он выбросился из окна. Травмы, хотя и тяжелые, непоправимых последствий не имели, если не считать хромоты, которая осталась у поэта навсегда.
Как многие люди, чудом спасшиеся от смерти, Бальмонт счел, что это спасение не случайно, и что в жизни его ждет высокое предназначение. Он еще более укрепился в решении заняться литературой и исполнился несокрушимой веры в себя. Выздоровев, отправился в Москву, чтобы завести литературные знакомства. Начало литературной деятельности его не было легким. "Мои первые шаги в мире поэтическом, вы были осмеянными шагами по битому стеклу, по темным острокрайним кремням, по дороге пыльной, как будто не ведущей ни к чему" ("На заре" - "Автобиографическая проза" С. 570). Востребован он был, прежде всего, как переводчик. Его приняли несколько редакций, но особую поддержку оказал ему профессор Николай Ильич Стороженко (1836 – 1906). "Он поистине спас меня от голода и как отец сыну бросил верный мост, выхлопотав для меня у К.Т. Солдатенкова заказ перевести "Историю скандинавской литературы" Горна-Швейцера, и, несколько позднее, двухтомник "Истории итальянской литературы" Гаспари. Третьим другом моих первых шагов в литературе был наш великолепный москвич, знаменитый адвокат, князь Александр Иванович Урусов. Он напечатал мой перевод "Таинственных рассказов" Эдгара По и громко восхвалял мои первые стихи, составившие книжки "Под северным небом" и "В безбрежности"" (Там же. С. 573). А.И. Урусов (1853 – 1900) был блестящим знатоком поэзии французского символизма и немало способствовал приобщению своего молодого друга и к этой стихии.
Бальмонт очень много переводил. Но по-настоящему удачны его переводы были тогда, когда в переводимом поэте он находил родственную душу (все остальное звучало переводом с неизвестного языка на "бальмонтовский"). Родным духом, как мы уже сказали, был для него Шелли. Не менее родным – Эдгар По.
Это было давно, это было давно
В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
Называлася Аннабель-Ли, –
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим и жить мы могли.
И, любовью дыша, были оба детьми
В королевстве приморской земли,
Но любили мы больше, чем любят в любви,
Я и нежная Аннабель-Ли, –
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.
Оттого и случилось когда-то давно
В королевстве приморской земли:
С неба ветер повеял холодный из туч,
Он повеял на Аннабель-Ли;
И родные толпой многознатной сошлись
И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг
В королевстве приморской земли.
Половины такого блаженства узнать
Серафимы в раю не могли, –
Оттого и случилось (как ведомо всем
В королевстве приморской земли):
Ветер ночью повеял холодный из туч –
И убил мою Аннабель-Ли.
Но любя, мы любили сильней и полней
Тех, что старости бремя несли,
Тех, что мудростью нас превзошли, –
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
Обольстительной Аннабель-Ли.
И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель-Ли:
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель-Ли;
И в мерцанье ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной – с невестой – с любовью моей, –
Рядом с ней распростерт я вдали
В саркофаге приморской земли. ( Э. По, "Аннабель-Ли", перевод К. Бальмонта, 1895 г.)
Оригинальные его сборники – "Под северным небом" и "В безбрежности" – вышли последовательно в 1894 и 1895 гг. Историко-литературные познания способствовали формированию собственного стиля Бальмонта. Одним из первых опробованных им приемов было построение стиха на основе аллитерации, распространенное в древней скандинавской поэзии.
Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется
Чуждый чарам черный челн.
Чуждый чистым чарам счастья,
Челн томленья, челн тревог,
Бросил берег, бьется с бурей,
Ищет светлых снов чертог.
Мчится взморьем, мчится морем,
Отдаваясь воле волн.
Месяц матовый взирает,
Месяц горькой грусти полн.
Умер вечер. Ночь чернеет.
Ропщет море. Мрак растет.
Челн томленья тьмой охвачен.
Буря воет в бездне вод.
Эти, слишком навязчивые для русского слуха, аллитерации со временем стали раздражать читателей, но поначалу они очаровывали и опьяняли своей необычностью. Десятилетие с 1895 по 1905 г. – время победоносного утверждения Бальмонта в русской поэзии. К концу этого десятилетия он считался "лучшим и талантливейшим" поэтом эпохи.
Переводческая работа не только оттачивала стиль начинающего литератора, но и расширяла его кругозор, возмещая так и не полученное высшее образование. Стороженко также ввел Бальмонта в круг редакции петербургского "Северного вестника", где группировались поэты нового направления. Поездка в Петербург состоялась в октябре 1892 г. – Бальмонт познакомился с Минским, Мережковским, Гиппиус. Впечатления были самыми радужными. Впрочем, уже с первых встреч наметились и разногласия. Бунин, познакомившийся с Бальмонтом примерно в то же время, вспоминал эпизод чуть более поздний – на одной из "пятниц" Случевского: "Бальмонт был в особенном ударе, читал свое первое стихотворение с такой самоуверенностью, что даже облизывался:
Лютики, ландыши, ласки любовные…
Потом читал второе, с отрывистой чеканностью:
Берег, буря, в берег бьется
Чуждый чарам черный челн…
Гиппиус все время как-то сонно смотрела на него в лорнет и, когда он кончил и все еще молчали, медленно сказала:
– Первое стихотворение очень пошло, второе – непонятно.
Бальмонт налился кровью.
– Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимания?
– Я не понимаю, что это за челн и почему и каким таким чарам он чужд, – раздельно ответила Гиппиус.
Бальмонт стал подобен очковой змее:
– Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. Но когда поэту докучает мещанскими вопросами тоже поэт, он не в силах сдержать своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы вы стали понятливей?
– Но я ужасно рада, что вы не можете, – ответила Гиппиус. – Для меня было бы большим несчастьем иметь вашу голову…" (Бунин. Собр. Соч. в 9-ти тт. Т. 9. С. 303).
Бунин вспоминает о Бальмонте с большой неприязнью. Между тем, в 90-е гг. они были если не друзьями, то хорошими приятелями, вместе ездили в Крым и Одессу и посвящали друг другу стихи. Тот образ Бальмонта, который запечатлел Бунин, несет печать существенной перемены, произошедшей в его характере во второй половине 90-х гг. Причин этой перемены было несколько.
II "Звездное десятилетие" и "злые чары"
Став, можно сказать, профессиональным переводчиком, Бальмонт попал под влияние той литературы, которую переводил. И постепенно российские "христианско-демократические" – и его собственные – мечты о том, "чтобы всем было хорошо", стали казаться ему провинциальными, устаревшими. Точнее, желание осчастливить человечество осталось, устаревшим же показалось, прежде всего, христианство. Соответственно, соответственно, горячий отклик в его душе нашли модные сочинения Ницше.
Брюсов, с которым он познакомился в 1894 г. и сблизился до степени "братства", записывает в своем дневнике, что Бальмонт "называл Христа лакеем, философом для нищих" (Брюсов В.Я. Дневники. Письма Автобиографическая проза. М. 2002, С. 39).
Очерк 1895 г. "На высоте" дает почувствовать пафос его новых убеждений: "Нет, не хочу я вечно плакать. Нет, я хочу быть свободным. Свободным от слабостей должен быть тот, кто хочет стоять на высоте… Нет высшего счастья, как понять благородство несчастья. Людям нужно счастье, а не тем, кто хочет быть отмечен среди людей. До рассвета покинул я долину и в горах приветствую рассвет… Подниматься на высоту – значит быть выше самого себя. Подниматься на высоту – это возрождение. Я знаю, нельзя быть всегда на высоте. Но я вернусь к людям, я спущусь вниз, чтобы рассказать, что я видел вверху. В свое время я вернусь к покинутым, а теперь – дайте мне на мгновенье обняться с одиночеством, дайте мне подышать свободным ветром!" (Автобиографическая проза. С. 400).
Его манят вершины, башни, влечет само восхождение, преодоление. Еще один новый кумир – Ибсен и его герои: Пер Гюнт с его "быть самим собой", строитель Сольнес:
Я мечтою ловил угасавшие тени
Угасавшие тени уходящего дня.
Я на башню всходил и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
И чем выше я шел, тем ясней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вокруг раздавались,
Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.
Чем я выше всходил, тем светлее сверкали,
Тем светлее сверкали выси дремлющих гор,
И сияньем прощальным как будто ласкали,
Словно нежно ласкали отуманенный взор.
И внизу подо мною уже ночь наступила,
Уже ночь наступила для уснувшей Земли,
Для меня же блистало дневное светило,
Огневое светило догорало вдали.
Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня,
И все выше я шел, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
Увидев у Ибсена "башни", "восхождения" и вняв вдохновляющему призыву: "Быть тебе первым, Пер Гюнт!" - Бальмонт тогда не понял главного: в эгоцентрических поисках самого себя ибсеновский герой чуть было не погубил собственную душу, от которой осталась столь ничтожная малость, которой не хватало и на то, чтобы отлить пуговицу, и только в любви оставленной им Сольвейг, преданно ждавшей его всю жизнь, он и оставался собой. Та же участь чуть не постигла Бальмонта. Вопрос только в том, кто была его Сольвейг. В позднем творчестве он клялся в любви к "Одной", "Единственной", "Белой Невесте". Но кто она – похоже, он и сам до конца не понимал: слишком много женщин было в его жизни. Большинство биографов поэта склонно думать, что это – его вторая жена, Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт (1867 – 1952), которую он сам называл "своей Беатриче", и которая в конце жизни написала о нем подробнейшие воспоминания.
Она происходила из богатой купеческой семьи (Андреевым принадлежали лавки колониальных товаров) и считалась завидной невестой, была образованна (училась на Высших женских курсах), замуж не спешила, хотя была хороша собой: высокая (ростом выше Бальмонта), тонкая, с прекрасными черными глазами. Она была безответно влюблена в А.И. Урусова, кружок которого посещала. Бальмонт, по ее словам, увлекся ею сразу, она же довольно долго его не замечала. А когда у нее зародилось ответное чувство, выяснилось, что на пути к их соединению существуют труднопреодолимые препятствия: поэт был женат, а родители Екатерины Алексеевны – благочестивы. Влюбленным было запрещено видеться, но они бесстрашно обходили запреты.
С первой женой, Ларисой Михайловной, Бальмонт порвал не сразу после своей неудачной попытки самоубийства. Налаживая литературные контакты в Москве и Петербурге, он писал ей письма, в которых делился своими впечатлениями. Но совместная жизнь так и не складывалась. Через Бальмонта Лариса Михайловна познакомилась с будущим вторым своим мужем – Н.А. Энгельгардтом, и в 1894 г., когда поэт после очередной ссоры ее оставил, ушла к нему. На момент знакомства с Андреевой развод Бальмонта был делом предрешенным, но далеко не решенным. Впрочем, Екатерину Алексеевну, в отличие от ее родителей, этот вопрос волновал мало. Просвещенная в новейшем духе барышня, она увлекалась теософией (ближайшей ее подругой была известная А.Р. Минцлова), на обряды смотрела как на формальность. В конце концов, не дожидаясь официального решения Синода, она, переупрямив родителей, переселилась к поэту. "Со мной моя "черноглазая лань"" - радостно сообщает Бальмонт матери 21 июня 1896 г. Бракоразводный процесс завершился 29 июля того же года, и решение его было неутешительным: жене дозволялось вступить во второй брак, а мужу – запрещалось навсегда. Но это препятствие было преодолено: отыскав какой-то документ, где жених значился неженатым, влюбленные обвенчались 27 сентября 1896 г., а на следующий день выехали за границу, во Францию.
Разговор с родителями невесты о будущем у Бальмонта все же состоялся. Ему дали понять, что рассчитывать на приданое нечего, но было также сказано, что позволить дочери прозябять в нищете родители не могут. Поэт ответил, что очень рад этому: значит, его Кате не придется привыкать к бедности. Действительно, то, к чему Катя привыкла в качестве карманных расходов, едва ли не превышало его годовой заработок. Таким образом, словесный отказ в помощи был фактическим согласием помогать. Впоследствии это обстоятельство сыграло с поэтом злую шутку.
За границей молодые жили в Париже, Биаррице, ездили в Париж и Кельн. Бальмонт занимался изучением языков и литературы. Весной – летом 1897 г. состоялась поездка в Лондон, где Бальмонт читал лекции по русской литературе. А осенью, оставив жену в Париже, поэт отправился в Россию – готовить к изданию свой следующий сборник – "Тишина", вышедший в свет в январе 1898 г.
В России его с нетерпением ждали два человека. Об одном Андреева говорит в своих воспоминаниях: "Первым и самым большим другом Бальмонта был Брюсов, самым "желанным для меня, единственно нужным мне человеком в России", как писал Бальмонт Брюсову из-за границы в 1897 г." (Андреева-Бальмонт Е.А. Воспоминания. М., 1996. С. 336). Вообще к подобным признаниям Бальмонта надо относиться с осторожностью. Для него каждый раз существовал только тот человек, к которому он обращался, весь остальной мир отступал на второй план, хотя то, что Брюсов был ему тогда близок, конечно, правда. "Когда мы с Бальмонтом после свадьбы уехали за границу, – продолжает Екатерина Алексеевна, – между поэтами завязалась переписка, и Бальмонт изо всех друзей скучал больше всего по Брюсову. Писал ему часто и ждал нетерпеливо его писем" (Там же. С. 337). Но приезд Бальмонта в Москву кончился размолвкой, точнее даже трещиной в отношениях двух друзей. Андреева дает объяснение на этот счет: "У меня есть основание думать, что Брюсов ревновал свою жену, Иоанну Матвеевну, к Бальмонту, который, пленившись ею, не подумал, как всегда, скрывать свои восторги ни от жены, ни от мужа... Но утверждать не могу" (Там же. С. 337).
Трудно сказать, искренна ли Екатерина Алексеевна в этих своих словах. Бальмонт всю жизнь был благодарен ей за то, что она спокойно относилась к его многочисленным романам и, казалось, была лишена ревности. Но по тону ее воспоминаний понятно, что не ревновала она только тогда, когда не видела в очередной сопернице опасности для себя. Между тем, и предшественницу свою, Л.М. Гарелину, и "преемницу", Е.К. Цветковскую, она, хоть и старается выдерживать объективный тон, рисует довольно темными красками. И глухо, почти непроницаемо молчит о том "романе", который занял наиболее видное место в творчестве Бальмонта – о его "поэтической дружбе" с поэтессой Миррой Лохвицкой. Между тем, именно она была вторым человеком, нетерпеливо ждавшим возвращения Бальмонта из-за границы. Похоже, что именно из-за нее, а не из-за незаметной Иоанны Матвеевны, возникла трещина в дружбе двух "братьев", и, если принимать во внимание логику поэзии Бальмонта, то она – точнее, ее поэтический двойник – является не менее реальной, чем Андреева, кандидатурой на роль его "Сольвейг", или, скорее, его "Аннабель-Ли".
Мирра Александровна Лохвицкая была на два года моложе Бальмонта, и печататься начала позже, чем он, но тогда, в середине 90-х гг., была, пожалуй, более известна. Ее поэтический дебют был исключительно удачным. "После Фета я не помню ни одного настоящего поэта, который так бы завоевывал, как она, "свою" публику" - писал хорошо знавший ее еще в юности писатель Василий Иванович Немирович-Данченко, брат основателя МХАТа (Немирович-Данченко В.И. На кладбищах. Воспоминания. М., 2001. С. 126). Он вспоминал свое первое впечатление от ее стихов: "словно на меня солнцем брызнуло". Не менее ярким было и впечатление от самого автора: "Наивная, застенчивая, мерцавшая ранним огнем прелестных глаз <…> Родилась и выросла в тусклом <…> Петербурге, - а вся казалась чудесным тропическим цветком, наполнявшим мой уголок странным ароматом иного, более благословенного небесами края" (Там же. С. 118). Природа наградила ее яркой южной красотой, экзотическое имя "Мирра" (переделанное из обычного "Мария") очень шло к ее внешности. Мемуаристы, вспоминавшие Лохвицкую, в основном единодушны в своих восторгах. "И все в ней было прелестно: звук голоса, живость речи, блеск глаз, эта милая, легкая шутливость", - писал строгий к собратьям по перу Бунин (Собр. Соч. Т.9. С. 289). Его воспоминания о Лохвицкой столь же теплы, сколь неприязненны – воспоминания о Бальмонте. И ни он, ни Немирович-Данченко, ни родная сестра Лохвицкой, Н.А. Тэффи, ни слова не говорят о каких-то особых отношениях двух поэтов. Причиной тому был образ поведения Лохвицкой, никак не совпадавший с ее литературной репутацией. "Стихи ее отливали огнем настоящей эротики в духе Песни Песней. – вспоминал критик Аким Волынский. – А в домашнем быту это была скромнейшая и, может быть, целомудреннейшая женщина, всегда при детях, всегда озабочена своим хозяйством" (Волынский А.Л. Русские женщины. – Минувшее, т. 17, М. – СПб, 1994. 275). Среди литературных романов рубежа веков роман Бальмонта и Лохвицкой – один из самых нашумевших и самый неизвестный. Подробности личных отношений документально невосстановимы. Единственный сохранившийся источник – для литературы, впрочем, самый ценный – это собственные стихотворные признания двух поэтов. Их диалог длился на протяжении почти десяти лет, помимо десятка "маркированных" стихотворений он охватывает сотни "немаркированных", без прямого посвящения, но с узнаваемыми аллюзиями к конкретным стихотворениям и образам поэзии друг друга. Случай, пожалуй, уникальный в русской литературе: поэтические миры этих двух поэтов, близких по звучанию, но очень разных по взгляду на жизнь, устремлены друг к другу всеми изгибами линий (так очертания Африки и Южной Америки вызывают в воображении некогда бывший единый материк).
Приведем один пример этой переклички без посвящений. Вот отрывок из стихотворения Бальмонта "Мертвые корабли" (1897 г.):
…Солнце свершает
Скучный свой путь.
Что-то мешает
Сердцу вздохнуть…
Грусть утихает,
С другом легко,
Кто-то вздыхает –
Там – далеко.
Счастлив, кто мирной
Долей живет,
Кто-то в обширной
Бездне плывет…
А вот ответ Лохвицкой – 1898 г.
Зимнее солнце свершило серебряный путь.
Счастлив – кто может на милой груди отдохнуть.
Звезды по снегу рассыпали свет голубой.
Счастлив – кто будет с тобой.
Месяц, бледнея, ревниво взглянул и угас.
Счастлив – кто дремлет под взором властительных глаз.
Если томиться я буду и плакать во сне,
Вспомнишь ли ты обо мне?
Полночь безмолвна, и Млечный раскинулся Путь.
Счастлив – кто может в любимые очи взглянуть,
Глубже взглянуть, и отдаться их властной судьбе.
Счастлив – кто близок тебе.
Такие "половинки" находятся совершенно случайно, но, приложив их друг к другу, нельзя не видеть, что, сложенные, они составляют единое целое. Постепенно из кусочков складывается некий "паззл", мозаика.
Иногда знаком диалога служит размер. Именно в этой перекличке родились стихотворные размеры, которые повторяли впоследствии все поэты Серебряного века. В 1894 г., еще до знакомства с Бальмонтом, Лохвицкая пишет стихотворение "Титания". В нем использовано несколько размеров, в том числе – четырехстопный ямб с цезурным наращением внутри каждой нечетной строки:
Хочу я слышать тот шепот странный,
Хочу внимать словам признания,
Томиться… плакать… и в час желанный,
Сгорать от тайного лобзания…
В 1896 г. Бальмонт откликается сходным размером:
Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, лаская ивы,
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, Лелею нивы…
В том же году Лохвицкая отвечает "Вакхической песней", в которой придает размеру особую значимость: оказывается, его повторяющаяся ритмическая единица – сам вакхический возглас "Эван, эвоэ!"
…Гремите, бубны, звените струны,
Эван, эвоэ! Нас жизнь зовет.
Пока мы в силах, пока мы юны,
Эван, эвоэ! Вперед, вперед!
Кто потом только этим размером не писал! Бунин, Блок, Гиппиус, Цветаева, Северянин – далеко не полный перечень имен. Правда, впоследствии сам Бальмонт этот размер опошлил одним известным стихотворением, о котором еще будет сказано. Но это будет уже в начале XX века.
Познакомились же поэты, очевидно, в 1895 г., по-видимому – в Крыму, где, как достоверно известно, Бальмонт побывал в сентябре – октябре, возвращаясь из Швейцарии, куда ездил на свидание со своей Катей, в которую он, в самом деле, был безумно влюблен. Неподходящая ситуация для нового увлечения, хотя парадоксы такого рода очень в духе Бальмонта. Очевидно, Лохвицкая тогда же приехала из Москвы провести в Крыму "бархатный сезон" и немного отвлечься от прозы жизни. К этому времени она четыре года была замужем и уже имела чуть не троих детей – тоже не слишком по
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Иван Бунин
Александрова Т. Л. Иван Алексеевич Бунин (1870 - 1953) - русский писатель с мировым именем, которого, с течением времени все чаще удостаивают эп
- Михаил Афанасьевич Булгаков
- Как измерить себя человеку?
О некоторых результатах «дружбы» Православия и литературыКокшенева К. А. Православная литература, православный театр, православная кул
- Узников помните!
Кокшенева К. А. Виктор Николаев. Из рода в род. Документальная повесть. М., 2003О тюрьме и каторге в русской литературе писали много и по-разн
- Мир "лазури" в поэмах М.Цветаевой
Мир "лазури" в поэмах М.Цветаевой Тарасов А. Б. К двери светлой и певучей Через ладанную тучу Тороплюсь, Как торопится от века Мимо Бога - к
- Будь или не будь
Кокшенева К. А. Тиранию времени ощущают многие критики, принявшие участие в дискуссии – отсюда и вопросительные интонации ("Зачем критик
- Ф.М.Достоевский. "Идиот". (1868)
Ф.М.Достоевский. "Идиот". (1868) Тарасов Ф. Б. Работая над новым произведением, Достоевский писал своей племяннице С.А. Ивановой: "Идея романа -
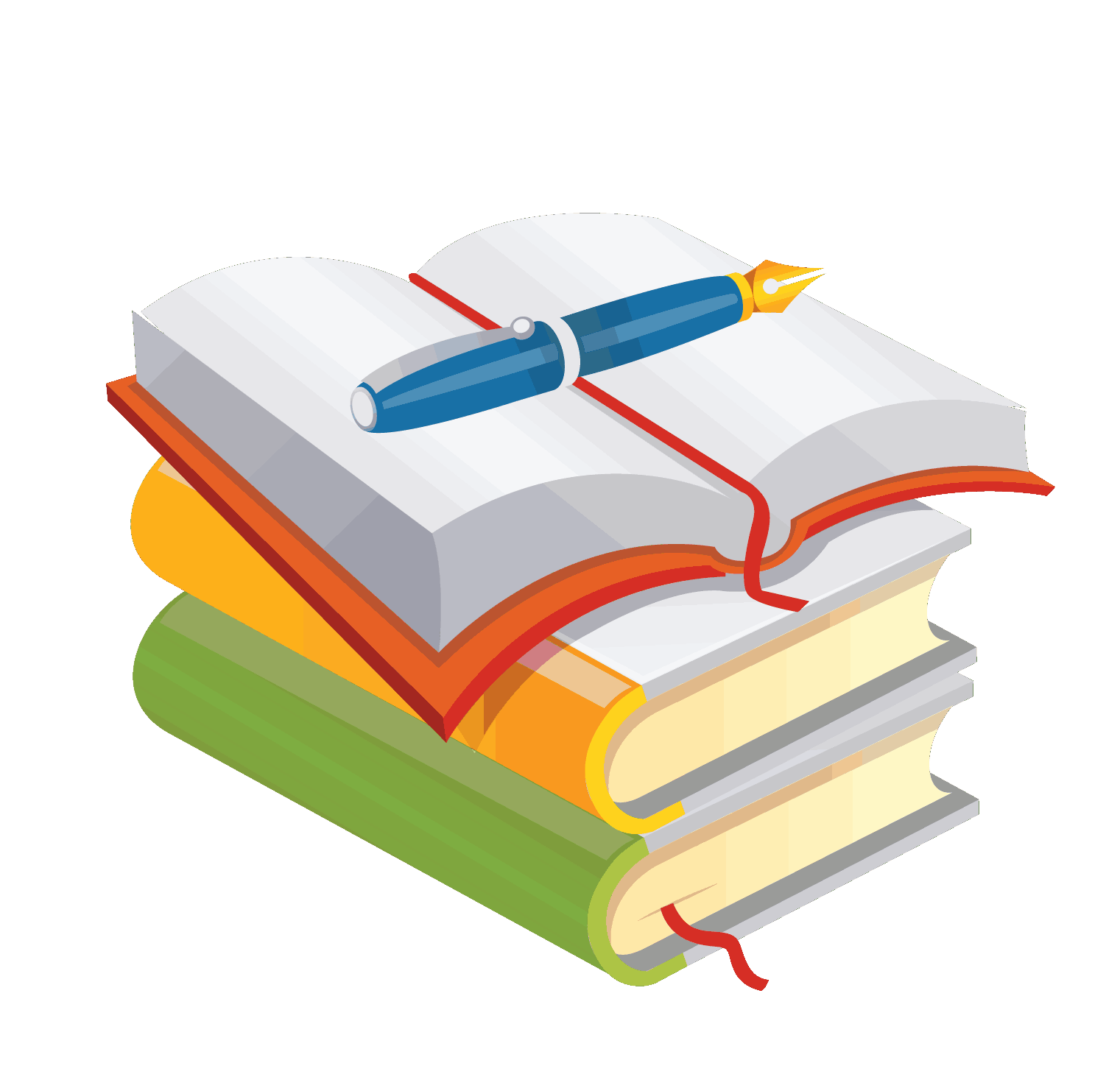 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.