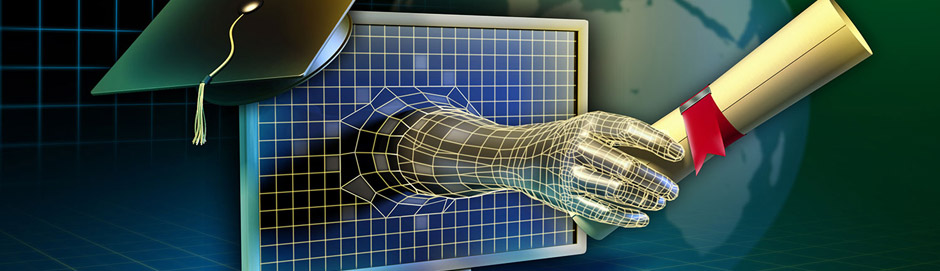Леонардо, Рафаэль, Микеланджело
Достаточно только трех имен, чтобы понять значение среднеитальян-ской культуры Высокого Ренессанса: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.
Они были во всем несходны между собой, хотя судьбы их имели много общего: все трое сформировались в лоне флорентийской школы, а потом работали при дворах меценатов, главным образом пап, терпя и милости и капризы высокопоставленных заказчиков. Их пути часто перекрещивались, они выступали как соперники, относились друг к другу неприязненно, почти враждебно. У них были слишком разные художественные и человеческие индивидуальности. Но в сознании потомков эти три вершины образуют единую горную цепь, олицетворяя главные ценности итальянского Возрождения — Интеллект, Гармонию, Мощь.
Леонардо да Винчи
К Леонардо да Винчи, может быть больше, чем ко всем другим деятелям Возрождения, подходит понятие Homo universale. Этот необыкновенный человек все знал и все умел — все, что знало и умело его время ; кроме того, он предугадывал многое, о чем в его время еще не помышляли. Так, он обдумывал конструкцию летательного аппарата и, как 'можно судить по его рисункам, пришел к идее геликоптера. Леонардо был живописцем, скульптуром, архитектором, писателем, музыкантом, теоретиком искусства, военным инженером, изобретателем, математиком, анатомом и физиологом, ботаником... легче перечислить, кем он не был. Причем в научных занятиях он оставался художником, так же как в искусстве оставался мыслителем и ученым.
Легендарная слава Леонардо прошла столетия и до сих пор не только не померкла, но разгорается все ярче: открытия современной науки снова и снова подогревают интерес к его инженерным и научно-фантастическим рисункам, к его зашифрованным записям. Особо горячие головы даже находят в набросках Леонардо чуть ли не предвидение атомных взрывов. А живопись Леонардо да Винчи, в которой, как и во всех его трудах, есть что-то недосказанное и тем более волнующее воображение, снова и снова ставит перед нами самую великую загадку — о внутренних силах, таящихся в человеке. Известно мало произведений Леонардо, и не столько. потому, что они погибали, сколько потому, что он и сам их обычно не завершал. Осталось всего несколько законченных и достоверных картин его кисти, сильно потемневших от времени, почти совсем разрушившаяся фреска «Тайная вечеря» в Милане и много рисунков и набросков — самое богатое их собрание в Виндзорской библиотеке. Эти рисунки пером, тушью и сангиной, некоторые очень тщательные, другие только набросанные, многие по нескольку на одном листе, иные вперемежку с записями, дают представление о колоссальном мире образов и идей, в котором жил великий художник. Здесь неисчислимые фигуры и головы в различных поворотах, прекрасные лица, уродливые лица, юношеские, старческие, лица спокойные и лица искаженные яростью, рисунки рук, ног, пухлые тельца младенцев, этюды женских причесок, драпировок, головных уборов, зарисовки растений и деревьев, целые ландшафты, сражающиеся воины, скачущие и вздыбившиеся лошади, головы лошадей, анатомические штудии, аллегории и фантазии — борьба дракона со львом, рыцаря с чудовищем, и более странные и сложные — какие-то стихийные космические бедствия, хлынувшие потоки вод; здесь изображения гигантских пушек, машин, похожих на танки, водолазных скафандров, церквей, дворцов, архитектурные проекты и планы. Переполненный замыслами, малой доли которых хватило бы на целую жизнь, Леонардо ограничивался тем, что намечал в эскизе, в наброске, в записи примерные пути решения той или иной задачи и предоставлял грядущим поколениям додумывать и доканчивать. Он был великий экспериментатор, его больше интересовал принцип, чем самое осуществление. Если же он задавался целью осуществить замысел от начала до конца, ему хотелось добиться такого предельного совершенства, что конец отодвигался все дальше и дальше, и он, истощая терпение заказчиков, работал над одним произведением долгие годы.
У него было много учеников, которые старательно ему подражали,— видимо, сила его гения порабощала, — и Леонардо часто поручал им выполнять работу по своим наброскам, а сам только проходился по их творениям кистью. Поэтому, при малом количестве подлинных картин самого мастера, сохранилось много «леонардесок» — произведений, прилежно и довольно внешне копирующих манеру Леонардо, — однако, отблеск его гения заметен то в общей концепции, то в отдельных частностях этих картин.
Сам Леонардо учился у известного флорентийского скульптора, ювелира и живописца Андреа Вероккьо. Ве-роккьо был крупный художник, но ученик превзошел его еще в юные годы. По рассказу Вазари, молодой Леонардо написал голову белокурого ангела в картине Вероккьо «Крещение Христа». Эта голова так изящно-благородна, исполнена такой поэзии, что остальные персонажи картины не смотрятся рядом 'с ней, кажутся нескладными и тривиальными. Однако двор Медичи не оценил Леонардо, который был слишком ранней предтечей Высокого Ренессанса. Тогда еще в зените был стиль кватроченто, и шумным успехом во Флоренции пользовался Боттичелли, старший товарищ Леонардо, йи в чем на него не похожий. В 1482 году, когда Леонардо было тридцать лет, он покинул Флоренцию и надолго обосновался в Милане. В 1500 году, после завоевания Милана французами и падения Лодовико Моро, миланского тирана, который был покровителем Леонардо,— снова вернулся во Флоренцию. Последние девятнадцать лет жизни он переезжал то в Рим, то опять во Флоренцию, то снова в Милан и в конце жизни переселился во Францию, где его с большим почетом принял король Франциск 1. Надо признать, что Леонардо был довольно равнодушен к политическим распрям и не проявлял местного патриотизма. Он чувствовал себя гражданином мира, сознавал общечеловеческое значение своих трудов и хотел одного: иметь возможность ими заниматься,— поэтому охотно ехал туда, где ему эту возможность предоставляли.
От миланского периода сохранились картина «Мадонна в гроте» и фреска «Тайная вечеря». Оба эти произведения эпохальны—целая художественная программа Высокого Возрождения, образцы ренес-сансной классики.
«Мадонна в гроте» —большая картина, форматом напоминающая типичное ренессансное окно: прямоугольник, наверху закругленный. Это распространенный в ренеосансной живописи формат. Ренессанс-ная картина — действительно подобие окна, окно в мир. Мир, в нем открывающийся, — укрупненный, величавый, торжественный, более торжественный, чем настоящий, но столь же реальный, долженствующий поражать глаз своей реальностью, своим сходством с зеркальным отражением. «...Вы, живописцы, находите в поверхности плоских зеркал своего учителя, который учит вас светотени и сокращениям каждого предмета», — писал Леонардо. Как усердно ни •работали кватроч'ентисты над перспективой и объемом, у них еще не получалось подобия зеркала. У любого художника кватроченто есть сопоставление ближних и дальних пространственных зон, но нет их естественного перете-кания. Фон замыкает картину, как задник декорации, а первый план рельефом выступает на этом фоне; 'между ними — разрыв, единого пространства не чувствуется. Проверьте это, посмотрев еще раз на композиции Пьеро делла Франческа, Гирландайо, Бот-тичелли, — всюду будет то же самое.
У Леонардо уже другое. Через его «окно» мы заглядываем в полутемный сталактитовый грот, где пространство развивается в глубину плавно, неощутимо перетекая из одного плана в другой, выводя к светлому выходу из пещеры. И группа из четырех фигур — Мария, маленький Христос, маленький Иоанн Креститель и ангел — расположена не «на фоне» пещеры, а действительно внутри нее, как говорят «в среде», причем сама эта группа пространственна. Ощущается реальное расстояние, воздух между младенцем Христом, матерью н Крестителем, — сравните с группой Весны и Флоры у Боттичелли: как там стиснуты и «наложены» одна на другую фигуры.
Вот где по-настоящему берет начало станковая живопись. Живопись, которая не покрывает плоскость, но «пробивает» в ней окно; не входит в пространственные отношения интерьера, но создает для себя свое собственное пространство, собственный мир, отдельное бытие. Мир «Мадонны в гроте» полон глубокого, таинственного очарования, свойственного только кисти Леонардо. Эти четыре существа, связанные между собой интимно-духовными узами, не смотрят друг на друга — они объединились вокруг чего-то невидимого, как будто находящегося в пустом пространстве между ними. На это невидимое направлен и указующий, длинный тонкий перст ангела. Есть какая-то неуловимость во внутренней концепции картины, и она ощущается тем острее, что исполнение с начала до конца рационалистично. Леонардо да Винчи был художником менее всего интуитивным, вое, что он делал, он делал сознательно, с полным участием интеллекта. Но он едва ли не с умыслом набрасывал покров таинственности на содержание своих картин, как бы намекая на бездонность, неисчерпаемость того, что заложено в природе и человеке. «Тайная вечеря» особенно заставляет удивляться интеллектуальной силе художника, показывая, как тщательно он размышлял и над общей концепцией и над каждой деталью. Эту громадную фреску, где фигуры написаны в полтора раза больше натуральной величины, постигла трагическая участь: написанная маслом на стене, она начала разрушаться еще при жизни Леонардо — результат его неудачного технического эксперимента с красками. Теперь о ее деталях можно судить только с помощью многочисленных копий. Но копии в те времена были, собственно, не копиями, а довольно свободными вариациями подлинника, к тому же копировать Леонардо вообще очень трудно.
«Мадонна в гроте» была образцом станкового решения композиции, а в «Тайной вечере» можно видеть пример мудрого понимания законов монументальной живописи, как они мыслились в эпоху Возрождения, то есть как органическая связь иллюзорного пространства фрески с реальным пространством интерьера (принцип иной, чем в средневековом искусстве, где роспись утверждала плоскость стены). «Тайная вечеря» написана на узкой стене большой продолговатой залы — трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие. На противоположном конце залы помещался стол настоятеля монастыря, и это принято во внимание художником: композиция фрески, где тоже написан стол, параллельный стене, естественно связывалась с интерьером и обстановкой. Пространство в «Тайной вечере» умышленно ограничено: перспективные линии продолжают перспективу трапезной, но не уводят далеко в глубину, а замыкаются написанной стеной с окнами,— таким образом, помещение, где находится фреска, кажется только слегка продолженным, но его простые прямые очертания зрительно не нарушены. Христос и его ученики сидят как бы в этой же самой трапезной, на некотором возвышении и в нише. А благодаря своим укрупненным размерам они господствуют над пространством зала, притягивая к себе взгляд. Христос только что произнес: «Один из вас предаст меня». Эти страшные, но спокойно сказанные слова потрясли апостолов: у каждого вырывается непроизвольное движение, жест. Двенадцать людей, двенадцать различных характеров, двенадцать разных реакций. «Тайную вечерю» изображали многие художники и до Леонардо, но никто не ставил такой сложной задачи — выразить единый смысл момента в многообразии психологических типов людей и их эмоциональных откликов. Апостолы энергично жестикулируют — характерная черта итальянцев,— кроме любимого ученика Христа юного Иоанна, который сложил руки с печальной покорностью и молча слушает, что говорит ему Петр. Иоанн один как будто уже раньше предчувствовал сказанное Христом и знает, что это неизбежно. Другие же ошеломлены и не хотят верить. Движения молодых порывисты, реакции бурны, старцы пытаются сначала осмыслить и обсудить услышанное. Каждый ищет сочувствия и отклика у соседа — этим оправдана симметричная, но выглядящая естественно разбивка на четыре группы, по трое в каждой. Только Иуда психологически изолирован, хотя формально находится в группе Иоанна и Петра. Он отшатнулся назад, тогда как все другие непроизвольно устремляются к центру — к Христу. Судорожное движение руки Иуды, его темный профиль выдают нечистую совесть. Но это передано без акцента — нужно вглядеться и вдуматься, чтобы понять. В жесте Христа — стоическое спокойствие и горечь: руки брошены на стол широким движением, одна ладонью кверху. Говорили, что лицо Христа Леонардо так и не дописал, хотя работал над фреской шестнадцать лет.
Он не докончил также конную статую — памятник Франческо Сфор-ца. Успел сделать большую, в натуральную величину, глиняную модель, но ее расстреляли из арбалетов французские солдаты, взяв Милан. Когда Леонардо после этого события вернулся во Флоренцию, там ему предложили написать в ратуше фреску на тему победы флорентийцев над миланцами,— по-видимому, не без желания уязвить и морально наказать вернувшегося эмигранта: ведь миланцы в течение 18 лет были его друзьями. Однако Леонардо совершенно спокойно принял заказ. Он сделал большой картон «Битва при Ангиари», который тоже не сохранился — известна только гравюра с него. Это бешеный клубок всадников и коней. Кто здесь победитель и кто побежденный? Кто флорентийцы, кто миланцы? Ничего этого не видно: только потерявшие разум и достоинство, опьяненные кровью, одержимые безумием схватки существа. Так ответил Леонардо своим заказчикам. Но они, видимо, не поняли тайной иронии: картон вызвал всеобщий восторг.
«Мона Лиза»
(«Джоконда»)
Из произведений последнего двадцатилетия жизни Леонардо назовем знаменитую «Мону Лизу» («Джоконду»). Едва ли какой-нибудь другой портрет приковывал к себе на протяжении столетий, и особенно в последнее столетие, столь жадное внимание и вызывал столько комментариев. «Мона Лиза» породила различные легенды, ей приписывали колдовскую силу, ее похищали, подделывали, «разоблачали», ее нещадно профанировали, изображая на всевозможных рекламных этикетках. А между тем трудно представить себе произведение менее суетное. Пошлый шум, поднимаемый «округ «Моны Лизы»,— комедийная изнанка популярности, а причина неувядающей популярности Джоконды — в ее всечеловечности. Это образ проникновенного, проницательного, вечно бодрствующего человеческого интеллекта; он принадлежит 'всем временам, локальные приметы времени в нем растворены и почти неощутимы, так же как в голубом «лунном» ландшафте, над которым царит Мона Лиза. Портрет этот бесконечное число раз копировали, и сейчас, проходя по залам Лувра, каждый день можно увидеть одного, двух, нескольких художников, углубившихся в это занятие. Но им, как правило, не удается достичь сходства. Всегда получается какое-то другое выражение лица, более элементарное, грубое, однозначное, чем в оригинале. Неуловимое выражение лица Джоконды, с ее пристальностью взора, где есть и чуть-чуть улыбки, и чуть-чуть иронии, и чуть-чуть чего-то еще, и еще, и еще, не поддается точному воспроизведению, так как складывается из великого множества светотеневых нюансов. «Сфумато» — нежная дымка светотени, которую так любил Леонардо, здесь творит чудеса, сообщая недвижному портрету внутреннюю жизнь, непрерывно протекающую во времени. Трудно отделаться от впечатления, что Джоконда все время наблюдает за тем, что происходит кругом. И даже самое незначительное усиление или ослабление оттенков — в уголках губ, в глазных впадинах, в переходах от подбородка к щеке, которое может зависеть просто от освещения портрета,— меняет характер лица. Сравните несколько репродукций, даже хороших,—на каждой Джоконда будет выглядеть несколько по-иному. То она кажется старше, то моложе, то мягче, то холоднее, то насмешливее, то задумчивее.
Это венец искусства Леонардо. Тихий луч человеческого разума светит и торжествует над жестокими гримасами жизни, над всевозможными «битвами при Ангиари». Их много прошло перед глазами Леонардо. Он предвидел их и в будущем — и не ошибался. Но разум пересиливает безумие — Джоконда бодрствует.
* * *
Рафаэль Санти
Среди художественных сокровищ галереи Уффици во Флоренции есть портрет необыкновенно красивого юноши в черном берете. Это явно автопортрет, судя по тому, как направлен взгляд, — так смотрят, когда пишут себя в зеркале. Долгое время не сомиевались, что это — подлинный автопортрет Рафаэля, теперь его авторство некоторыми оспаривается. Но, как бы ни было, портрет превосходен: именно таким, вдохновенным, чутким и ясным, видится образ самого гармонического художника Высокого Возрождения, «божественного Санцио».
Он был на тридцать лет моложе Леонардо да Винчи, а умер почти одновременно с ним, прожив всего тридцать семь лет. Недолгая, но плодотворная и счастливая жизнь- Леонардо и Микеланджело, дожившие до старости, осуществили лишь некоторые из своих замыслов, и только яемиопие им удалось довести до конца. Рафаэль, умерший молодым, почти все свои начинания осуществил. Самое понятие незаконченности как-то не вяжется с характерам его искусства — воплощением ясной соразмерности, строгой уравновешенности, чистоты стиля.
И в жизни Рафаэля, видимо, не было жестоких кризисов и изломов. Он развивался последовательно и плавно, усердно работая, внимательно усваивая опыт учителей, вдумчиво изучая античные памятники. В самой ранней юности он в совершенстве овладел манерой и техникой своего умбрийского учителя Перуджино, а впоследствии многое почерпнул и у Леонардо и у Микеланджело, — но все время шел своим, очень рано определившимся путем. Рафаэль, как истинный сын Возрождения, был если и не столь универсальным, как Леонардо, то все же очень разносторонним художником: и архитектором, и монументалистом, и мастером портрета, и мастером декора. Но доиыне его знают больше всего как создателя дивных «Мадонн». Созерцая их, каждый раз как бы заново открывают для себя Рафаэля.
Нашим зрителям хорошо известны самое раннее и самое позднее произведение этого цикла — маленькая «Мадонна Конестабиле» в Эрмитаже и «Сикстинская мадонна» Дрезденской галереи.
«Мадонна Конестабиле»
«Мадонну Конестабиле» Рафаэль написал в юности, и это действительно юное произведение — по редкостной чистоте, целомудренности настроения, по священнодейственной старательности работы,— но его никак нельзя назвать незрелым. Деликатная, тончайшая техника почти миниатюрной живописи, композиция, рисунок достойны гениального художника. Композиция вписана в круг, вернее, в полусферу, так как Рафаэль строит композицию не только закругляющимися очертаниями, но и круглящимися объемами. Круглый формат «тондо» он и впоследствии особенно любил и часто к нему обращался. Обратим внимание на певучий мягкий абрис склоненной головы, плеч и рук мадонны. Рафаэль не ищет, как Боттичелли, изысканной трепетности линий и форм,— напротив, он преодолевает, обобщает прихотливую дробность форм натуры и приводит их к спокойному, величавому единству. У его мадонн всегда гладкие волосы, чистые овалы лиц, чистые девственные лбы, ниспадающее покрывало охватывает фигуру сверху донизу единым плавным контуром. Так и в «Мадонне Конестабиле». Вставленное в широкую золоченую раму, богато украшенную рельефными арабесками, маленькое тондо Рафаэля на этом фоне не только не теряется, но выступает во всем своем благородстве, как нежный чуть выпуклый опал на драгоценном перстне.
Молодая мать и ее дитя бесконечно трогательны, но слишком простодушны. В них еще нет покоряющей глубины «Сикстинской мадонны», созданной художником через 15 лет. Тогда Рафаэль стал иным: это уже не тот тихий «отрок, зажигающий свечи», каким может представиться воображению творец «Мадонны Конестабиле». К тому времени он был автором многих грандиозных композиций, обрел размах и маэстрию кисти, стал знаменитостью.
«Сикстинская мадонна»
В его искусстве начинали возникать черты, предвещающие поздний Ренессанс и даже барокко — черты драматизма с налетом некоторой импозантности. Так как это мало было свойственно природе дарования Рафаэля, то произведения, где он отдал дань таким поискам (как, например, «Преображение»), не принадлежат к числу его лучших вещей, хотя именно они потом стали предметом восхищения и всяческого подражания для академистов. Может быть, что-то от этого есть и в «Сикстинской мадонне»—не чересчур ли эффектны взбитые облака, по которым она ступает? И не напоминает ли о театре отдернутый занавес?
Но мы слишком любим «Сикстинскую мадонну», чтобы выискивать пятна на солнце. Такая, какая она есть, эта необычная алтарная композиция давно уже вошла в сознание сотен тысяч людей как формула красоты. Такой мы ее безоговорочно принимаем — с ее коленопреклоненным Сикстом и изящной святой Варварой, с толстенькими задумчивыми ангелочками внизу и призрачными херувимскими ликами вокруг богоматери. Кажется, иной эта картина и не может и не должна быть: тут есть какая-то непреложность совершенства, несмотря на некоторую странность сочетания всех ее компонентов, или как раз благодаря этой странности. Но более всего — благодаря поразительной одухотворенности матери и ребенка. В лице и взгляде младенца есть нечто недетское — прозорливое и глубокое, а в лице и взгляде матери — младенческая чистота. Если бы Рафаэль никогда ничего не написал, кроме этой кроткой, босой, круглолицой женщины, этой небесной странницы, закутанной в простой плащ и держащей в руках необыкновенного ребенка,— он и тогда был бы величайшим художником.
Фрески Рафаэля
Но он написал еще очень много замечательного. С 1508 года он постоянно работал в Риме, главным образом при дворе папы Юлия II и его преемника Льва X, где исполнил большое количество монументальных работ. Из них самые выдающиеся — это росписи ватиканских станц — апартаментов папы. Здесь видно, на какой титанический размах был способен кроткий, лирический Рафаэль. Крупномасштабные композиции, населенные десятками фигур, покрывают все стены трех залов. В Станце делла Сеньятура — четыре фрески, посвященные богословию, философии, поэзии и правосудию. Это задумано как идея синтеза христианской религии и античной культуры. Каждая фреска занимает целую стену; большие полукруглые арки, обрамляющие стены, как бы отражаются и продолжаются в композициях фресок, где тоже господствует мотив арок и полукружий. Достигнуто абсолютное согласие между архитектурным пространством и иллюзорным пространством росписей. Лучшая из фресок Станцы делла Сеньятура — «Афинская школа»: ее Рафаэль исполнил всю собственноручно. В ней он воплотил представление ренессансных гуманистов о золотом времени античного гуманизма и, как всегда делали художники Возрождения, перенес эту идеальную утопию в современную среду. Под высокими сводами чисто ренессансной архитектуры, на ступенях широкой лестницы он расположил непринужденными и выразительными группами афинских мудрецов и поэтов, занятых беседой или погруженных в ученые занятия и размышления. В центре, наверху лестницы,— Платон и Аристотель; сохраняя мудрое достоинство и дружелюбие, они ведут извечный, великий спор — старец Платон подъемлет перст к небу, молодой Аристотель указывает на землю. Рафаэль ввел в это общество своих современников: в образе Платона предстает Леонардо да Винчи, сидящий на первом плане задумавшийся Гераклит напоминает Микеланджело, а справа, рядом с группой астрономов, Рафаэль изобразил самого себя.
Говорят, что время — лучший судья: оно безошибочно отделяет хорошее от плохого и сохраняет в памяти народов лучшее. Но и среди этого лучшего каждая эпоха облюбовывает то, что ей созвучней и ближе, таким образом, участь наследия великих художников продолжает меняться на протяжении веков. Из трех корифеев Высокого Возрождения Рафаэль долгое время был самым чтимым, все академии мира сделали его своим божеством. Это официальное поклонение заставило впоследствии противников классицизма охладеть к признанному кумиру. Начиная со второй половины XIX века и в наши дни любовь к Рафаэлю уже не так сильна, как прежде; нас глубже захватывает Леонардо, Микеланджело, даже Боттичелли. Но нужно быть справедливым: Рафаэль — не тот благообразный, идеальный, благочестивый классик, каким его восприняли эпигоны. Он живой и земной. Это еще в 80-х годах прошлого века почувствовал молодой Врубель и был взволнован открытием: «Он глубоко реален. Святость навязана ему позднейшим сентиментализмом... Взгляни, например,, на фигуру старика, несомого сыном, на фреске «Пожар в Борго» — сколько простоты и силы жизненной правды!»' Многим из нас слава «Сикстинской мадонны» казалась преувеличенной, пока мы знали эту картину по репродукциям. Но вот она появилась сама — на выставке Дрезденской галереи в Москве. И скептические голоса умолкли, она покорила всех. Освобожденный от приторного лоска, наведенного эпигонами, Рафаэль встает перед нами в своем подлинном достоинстве.
* * *
Микеланджело Буонаротти
И третья горная вершина Ренессанса — Микеланджело Буонаротти. Его долгая жизнь — жизнь Геркулеса, вереница подвигов, которые он совершал, скорбя и страдая, словно бы не по своей воле, а вынуждаемый своим гением. Ромен Роллан говорит: «Пусть тот, кто отрицает гений, кто не знает, что это такое, вспомнит Микеланджело. Вот человек, поистине одержимый гением. Гением, чужеродным его натуре, вторгшимся в него, как завоеватель, и державшим его в кабале».
Микеланджело был ваятель, архитектор, живописец и поэт. Но более всего и во всем—ваятель; его фигуры, написанные на плафоне Сикстинской капеллы, можно принять за статуи, в его стихах, кажется с модели снимают гипсовый слепок. При таком способе работы пластический образ создается не ваянием, а лепкой, — не удалением материала, а прибавлением, наложением. Ваяние же в собственном смысле — это высекание путем от-калывания и обтесывания камня: ваятель мысленным взором видит в каменной глыбе искомый облик и «прорубается» к нему в глубь камня, отсекая то, что не есть облик. Это тяжелый труд,— не говоря уже о большом физическом напряжении, он требует от скульптора безошибочности 'руки (неправильно отколотое уже нельзя снова приставить) и особой зоркости внутреннего видения. Так работал Мякеланджело. В качестве предварительного этапа он делал рисунки и эскизы из воска, приблизительно намечая образ, а потом 'вступал в единоборство с мраморным блоком. В «высвобождении» образа из скрывающей его каменной оболочки Микеланджело видел сокровенную поэзию труда скульптора; в своих сонетах он часто толкует его в расширительном, символическом смысле, например: «Подобно тому, Мадонна, как в твердый горный камень воображение художника вкладывает живую фигуру, которую он извлекает оттуда, удаляя излишки камня, и там она выступает сильнее, где больше он удаляет камня,— так некие добрые стремления трепещущей души скрывает наша телесная оболочка под своей грубой, твердой, необработанной корой». Освобожденные от «оболочки», статуи Микеланджело хранят свою каменную природу. Они всегда отличаются монолитностью объема: Микеланджело говорил, что хороша та скульптура, которую можно скатить с горы и у нее не отколется ни одна часть. Почти нигде у его статуй нет свободно отведенных, отделенных от корпуса рук; бугры мускулов преувеличены, преувеличивается толщина шеи, уподобляемой могучему стволу, несущему голову; округлости бедер тяжелы и массивны, подчеркивается их глыбистость. Это титаны, которых твердый горный камень одарил своими свойствами. Их движения сильны, страстны и вместе о тем как бы скованы; излюбленный Микеланджело мотив контрапоста — верхняя часть торса резко повернута. Совсем не похоже на то легкое, волнообразное движение, которое оживляет тела греческих статуй. Характерный поворот микеланджеловских фигур, скорее, мог бы напомнить о готическом изгибе, если бы не их могучая телесность. Движение фигуры в статуе «Победитель» сравнивали с движением языка пламени, возник даже термин «зегрепНпа^а» — змеевидное движение.
Два главных скульптурных замысла проходят почти через всю творческую биографию Микеланджело: гробница папы Юлия II и гробница Медичи. Юлий ІІ, тщеславный и славолюбивый, сам заказал Микеланджело свою гробницу, желая, чтобы она превзошла великолепием все мавзолеи мира. Микеланджело, увлеченный, задумал колоссальное сооружение с десятками статуй; папа на первых порах его поддерживал, но строптивая независимость художника, требовавшего свободы действий, приводила к постоянным столкновениям. Микеланджело то изгоняли из Рима, то вновь призывали: отношения с капризным и вспыльчивым папой были трудными. Кроме того, Юлий И скоро охладел к проекту, ему сказали, что это дурная примета — готовить себе при жизни гробницу. Вместо этого он поручил Микеланджело расписать Сикстинскую капеллу, что тот и делал в продолжение четырех лет, в то самое время, когда Рафаэль расписывал Ватиканские станцы. После смерти Юлия II, в 1513 году, Микеланджело снова принялся за его гробницу, изменив первоначальный проект, но новый папа^ Лев X, происходивший из рода Медичи, ревновал к памяти своего предшественника и отвлекал художника другими заказами. Между тем наследники Юлия II, грозя судом, требовали от него окончания давнишней работы. «Я служил папам,— вспоминал на склоне жизни Микеланджело,—но только по принуждению». Он не мог сосредоточенно творить,—ему приказывали, принуждали, грозили, отрывали от того, чем он успел увлечься. И наконец — самое горестное, наложившее печать безграничной скорби на героическое искусство Микеланджело,— осада и падение Флоренции, уничтожение республики, эпоха террора и инквизиции, многие годы страдальческого одиночества, проведенные в изгнании в Риме, где Микеланджело и умер в возрасте восьмидесяти девяти лет. Что же он осуществил? Мало по сравнению со своими замыслами, но колоссально много на весах истории искусства.
Роспись Сикстинской капеллы
По иронии судьбы, самым законченным из его трудов оказался не скульптурный, а живописный — роспись потолка Сикстинской капеллы. Хотя Микеланджело неохотно принял этот заказ, не считая себя живописцем, но, взявшись за работу, он загорелся творческой страстью и отдался ей целиком. Вместо того, чтобы покрыть потолок орнаментом и написать лишь фигуры между распалубками сводов, как предполагалось сначала, он всю середину потолка заполнил сюжетными композициями, окружил каждую более крупными по масштабу фигурами обнаженных юношей, между распалубками поместил еще более крупные фигуры пророков и сивилл и еще фигуры и группы в треугольниках распалубок и в полукруглых люнетах над окнами. Чтобы все это скопище фигур было архитектонически упорядоченным и пространственно организованным, Микеланджело не только использовал реальные архитектурные членения сводов, но еще и написал дополнительные: он изобразил кистью выступающие карнизы, пилястры с фигурами путти, арки и цоколи. Вся эта иллюзорная сильно моделированная светотенью архитектурная декорация снизу кажется настоящей, а пророки и юноши, помещенные в иллюзорных нишах и на цоколях, — объемными. В общей сложности несколько сот фигур написано на пространстве в 600 квадратных метров: целый народ, целое поколение титанов, где есть и старики, и юные, и женщины, и младенцы. В фигурах пророков, сивилл и юношей Микеланджело развернул своего рода энциклопедию пластики, неистощимое разнообразие контрапостов и ракурсов. Это нечто вроде завещания всем будущим скульпторам.
Где еще в мировом искусстве можно встретить таких могучих телом и духом, таких яростно вдохновенных мужчин и женщин, как пророки и сивиллы Микеланджело? Он никогда не изображал слабых людей, у него и старики, и женщины, и умирающие, и отчаявшиеся—всегда мощны. Кумскую сивиллу он изобразил престарелой: казалось бы, .как можно выразить силу в образе старухи? А это один из самых мощных образов Сикстинской капеллы. Среди ее сюжетных росписей наибольшей славой пользуется «Сотворение Адама». Бездонно глубок внутренний смысл этой лаконичной композиции: она остается вечным символом созидания, одухотворения. Творящая сила, бог-демиург, не останавливаясь в своем вихревом полете, протягивает руку и едва касается протянутой навстречу, еще инертной руки Адама; мы воочию видим, как оживает тело Адама, ка(к просыпаются дремлющие силы жизни. Работая в Сикстинской капелле, Микеланджело, этот физически далеко не сильный, подверженный недугам, одержимый постоянными душевными смутами человек, сам совершил беспримерный подвиг. Он отказался от помощников и всю работу выполнил один. Ему приходилось писать, стоя на .лесах и запрокидывая голову, так что краска капала ему на лицо,— и так изо дня в день несколько лет. Он собственноручно создал все эти прекраснейшие тела, всю эту громадную, невероятно сложную роспись, а его собственное тело по окончании оказалось обезображенным: корпус выгнулся, грудь впала, вырос зоб, долгое время он не мог смотреть прямо перед собой и, читая, должен был поднимать высоко над головой книгу. Уже в старости Микеланджело было вновь суждено вернуться к росписям Сикстинской капеллы: на этот раз он написал на стене «Страшный суд». Здесь уже нет ясной архитектоники. Лавина нагих тел рушится в бездну. Среди них много портретных лиц. Это возмездие, крушение ренеосансной гордыни. Те люди, которые в «Афинской школе» Рафаэля так возвышенно и достойно беседовали о возвышенных и достойных вещах, теперь низвергаются в мучительный хаос. Вызывает содрогание скорчившаяся атлетическая фигура человека, который прикрыл рукой один глаз, а другой глаз смотрит с выражением безумного ужаса. Но Микеланджело остается верен себе: гибнущие люди прекрасны, и сам Христос воплощен в любимом его облике молодого мускулистого гиганта. От работы над гробницей Юлия II остались статуи грозного карающего пророка Моисея и пленников. Из этих последних две вполне закончены, они носят названия «Скованный пленник» и «Умирающий пленник». Медленно обходя, спереди и с боков, фигуру «Скованного пленника», следя за меняющимися пластическими аспектами, зритель видит все стадии героического и напрасного усилия разорвать путы. То предельное напряжение, то резиньяция, то новое отчаянное усилие. «Умирающий пленник» не рвет свои узы: закинув за голову руки и склоняя голову к плечу, он погружается в состояние одинаково похожее и на смерть и на сон — благодательное освобождение ог мук.
Сохранилось еще четыре фигуры «Пленников» — незаконченные. В одной из них незаконченность, может быть, умышленная — это так называемый «Пробуждающийся пленник». Его фигура не вполне выделилась из каменного блока и хочет из него вырваться. Напрягшаяся грудная клетка уже на свободе, но часть головы, руки, ноги вязнут в обволакивающей каменной массе. Это образ «высвобождения» облика из камня, живого духа из косной материи. Многие скульпторы потом сознательно использовали подобный символико-пластический мотив, его часто разрабатывал и любил Роден. Должны ли были «Пленники» олицетворять итальянские города, порабощенные французами, или это аллегории искусств, покровителями которых считал себя Юлий II? Сам Микеланджело не придавал большого значения точному смыслу аллегорий. Для него пластика человеческого тела, его движения и контрапосты сами по себе были исполнены внутреннего содержания, широкого и емкого. Как говорил о Микеланджело Милле, он был «способен воплотить все добро и все зло человечества в одной-един-ственной фигуре».
Капелла Медичи
Так же не поддаются однозначному толкованию скульптуры капеллы Медичи, законченной уже в 30-х годах. Это «Ночь» и «День», «Утро» и «Вечер» — они полулежат попарно на саркофагах под портретными статуями Джулиано и Лоренцо Медичи, находящимися в нишах. Крышки саркофагов покаты, и положение фигур кажется непрочным, кажется, что они и в дремоте чувствуют ненадежность своего ложа, бессознательно ища опору для ног (а ноги скользят), пытаясь спрячь расслабленные сном мускулы. Эти могучие тела одолевает тягостная истома, они словно отравлены. Медленное, неохотное пробуждение, тревожно-безрадостное бодрствование, засыпание, цепеня-Щее члены, и сон — тяжелый, но все же приносящий забвение. «Ночь» в образе женщины, которая спит, опираясь локтем на согнутую ногу и поддерживая рукой низко опущенную голову,— самая пластически выразительная и прекрасная из четырех статуй. Ей посвящали стихи. И Микеланджело в ответ на чей-то довольно банальный мадригал, где говорилось, что этот одушевленный камень готов проснуться, ответил четверостишием, ставшим не менее знаменитым, чем сама статуя:
Отрадно спать, отрадней камнем быть,
О, в этот век, преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать — удел завидный.
Прошу, молчи, не смей меня будить.
Когда за много лет до того Микеланджело начинал работу над фасадом церкви Сан Лоренцо (капелла Медичи — пристройка к ней), ему хотелось сделать этот фасад «зеркалом Флоренции». Замысел остался неосуществленным. Зато теперь, наполнив усыпальницу Медичи образами тревожных, бесцельных порывов, мрачной покорности и покорного отчаяния, он сделал ее зеркалом Италии. Это образ Италии, уходящей в ночь. Но она остается царственно-прекрасной. Микеланджело до последнего вздоха боготворил человеческую красоту. И ему чудилось в ней нечто грозное, роковое — высший предел на границе небытия.
«После многолетних исканий и уже приближаясь к смерти, мудрый художник приходит к воплощению в твердом горном камне наиболее совершенной идеи живого образа. Потому что высокое и редкое находишь всегда поздно и длится оно недолго. Точно так же и природа, когда она, блуждая в веках от одного лика к другому, достигает в твоем божественном лице высшего предела прекрасного, тем самым истощается, стареет и должна гибнуть. Поэтому наслаждение красотой соединено со страхом, питающим странной пищей великое к ней влечение. И я не могу ни сказать, ни помыслить, что при виде твоего облика так тяготит и возносит душу. Есть ли это сознание конца мира или великий восторг». Не всякому было дано так ощутить трагедию заката большой культурной эпохи, как Микеланджело. Наступившая в Италии феодально-католическая реакция через какое-то время стала буднями жизни, новые поколения художников уже не видели в ней особенной трагедии, а принимали ее как данность, как привычную обстановку, в которой надо было жить и работать. И они жили и работали — главным образом при дворах герцогов и королей,— вероятно, и не замечая, какое роковое клеймо накладывает на них «преступный и постыдный» век, как мельчит и искажает таланты. Художники второй половины XVI века продолжали чтить своих великих ренессансных предшественников и считали, что следуют их заветам. На самом деле они следовали им эпигоноки, усваивая обрывки внешних форм и бессознательно доводя их до карикатуры, потому что исчезло содержание, когда-то рождавшее и животворившее эти формы.
* * *
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Лоренцо Гиберти
Лоренцо ГибертиЛоренцо Гиберти был сыном Бартолуччо Гиберти и с ранних лет стал учиться ювелирному искусству у отца, который, будучи от
- Людвиг Ван Бетховен
Реферат.Людвиг ван Бетховен.Семья. Детские и юношеские годы. Людвиг ван Бетховен родился в декабре 1770 года в Германии, в городе Бонне. Э
- Мавританское искусство
Мавританское искусство - это условное название художественного стиля, который сложился и расцвел в Северной Африке и Андалусии(Южная И
- Мазурка
МазуркаМазурка – это польский народный танец, характеризующийся быстрым темпом и трёхдольным размером. Ритмика мазурки своеобразна, а
- Макраме
Содержание.1. Историческая справка.2. Материалы и инструменты.3. Технология выполнения.4. Техника безопасности.5. Область применения.6. Испо
- Маньеризм
Астраханский Государственный Технический Университет Кафедра русского языкаРеферат на тему:Маньери
- Маскарад
ПланВведение. 2Истоки маскарада. 4Маскарадные празднества в России. 6М А С К Е Р А Д Ъ 9Маскарадная традиция 9Наиболее из
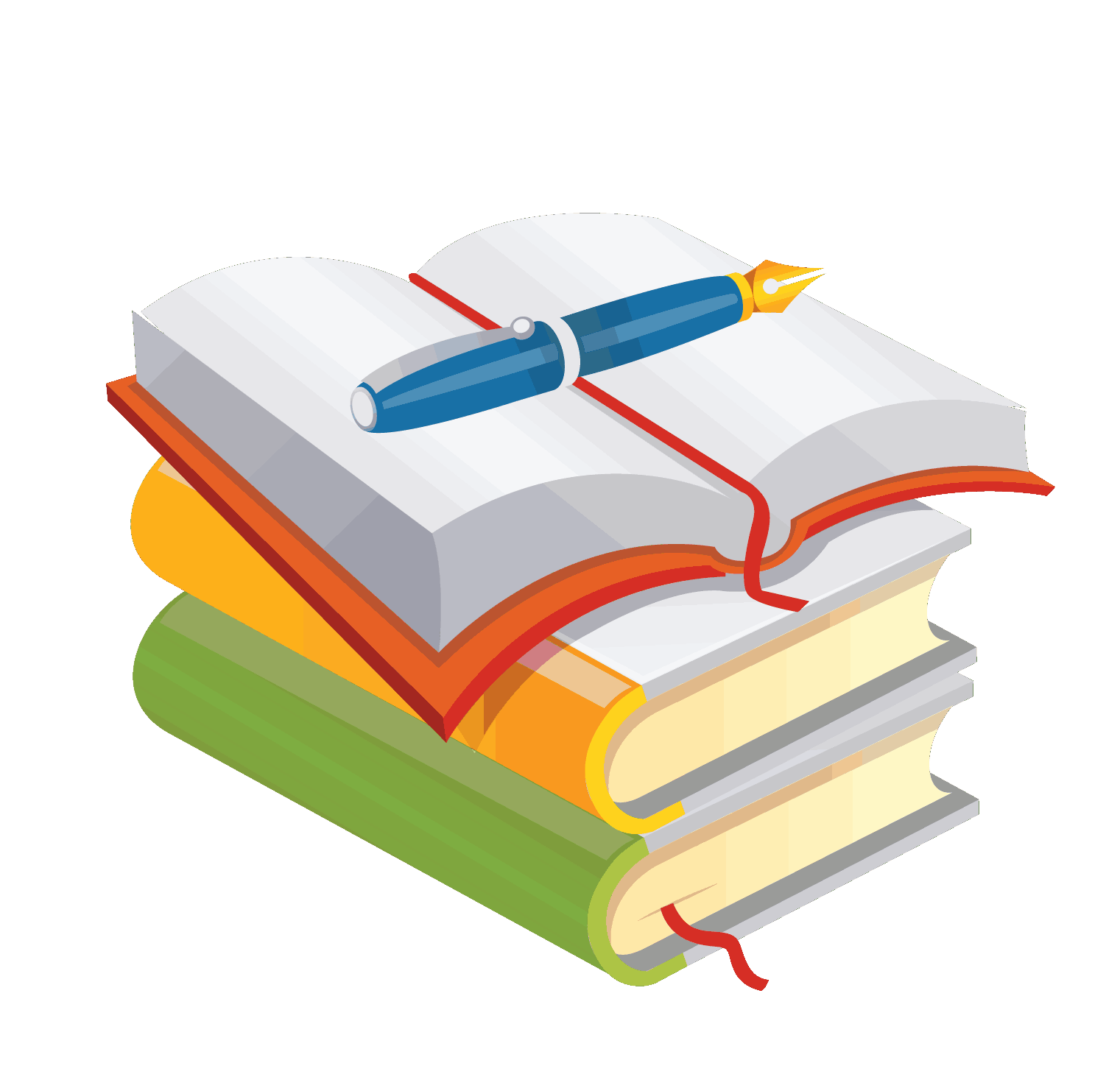 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.