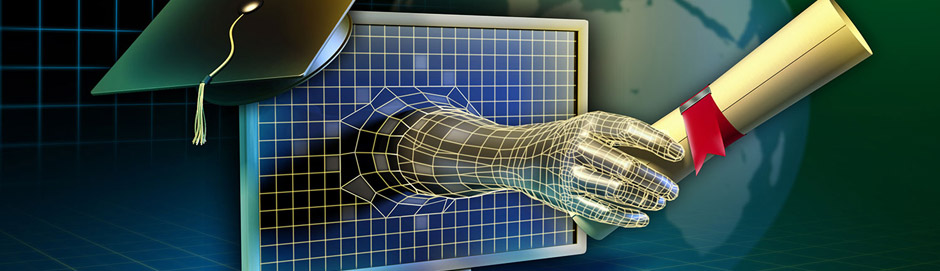Идейно-тематическое своеобразие трагедий Озерова
Борьба с жанровой иерархией, установленной теоретиками и писателями классицизма, продолжалась в русской литературе не только в последние десятилетия XVIII в., но и в 1800–1810-е годы. Борьба велась тем ожесточеннее, чем глубже в умах читателей коренилось представление – далеко не всегда даже осознанное – о том, что трагедия, ода, героическая эпопея суть высшие сферы творчества. Героико-патриотические, гражданственные традиции русского классицизма сохраняли свою притягательность и для поколений, воспитанных на произведениях Н.М. Карамзина и И.И. Дмитриева. Вспомним, что и сами сентименталисты высоко чтили М.М. Хераскова прежде всего как автора долгожданной отечественной эпопеи («Россиада»). С ростом национального самосознания в русском обществе конца XVIII-начала XIX в. был связан интерес к национальной истории и фольклору, сближавший сентименталистов и романтиков.
К сказанному нужно добавить, что господство классицизма в жанре исторической драмы не мешало появлению оригинальных и переводных исторических пьес, связанных с другими литературными течениями. Для этой эпохи характерно появление драм Шиллера (например, «Заговора Фиеско в Генуе» в переводе Гнедича) и драм, отмеченных сильным влиянием шиллеровской поэтики («Димитрий Самозванец» В.Т. Нарежного). Появляются переделки драм Шекспира, в которых наряду с сильным классицистическим преломлением шекспировской драматургии в духе французских переделывателей типа Дюси видны уже попытки авторов по-своему подойти к раскрытию шекспировских образов.
Можно отметить также непосредственное влияние драматургов Древней Греции и Рима на русских писателей, обращавшихся к античной тематике.
Все это получило своеобразное преломление в русской драматургии. От трагедии как высокого жанра продолжали еще ждать нужного, нового слова, но хотели, чтобы это слово не было повторением ни Сумарокова, ни Княжнина. Хотели, чтобы «высокий» герой одновременно стал бы и «чувствительным» героем.
Сказал это новое слово Владислав Александрович Озеров (1769–1816), выступивший со своими трагедиями в тот самый момент, когда их так ждали. Для Озерова-драматурга большое значение имело обучение в Сухопутном шляхетском корпусе. В этом закрытом привилегированном заведении, где когда-то учился Сумароков, сохранилась атмосфера увлечения литературой и театром. Известно, что в период учебы Озеров неоднократно участвовал в самодеятельных спектаклях, исполняя трагические роли. Курс российской словесности кадетам читал знаменитый Я.Б. Княжнин. Не случайно в выборе сюжета для самой первой трагедии «Ярополк и Олег» сказалось явное влияние сумароковских традиций.
«Это был талант положительный, – писал о В.А. Озерове В.Г. Белинский, – и появление его было эпохою в русской литературе».(1) Вместе с тем критик справедливо отмечал, что, «несмотря на дарование ярко-замечательное», Озеров «был результатом направлении, данного русской литературе Карамзиным».(2)Понятен восторг, с которым публика встречала озеровские трагедии, но так же понятно и быстрое охлаждение к драматургу, нечаянно для самого себя обнаружившему кризис трагедийного жанра. Преемниками Озерова оказались замечательные авторы, но не драматурги – Жуковский, Батюшков, Вяземский.
Драматургическая система Озерова не может быть понята без учета тех изменений в литературном сознании, которые принес с собой сентиментализм.
Сентиментализм, принесший с собой новое понимание функции литературы, в корне изменил отношение к традиционным жанрам классицизма, и к трагедии в особенности. Надысторическая абстрактность персонажей высокой трагедии уже не отвечала потребностям нового поколения читателей и зрителей. Раздаются нарекания и по поводу стеснительной упорядоченности канона трагедии. На этом фоне показательным является обострение интереса к драматургии Шекспира.
Истоки актуализации шекспировского наследия в России восходят к последним десятилетиям XVIII в. Первые попытки создания исторических хроник в духе Шекспира в 1780-е гг. предпринимала Екатерина II. В 1793 г. в журнале «Санкт-петербургский Меркурий» был опубликован перевод известной статьи Вольтера «Рассуждение об английской трагедии», посвященной характеристике шекспировской драматургической системы.
Теоретически осмыслил значение театра Шекспира на рубеже XVIII–XIX вв. именно лидер русского сентиментализма Н.М. Карамзин. К драматическим сочинениям этот писатель не обращался. Но характерно, что одним из самых ранних его опытов еще до путешествия в Европу был перевод трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». «Немногие из писателей столь глубоко проникали в человеческое естество, как Шекспир, немногие столь хорошо знали все тайнейшие человека пружины, сокровеннейшие его побуждения, отличительность каждой страсти, каждого темперамента и каждого рода жизни, как удивительный сей живописец…», – писал Карамзин в предисловии к своему переводу.(3)
Карамзин, по-видимому, понял, что в новой исторической обстановке следование традициям классицистической трагедии перестало отвечать художественным запросам времени. Только так можно объяснить то явное предпочтение, которое он отдает Шекспиру перед знаменитыми творцами французской трагедии XVII в.: «Французские трагедии можно уподобить хорошему регулярному саду, где много прекрасных аллей, прекрасной зелени, прекрасных цветников, прекрасных беседок; с приятностью ходим мы по сему саду и хвалим его; только все чего-то ищем и не находим, и душа наша холодною остается; выходим и все забываем. Напротив того, Шекспировы произведения уподоблю я произведениям натуры, которые прельщают нас в самой своей нерегулярности, которые с неописанного силою действуют на душу и оставляют в ней неизгладимое впечатление».(4)
В самом противопоставлении шекспировской драматургии трагедиям французского классицизма отразился качественный скачок в развитии художественного сознания. Для Карамзина мерилом оценки произведений театрального искусства становится способность раскрывать внутренний мир человека. В статье «Что нужно автору?» Карамзин писал: «Говорят, что автору нужны таланты и знания, острый проницательный разум, живое воображение и прочее. Справедливо, но сего не довольно. Ему надобно и доброе нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей… творец всегда изображается в творении и часто против воли своей».(5)
Сопричастность миру изображаемых страстей и уменье заразить этой сопричастностью своего читателя – вот качества, определяющие достоинство автора согласно эстетическому кодексу сентиментализма. Масштабность мировосприятия, свойственная высоким жанрам классицизма, уступает место интимной доверительности сердечного излияния чувств. Проповедь государственно-политических идеалов, утверждение сословных добродетелей теперь сменяются воспеванием дружбы и тихих радостей любви. Для сентименталистов становится типичным «бегство» на лоно природы, где царствуют гармония и естественность, утраченные в человеческом общежитии.
Но сентиментализму знакомы и минуты провиденциалистского прозрения, ему ведомо и трагическое мироощущение, связанное обычно с понятием «рока», определяющего неумолимое свершение законов бытия. Источник несовершенства мира и потрясающих его катаклизмов скрыт от взоров людей. Но достижение общественной гармонии возможно. И путь к нему проходит через совершенствование природы человека. В этом ключ к пониманию эстетической программы сентиментализма с его установкой на исследование тайников человеческой души.
Не случайно в жанровой системе сентиментализма наибольшую художественную ценность обретают формы субъективно-исповедального плана, дававшие простор для анализа внутреннего мира личности, – интимная лирика, эпистолярная и повествовательная проза. В театре высокую трагедию классицизма начинает постепенно вытеснять сентиментальная драма. Однако жанру классицистической трагедии в 1800-е гг. еще раз суждено было пережить кратковременный период расцвета. Переосмысленный в контексте художественной системы сентиментализма, классицистический канон оживет в трагедиях В.А. Озерова (1769–1816).
Озеровым было написано пять трагедий. Все они шли на сценах петербургских театров, а некоторые из них, такие как «Эдип в Афинах», «Фингал» и «Димитрий Донской», пользовались огромным успехом у зрителей. Автора объявили величайшим драматургом, превзошедшим все, что было создано доныне в России в жанре трагедии. Вокруг трагедий Озерова разгоралась полемика.
Творчество Озерова не нравилось почитателям Сумарокова, но и новые литературные веяния несли с собой требования, которым уже не удовлетворяла его драматургия. Исторические несообразности, невнимание к духу времени – вот основной порок Озерова в глазах его критиков «слева», среди которых оказываются и архаисты (Державин, Мерзляков), по-своему откликающиеся на запросы эпохи. «Невыгодные отзывы» о драматурге со стороны Дмитриева и Карамзина можно объяснить, по-видимому, тем, что для них в XIX в. сентиментализм Озерова казался собственным прошлым. Карамзин, занятый разработкой проблем национальной самобытности, не мог найти для себя ничего интересного в озеровском «Фингале» и называл его «дрянью». «Озеров с великим талантом и чувством. Я беспрестанно ссорюсь за него с Карамзиным»,(6) – писал Жуковский, которому был близок элегический лиризм драматурга.
Современный исследователь справедливо выделяет три основных поколения, выразивших по-разному свое отношение к Озерову: «Первое (Карамзин, И.И. Дмитриев) критикует, но и то же время признает его роль в некотором обновлении жанра трагедии; второе (Жуковский, Батюшков, Вяземский, Д.Н. Блудов) восторженнo принимает, порой полемически преувеличивая заслуги Озерова многое от себя, потому и создает легенду о нем.(7) Внутренне Озеров наиболее близок первому поколению, особенно Карамзину, но не XIX, а XVIII в. Второе поколение привносит в понимание трагедий Озерова многое от себя, потому и создает легенду о нем, как о жертве «беседчиков». Наконец, Пушкин, сочувственно откликнувшийся в свое время на смерть Озерова, резко отвергает его творчество в полемике с Вяземским, выступая не столько против самого драматурга, сколько против его апологетов, невольно возвращавших русский театр к пройденному этапу.
Живым явлением творчество Озерова отчасти оставалось и для В.Г. Белинского. Замечательно, что герои его драматической повести «Дмитрий Калипип» (1830) с упоением читают озеровского «Фингала». Строки Озерова служат эпиграфами к третьей и четвертой картинам повести. Лишь спустя несколько десятилетий драматургия Озерова воспринимается уже как архаичное явление.
В комедии А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (1868) Крутицкий мечтает о возобновлении на сцене трагедий Сумарокова и Озерова и декламирует отрывки из «Поликсены» и «Димитрия Донского», звучащие уже комически в контексте реалистической пьесы.
Соперником драматурга выступил крупнейший поэт XVIII столетия Г.Р. Державин, попытавшийся на склоне лет попробовать свои силы в создании драматических сочинений.
Разделение драматургов начала XIX в. на последователей и противников озеровского направления в высшей степени условно. Говоря об «озеровской» и «державинской» группировках, справедливо будет заметить, что каждой из этих двух групп имелись консерваторы и люди, не чуждавшиеся известного вольномыслия. При конкретном разборе отдельных произведений выясняется, что и поэтика Державина и «державинцев» в ряде случаев сближается с озеровской.
Драматургия Озерова явление замечательное, но, к сожалению не осмысленное в достаточной мере. Последовательное и добросовестное прочтение Озерова современным читателем, читательский опыт которого обогащен знанием русской драматургии ХIХ и ХХ веков, необходимо для постижения многих существенных проблем теории и истории литературы.
Цель данной работы – рассмотрение драматических сочинений В.А. Озерова в контексте традиций русской драматургии и с точки зрения их эстетической, идейной и общекультурной значимости.
Задачи, решаемые в данной работе:
– сопоставить трагедии В.А. Озерова с отдельными трагедиями предшественников и современников;
– показать в трагедиях Озерова моменты соблюдения критериев жанра классической трагедии и отступления от них;
– выявить идейные и художественные особенности трагедий Озерова в отношении их источников;
– обозначить черты историзма в трагедиях Озерова;
– осуществить обзор полемики вокруг трагедий Озерова;
– указать признаки новаторства Озерова в аспекте художественной формы;
– представить свидетельства современников о сценической истории трагедий Озерова.
Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка.
1. Творческие искания Озерова–драматурга: традиции и новаторство
Озеров начинал свой творческий путь как ученик Княжнина, что и проявилось в его первой трагедии «Ярополк и Олег» (1798). Как и драматурги классицизма, он не заботился об исторической достоверности и весьма вольно интерпретировал летописные свидетельства. Вместе с тем Озеров широко использовал традиционные сюжетные коллизии из пьес Княжнина и французских трагиков, в частности «Гофолии» Расина. В трагедии речь идет о соперничестве двух братьев – Ярополка и Олега, любящих Предславу. Олег – «кроткий князь», обладающий всеми добродетелями; победитель печенегов, он пользуется всеобщей любовью и уважением. Предслава предназначена отцом в жены Олегу и в полном соответствии со своим «долгом» любит Олега («С младенчества мой долг любить я приучена»). И «священные права», и «природа» на стороне Олега. Притязания Ярополка на Предславу оказываются, таким образом, беззаконными, но, мучимый страстью, он поддается на коварные подстрекательства Свенальда, предлагающего убить Олега. Дав согласие, Ярополк тут же раскаивается и хочет спасти брата. Олег остается жив, и Ярополк отказывается от притязаний на Предславу.
Отголоски тираноборческого пафоса слышатся в отдельных репликах озеровских героем: они называют Ярополка «злодеем» и «тираном». По совершенно очевидно, что мятущийся и страдающий Ярополк – образ более сложный, долженствующий вызвать у зрителя не только осуждение, но и сочувствие.
Главным виновником всех несчастий оказывается не Ярополк, а Свенальд, злой советчик князя. При создании этого образа Озеров во многом следовал традиции просветительной литературы XVIII в., неизменно связывавшей тему идеального государя с темой придворных льстецов, развращающих правителя. Этот мотив, встречающийся в разных вариациях и у Новикова, и у Фонвизина, и у Радищева, и у Крылова, проходит через всю трагедию Озерова и подчеркивается в заключительной сентенции раскаявшегося Ярополка:
А я, в сей грустный день наставленный навеки,
Сколь близок к нам порок, сколь слабы человеки,
На сердце сохраню, что ложный друг и льстец
Есть язва злейшая носящему венец.
Тема, далеко не новая в русской литературе, оказалась необычайно актуальной именно в годы написания озеровской трагедии – в период правления Павла. Едва ли драматург метил в недостойного государева любимца Кутайсова, изображая своего Свенальда. Но достаточно было и немногого, чтобы зрители увидели политическую аллюзию там, где им хотелось ее увидеть. Начавшиеся толки, видимо, могли способствовать изъятию «Ярополка и Олега» из репертуара. Но не менее важно было и другое обстоятельство: публика восприняла Озерова как начинающего драматурга ничуть не оригинального, но целиком идущего в русле изжившей себя традиции. «Он сам почувствовал, – писал один из современников, – что дух времени и вкус публики требует уже других условий и красот, нежели пиесы Сумарокова и Княжнина».
Публика была права, но не во всем.
В первой трагедии, хотя и очень слабо, но проявились некоторые особенности дарования Озерова, вскоре привлекшие к нему всеобщее внимание. Отдельные сцены из «Ярополка и Олега» предвещают лирические медитации персонажей позднейших трагедий драматурга. Вполне в духе поэзии сентиментализма Предслава размышляет о дружбе:
… А дружба – как любовь;
В ней те же чувствия, те ж нежные старанья;
Любви вся прелесть в ней, лишь нет се страданья.
(С. 97)
О своем «чувствительном сердце» говорит и Олег. Но если оба положительных персонажа совершенно однолинейны, то в образе Ярополка мы находим внутренние противоречия, характерные уже для героев литературы сентиментализма. Не злой от природы, но слабый и поддающийся чужому влиянию, а потому способный на жестокость, своеобразный вариант карамзинского Эраста. Сделав своего Ярополка могущественным владыкой, Озеров продолжает традицию русской трагедии классицизма; разрабатывая его характер, драматург опирается и на опыт сентименталистов. Даже поведение самого главного «злодея» Свенальда получает некоторую – разумеется, еще очень условную – психологическую мотивировку. Свенальд мстит за смерть своего сына. Олег, осудивший его на казнь, с сознанием собственной правоты заявляет:
Как друг, Свенальд, взирать ты должен па меня:
Я сына осудил, в душе моей стеня.
Но сын твой, о Свенальд, гордясь моей любовью,
Гордяся текшей в нем твоею славной кровью,
Законы, правы, честь ногою попирал;
Неистов… от него мой весь народ страдал.
(С. 104)
Все это не убеждает Свенальда, безутешного отца, обещающего до гроба ненавидеть убийцу сына. «Злодей» бесконечно несчастлив; это понимает и Олег, отвечающий Свенальду:
Вражда – несчастно, мучение сердец.
Я зрю, что страждешь ей. Прощаю: ты отец;
И я не оскорблен и дерзость позабуду:
Несчастлив ты, Свенальд!
(С. 104)
Если Димитрий Самозванец Сумарокова ненавидел весь человеческий род по своей природной сверхъестественной злобе, то герой Озерова – мститель, глубоко оскорбленный и страдающий. Тема мести оказывается для драматурга очень значительной: начиная с «Ярополка и Олега» она проходит через все последующие трагедии Озерова.
Первый успех к драматургу пришел с постановкой «Эдипа в Афинах». Непосредственным предшественником Озерова в обращении к античной теме был В.Т. Нарежный, автор трагедии «Кровавая ночь, или Конечное падение дому Кадмова», написан-) ной в 1799 г., и напечатанной в 1800 г. в журнале «Иппокрена или Утехи любословия». Пьеса Нарежного представляет несомненный интерес и по своей идейной направленности, и по разработке древнегреческого сюжета (борьба за престол сыновей Эдипа). Важным новаторством Нарежного было стремление воспроизвести особенности античной трагедии; этим объясняются введение хора, использование белого стиха, разделение пьесы на четыре сцены вместо традиционных пяти актов и т.д. Однако. «Кровавая ночь» не попала на сцену и при всех достоинствах не сыграла значительной роли в литературно театральной жизни своей эпохи. Иная судьба ожидала озеровского «Эдипа».
23 ноября 1804 г. трагедия была сыграна в петербургском в Большом театре, а осенью следующего, 1805 г. она появилась на московской сцене. О премьере в Петербурге сохранился рассказ Р. Зотова. Исполнителями озеровской трагедии здесь были А.С. Яковлев, Я.Е. Шушерин, Н.Д. Сахаров, Е.С. Семенова, I'.И. Жебелев. Эти талантливые актеры сумели превосходно передать текст Озерова, и зрители были совершенно захвачены пьесой. «Прекрасная поэзия увлекла и знающих и незнающих. Это была какая-то сладостная гармония, впервые раздавшаяся под сводами театра».(8) Во время спектакля раздавались крики «браво», а в одном из самых трогательных мест «партер заплакал». «Восторг публики был неописуем, – продолжает Зотов. – В Петербурге только и говорили, что об Эдипе. В доме А.Н. Оленина общество литераторов условилось выбить в честь Озерова медаль. Пиеса его была потребована ко двору и дана на Эрмитажном театре».(9)
Подобный же триумф ждал «Эдипа» в Москве. Здесь играли П.А. Плавильщиков, М.С. Воробьева, П.Р. Колпаков, А.Н. Прусаков. Состав исполнителей был совершенно другой, но эффект тот же самый. «Театр был полон – ни одного пустого места, и восторг публики был единодушный», – свидетельствует С.П. Жихарев, сделавший особенно интересное для нас признание: «Я не мог хорошо запомнить стихов, потому что плакал, как и другие, и это случилось со мною в первый раз в жизни, потому что русская трагедия доселе к слезам не приучала».(10)
Зрители впервые увидели на русской сцене одного из самых многострадальных героев древнегреческой мифологии – царя Эдипа, совершившего неведомо для самого себя два ужасных преступления (убийство отца и брак с собственной матерью). Озеров избрал сюжет, разработанный в трагедии Софокла «Эдип в Колоне». Источниками озеровского «Эдипа» обычно называют французский перевод трагедии Софокла и произведения французских авторов на ту же тему (прежде всего пьесы Ж.-Ф. Дюсиса «Эдип у Адмета» и «Эдип в Колоне», а также М.-Ж. Шенье «Эдип в Колоне»). Но, кроме того, Озеров, очевидно, использовал русский подробный пересказ «Эдипа» и первый критический разбор трагедии Софокла, появившийся в журнале Я.А. Галинковского «Корифей, или Ключ литературы» за год до написания озеровской трагедии.(11) «Картина Эдипа есть собрание злополучий в жизни, которые более или менее причастны всякому человеку»,(12) – говорилось, в частности, в этом разборе, а далее приводились отрывки из трагедии в переводе с греческого.
У Озерова сюжет развивается следующим образом. Изгнанный из Фив слепой Эдип – он ослепил себя, узнав о своих невольных преступлениях, – после долгих странствий, в которых его сопровождает верная дочь Антигона, приходит к афинским предместьям. Владыка Афин Тезей готов оказать покровительство старцу, но распространяется весть, что несчастия будут преследовать город до тех пор, пока богиням мести Эвменидам не принесут жертву. По предсказанию оракула, смерть Эдипа спасет землю, в которой он будет погребен, и принесет победу народу этой земли. Узнав о таком предсказании, Эдипа хотят увести обратно в Фивы участники междоусобной борьбы за фиванский престол: Креоп, шурин Эдипа, и сын Эдипа Полиник, собирающийся отвоевать власть у своего брата Этеокла. Тезой защищает изгнанников от посягательств Креона, силой разлучившего Эдипа с Антигоной. Полиник же в конце концов раскаивается в своих умыслах, и отец прощает его. Полиник хочет принести себя в жертву вместо отца; стремясь спасти других, готов погибнуть и Эдип. Однако в храме Эвменид гром поражает не их, а жестокого Креона.
В трагедии Озерова есть ряд существенных расхождений с сюжетом трагедии Софокла. Как отметил уже Л.Я. Максимович, «античный Эдип не мог простить преступного сына (для греческой религиозной морали прощение вообще не имеет смысла и невозможно: грех очищается только жертвой, чувства тут ни при чем)».(13)Соответственно этому и античный Полиник не мог нравственно переродиться, но сцена раскаяния, привнесенная Дюсисом, вполне отвечала вкусу Озерова и его современников.'3 Главное же отступление Озерова от классического сюжета обнаруживалось в концовке: вопреки известному мифу и его интерпретации у Дюсиса озеровский Эдип оставался в живых; добродетель, таким образом, торжествовала, а порок в лице Креона был наказан. Эта концовка вызвала нарекания со стороны П.А. Вяземского («Трагик не есть уголовным судия»), решительно поддержанные А.С. Пушкиным.В данном случае оценка Вяземского совпала и с мнением Д.Н. Блудова, доставившего критику основные материалы для статьи об Озерове. По свидетельству Блудова, изменить концовку трагедии посоветовал драматургу И.А. Дмитревский, «ссылаясь по обыкновению на ветхое правило, что театр есть училище нравов и что должно в конце всякой драмы наказывать порок и награждать добродетель». Не желая называть имя Дмитревского, Вяземский написал: «один актер, в школе Сумарокова воспитанный».
Однако дело было, по-видимому, но только в одном Дмитревском, а представление о театре как «училище нравов» оставалось во времена Озерова далеко не «ветхим». В версии, переданной Р. Зотовым, называется не Дмитревский, а другие актеры – более молодого поколения: «Прочтя свою пиесу в одном обществе, в котором он нарочно собрал Яковлева, Шушерина и Сахарова (тогдашних первых драматических актеров), он по окончании чтения просил, чтоб они ему откровенно сказали свое мнение и подали дружеские советы. Что ж? Все три актера единогласно возопили противу окончания; псе утверждали, что пьеса непременно упадет, если в конце умрет Эдип, а не Креон <…> Озеров уступил и согласился переделать окончание».(14) Недоволен остался лишь «строгий эллинист» А.Н. Оленин, который напомнил «о Софокле и греческой Судьбе, но Озеров уже не решился еще раз переделывать конца, а объявил всеобщее мнение театрально-артистического авторитета. А.Н. Оленин покачал головою, но дело тем и кончилось».(15)
Прошло несколько лет, и в 1812 г., когда начался уже закат славы Озерова, В.В. Капнист писал ему по поводу своей трагедии «Антигона»: «Я рассудил за благо убить Креона для того, дабы в трагедии моей не одна невинность страдала, но и зло наказано было. Признаюсь вам, что не могу извинить Софокла и Расина за оставление жизни сему извергу. Мы лучше с вамп сделали, что убили тирана; и счастие для многих царств было бы, если б мы сыскали многих подражателей».(16) Это отголосок той эпохи, к которой принадлежал и Озеров: вина была не в дурном вкусе Дмитревского или кого-либо другого, а в требованиях самого времени. Урок с «Эдипом» не прошел для Озерова бесследно, и он в свою очередь, хотел, чтобы Капнист – автор «Антигоны» «придерживался Софоклова подлинника и других древних прекрасных образцов».20
В период работы над «Эдипом» Озеров, по-видимому, еще не ставил себе такой цели. Концовка трагедии, вызвавшая споры, едва ли была лишь результатом уступки слабохарактерного автора, как это пытались представить мемуаристы и критики. В трагедии была своя внутренняя логика. Озеровский Эдип трепещет при виде храма Эвменид (у Софокла он спокойно и даже с радостью идет туда, видя в смерти избавление от земных мучений). Актер Шушерин, следуя Озерову, изображал сцену настоящего исступления и не читал, а «кричал» текст:
Храм Эвменид? Увы! я вижу их: оне
Стремятся в ярости с отмщением ко мне,
В руках змей шипят, их очи распаленны,
И за собой ведут все ужасы геенны.
(С. 142)
Мрачные декорации, представлявшие храм Эвменид, должны были усилить общее впечатление ужаса. В ремарке к пятому действию Озеров счел необходимым дать описание «внутренности храма Эвменид»: «Виден жертвенник и три статуи, изображающие богинь сего храма; в их руках факелы возженные, и на главах волосы змиями извиваются» (с. 175). Смерть, постигшая в этом храме Креона, а не Эдипа – кара богов, наказующих зло.
Этот сюжетный ход связан с вполне определенными христианскими представлениями Озерова, верующего еще в этот период в божественную благость и справедливость. Тезей, например, задает явно риторический вопрос: «Иль боги могут быть когда несправедливы?» (с. 148). Обуздывая Креона, Эдип тоже напоминает о богах:
Есть громы в небесах, есть боги, о Креон!
И притесненного до них восходит стоп!
Правда, эту тираду Антигона встречает горькими словами:
Есть боги… и земля злодеям продана,
И стонут слабые у сильных под рукою!
(С. 161)
Все дальнейшее развитие действия как бы призвано опровергнуть эти слова. Драматург страстно стремится доказать и зрителям, и самому себе, что правда торжествует.
Дидактизм драматургов классицизма и нравственные искания сентименталистов сливаются здесь вполне, и это не эклектика, но обращение к сферам, сближающим оба литературных направления. Озерову, конечно, ближе второе, чем первое, и потому его представления о добре и зле уже лишены той однозначности, которая была присуща сумароковской трагедии. Характерно само, обращение Озерова именно к мифу об Эдипе, невинном и добродетельном преступнике.
В трагедии Софокла постоянно подчеркивались высокие нравственные достоинства Эдипа, предстающего в ореоле страдальца. «Все дела мои Скорее выстраданы, чем содеяны», – говорит Эдип; «Честен этот странник», – говорит о нем один из героев. Этот мотив античной трагедии оказался очень созвучен сентименталистским разработкам темы рока. Отголоски «трагического фатализма», окрашивающего карамзинские произведения периода «Аглаи», слышатся и в озеровском «Эдипе». Мотив инцеста, развернутый в «Острове Борнгольме», неожиданно оказывается сопоставим с историей Эдипа: он, как и герои повести, – жертва рока.
От античной трагедии Озеров сумел взять именно то, что уже до его «Эдипа» занимало умы русских читателей и зрителей конца XVIII в., что соответствовало мироощущению этих людей, отказавшихся уже от многих иллюзий, но продолжавших поиски общественного и нравственного идеала. Не удивительно, что публика приняла «аплодисментами, потрясшими залу», слова Тезея–Яковлева:
Где на законах власть царей установленна,
Сразить то общество не может и вселенна.
Здесь звучал живой политический намек, что бывало и раньше в русской трагедии. Новое в восприятии зрителей – слезы –• было связано с образами Антигоны и Эдипа, с их лирическими монологами, покорявшими «чувствительные сердца». По свидетельству Р. Зотова, «партер заплакал» при словах Эдипа, обращенных к Антигоне: «Ты плачешь! Я и слез уж больше не имею!».
Язык элегии проник в трагедии» Озерова, и это нарушило однообразие торжественной декламации, отличавшей драматургию его предшественников. Два последних примера из «Эдипа», приведенные выше, представляют разные интонационные типы стихов, о которых позднее писал сам Озеров в письме к А.Н. Оленину 12 октября 1808 г. Первый тип характеризуется так: «Авторы указывают, так сказать, каким образом должно произносить стихи. Везде, где должно занять ум, возбудить внимание зрителей и поражать воображение, там сочинители стараются красотою, согласием и звучностью стихов прельстить слух, и такие стихи должны быть произносимы с силою, с важностью в голосе и чтоб сохранен был необыкновенный язык стихотворства».(17)Этот традиционный способ произнесения стиха близок к ораторской интонации торжественной оды. Другой тип, выделяемый Озеровым, представляет особый интерес: «В тех же местах, где по сильным движениям страсти, по истинным изображениям чувства сочинитель считает, что зритель должен забыть все и следовать за действующим лицом и, так сказать, уличить себя в нем, там употребляются самые простые и обыкновенные выражения и обороты, следовательно, и актер должен произносить сии стихи почти так, как прозу».(18) Именно эти стихи, лишенные высокого пафоса, звучавшие близко к разговорной речи, но сохранявшие элегическую тональность, давали возможность актерам «тронуть» зрителя.
Темы, мотивы, самый язык поэзии сентиментализма Озеров перенес в основу трагедии. Нельзя сказать, что Озеров формировал вкус публики – вернее другое: он следовал этому вкусу, и новшество состояло лишь в том, что «чувствительные» стихи зазвучали теперь не в узком литературном кругу, а со сцены театра.
Особенно характерна в этом отношении последовавшая за «Эдипом» трагедия «Фингал» (1805). Здесь слышатся отзвуки пантеизма, окрашивающего лирику Карамзина и других поэтов-сентименталистов. В споре Фингала и Старна Озеров явно на стороне первого, что подтверждается всем дальнейшим ходом событий в трагедии. Замышляя убийство Фингала, Старн прибегает к помощи верховного жреца, который утверждает, что по велению неба до бракосочетания необходимо совершить тризну на могиле Тоскара, брата Моины, сраженного когда-то Фингалом. Грозный голос судьбы, к которому с трепетом прислушивались герои античной трагедии, оказывается здесь не чем иным, как изощренной человеческой хитростью. Вкрапленные в текст «Фингала» филиппики против жрецов («Оставь все хитрости, жрецов обычны свойства», «Раздор воспламенять – их главное искусство» и т.д.) продолжают традиции русского сентиментализма, начатые еще М.М. Херасковым в его «Венецианской монахине». Здесь есть порицания языческой веры с христианских позиций, но есть осуждение суеверия, фанатизма, злоупотребления духовной властью.
Возможно, что эта антицерковная по своей сущности тема появилась у Озерова в связи с постепенным нарастанием скептицизма в его мировосприятии. Оптимистическая вера во всеблагую волю богов, так ярко выразившаяся в «Эдипе», оказалась уже несколько поколебленной. Трагическая смерть Моины предстает как следствие неумолимого рока, но в античном понимании, а в современном Озерову – преромантическом.
Исторические несоответствии «Фингала» вызвали впоследствии целую дискуссию, развернувшуюся па страницах «Сына отечества». А.А. Жандр иронизировал по поводу высказываний Фингала: «Он принадлежит к секте чистых деистов. Все это совсем неудивительно покажется, если вспомнить, что во время Старна и Фингала в Норвегии и Шотландии философские науки были в самом цветущем состоянии!!!».(19) Критики Озерова и его апологеты спорили о «Фингале», принимая или не принимая это произведение как трагедийный жанр. Лиризм, восхищавший одних, казался другим решительно неуместным.
Между тем драматург, отходя от привычных канонов, все же в ряде случаев оставался им верен, используя сюжетные коллизии, возвращающие нас к самому началу его творчества.
Дальнейшее развитие получает в «Фингале» тема мести, неизменно интересовавшая Озерова. Свенальд из «Ярополка и Олега» – это прообраз Старна. И тот, и другой одержимы жаждой мщения за убитого сына. Но если Свенальд может вызвать еще какое-то сочувствие как лицо страдающее, то Старн воплощает в себе законченный тип «злодея»: жертвой его мести становится собственная дочь. Замечательно, однако, что эта попытка разграничения добра и зла, к которой сам Озеров пришел не сразу, встретила одобрение современников, в частности Д.Н. Блудова и П.А. Вяземского.
Новые эстетические позиции, с которых смотрел на трагедию возразивший им Пушкин, вскоре приступивший к созданию «Бориса Годунова», были еще недоступны ни Озерову, ни его современникам. Но по существу «Фингал» более, чем какая-либо другая трагедия начала XIX в., была уже непохожа на образец классического жанра. «Пошлая пружина» делала свое дело в развитии сюжета, но, как отмечал С.П. Жихарев, публика не обращала на нее внимания, поглощенная непривычной на театральной сцене атмосферой «милой унылости». Жихарев рассеянно повторял вслед за А.Ф. Мерзляковым, что «Фингал» – «трагедия плохая», но с восхищением слушал, как Яковлев и Семенова «прекрасно читали прекрасные идиллические стихи».(20)
В построении драматического действия Озеров не был мастером: здесь он подражал – и часто даже не очень удачно – своим предшественникам. Но в разработку характеров, образной системы, в отделку стиха он внос столько нового, что казался первооткрывателем многим людям, которых нельзя упрекнуть и в отсутствии вкуса, как например Вяземский.
И слабые, и сильные стороны Озерова особенно ярко проявились в трагедии «Димитрий Донской» (1807). Новое произведение принесло автору настоящий триумф, но оно-то и оказалось наиболее уязвимым для критики. Следуя традициям русской классической трагедии Сумарокова и Княжнина, Озеров обратился к изображению отечественного прошлого. Драматург стремился подчеркнуть подлинность исторической основы своей трагедии и ссылался на использованные им источники: «Штриттера», т.е. «Историю Российского государства» Ивана Стриттер
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Лирические циклы в творчестве русских женщин-поэтов
В данной работе мы обращаемся к лирическим циклам отечественных поэтов А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Е.А. Благининой.Проблеме цикла уде
- Литература Древней Руси
В многовековой литературе Древней Руси есть своя классика, есть произведения, которые мы с полным правом можем называть классическими,
- Литературная сказка в отечественной детской литературе
- Методика составления библиографического описания
- Найвидатніші постаті української літератури
- Портрет Князя Владимира Святославича по летописям и былинам
- Поэма Лермонтова "Демон" и ее влияние на русское искусство XIX века
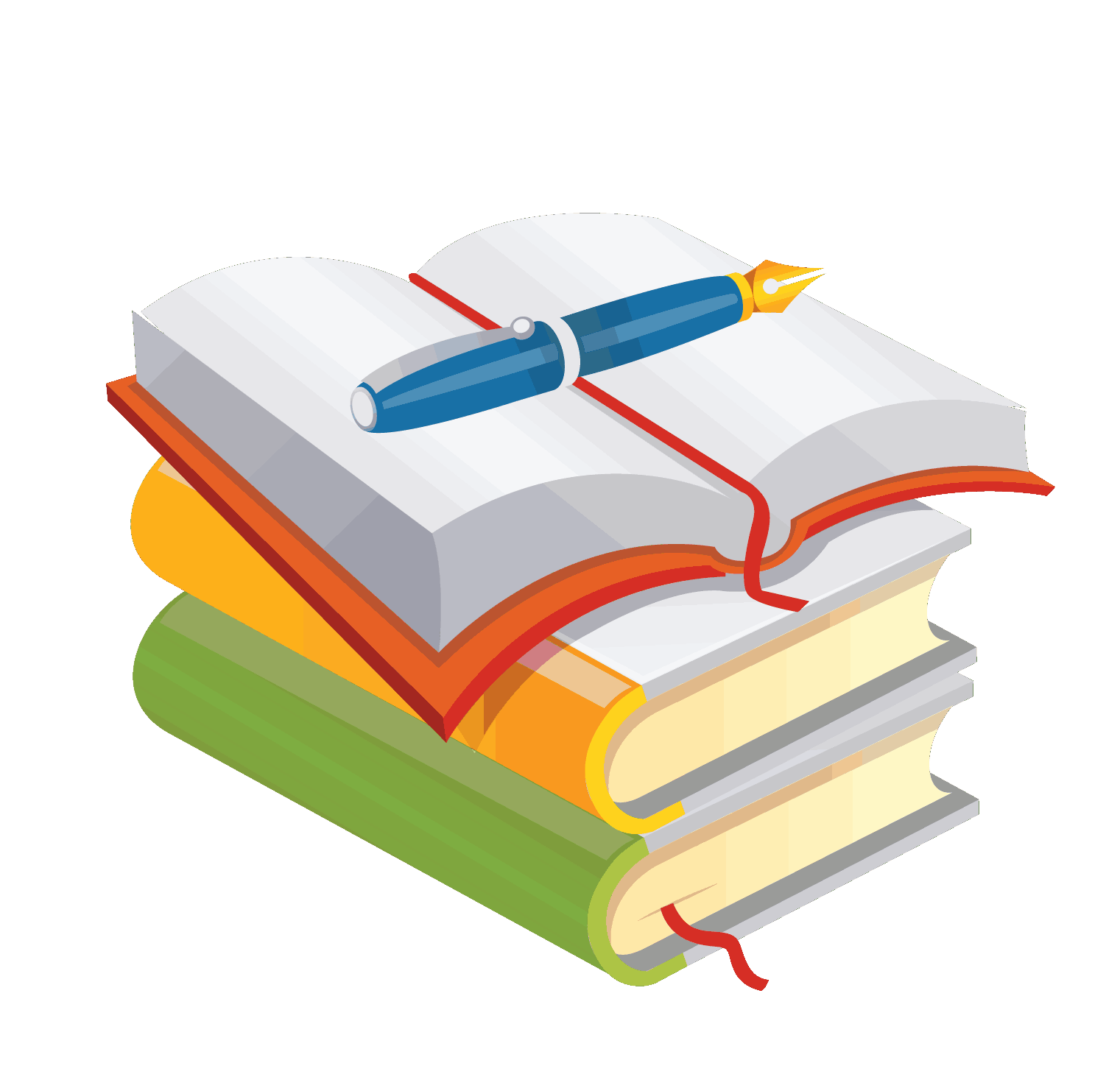 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.