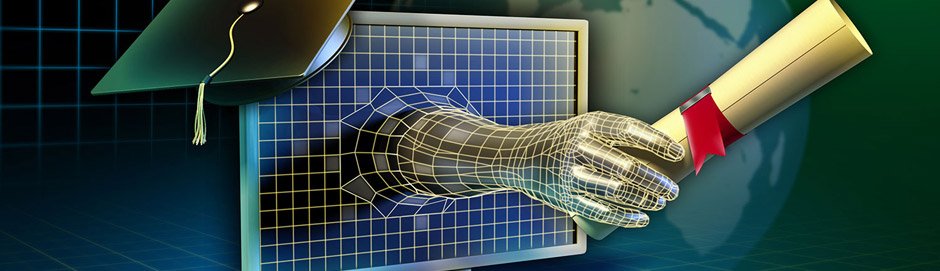Анализ произведений М.Ю. Лермонтова, Е.А. Баратынского, А.В. Вампилова
Литературоведение — одна из древнейших отраслей филологического знания. Это наука, но наука особого рода, практически неотделимая от изучаемого ею искусства слова. В самом деле, литературоведческие исследования, мысль которых прямолинейна, а язык беден, не только широкую аудиторию, но и специалистов не заинтересуют. И напротив, можно привести немало примеров, когда, казалось бы, чисто литературные проблемы волнуют многих. Статьи и книги В. Белинского, Д. Писарева, Н. Добролюбова, Н. Чернышевского, А. Григорьева, Ю. Тынянова, Д. Лихачева, Ю. Лотмана становились объектом широкого общественного внимания, чему способствовали как глубина и оригинальность мышления названных авторов, так и их умение писать живо и образно.
Понятно, что талант есть необходимое условие всякой научной деятельности: логическая последовательность рассуждений и четкое и изящное формулирование выводов в равной степени характеризуют труды и выдающихся физиков, и математиков, и биологов. Однако в литературоведении проблема формы особенно важна. Литературовед является почти что "соавтором" художника, и от таланта исследователя, его вкуса и такта во многом зависит раскрытие возможностей литературного шедевра. Статья или книга, написанные темно и вяло, в которых идет речь о произведении блестящего стилиста, едва ли кого-то смогут заинтересовать.
М.Ю.Лермонтов (1814-1842), Е.А.Баратынский (1800-1844), и А.В.Вампилов (1937-1972) столь разные авторы, да и их произведения, над которыми предстоит анализ, относятся к совершенно разным жанрам литературы, и тем не менее каждый из них является своего рода символом и новатором своей эпохи.
Лермонтов по праву считается серебряным поэтом в русской литературе. Имя Михаила Юрьевича Лермонтова принадлежит к числу самых дорогих и любимых имен поэтов и писателей, принесших мировую известность и славу русской литературе. Его исполинская фигура стоит в одном ряду с такими титанами нашей отечественной классики, как Пушкин и Гоголь. Первых читателей «Героя нашего времени» поразила необычность его художественной формы – несколько отдельных повестей сливаются в единый роман.
Литературная позиция Баратынского складывалась под непосредственным воздействием дворянской революционности, но поэт не сочувствовал радикальным устремлениям декабристов. Преобладающий тон его элегий и посланий – «томная грусть», проистекающая из соответствующего взгляда на жизнь. Новаторской была глубокая психологизация элегий и посланий.
Драма XX века стремится освободиться от оков привычных драматических категорий, не только от диктата единства времени, места, действия, но и от таких обязательных условий старой драматургии, как однонаправленность времени, неделимость человеческой личности. В шестидесятые годы свобода, раскованность драматургической формы была инспирирована новым, после очень большого временного перерыва, расцветом режиссерского искусства, исканиями литературы, знакомством с зарубежной драмой, влиянием кинематографа, переживавшего свои лучшие годы, его свободой в обращении с местом и временем, «действительностью» и «мечтами», с той легкостью, с которой он объективирует на экране сны, воспоминания, грезы. Для шестидесятых годов последнее было одним из излюбленных способов повествования: предсмертные видения. Вампилов одним из первых проявил новаторство в данном направлении.
Попробуем же выделить в этой работе то зерно общего, что есть в этих работах и конечно же показать их индивидуальность.
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
Интонация Автора в начале повести о Максиме Максимыче несколько иронична. Автор начинает с того, что подсмеивается над самим Собой, сравнивая себя со сказочным Ашик-Керибом, а затем описывает и горы, и дорогу, и гостиницу все тем же насмешливым тоном: «Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают...» Это пишет тот же самый человек, который в первых своих записях восклицал: «Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные...» — и подробно описывал горы, скалы, реки.
«Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие, и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толка нельзя добиться».
Инвалиды глупы и пьяны, гостиница плоха, а вдобавок приходится задержаться в этой гостинице на три дня — казалось бы, достаточно причин для раздражения. Звон дорожного колокольчика и крик извозчиков — первые вестники появления Героя. Лермонтов нагнетает ожидание. Холодные вершины гор и беловатый туман дополняют спокойно-равнодушное настроение двух офицеров, молча сидящих у огня. Но ведь должны произойти какие-то важные события. «Когда же?» — ждет читатель.
Герой, Печорин, появляется далеко не сразу. Его появлению предшествует длинная церемония. Во двор въезжает несколько повозок, «за ними пустая дорожная коляска». Путешественнику, скучающему в скучной гостинице скучного города, интересно всякое новое лицо — но лица-то и нет: есть только пустая коляска, невольно привлекающая внимание. Такая коляска — признак богатства ее владельца, она возбуждает в Авторе завистливый интерес. За коляской «шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея... Он явно был балованный слуга ленивого барина...» Героя еще нет, но читатель, вместе с Автором, уже заинтригован — сначала элегантной коляской, потом балованным лакеем. Каков же должен быть владелец коляски и хозяин лакея, если даже его слуга покрикивает на ямщика?
«Несколько повозок» — это и была та самая оказия, которой дожидались путешественники, чтобы отправиться в путь. Но Автор так заинтересован коляской и дерзким лакеем, не отвечающим на расспросы, что даже забывает обрадоваться приходу оказии. Максим Максимыч радуется: «Слава богу!» — и привычно ворчит, заметив коляску: «Верно какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок! Нет, шутишь, любезный, они не свой брат, растрясут хоть английскую!»
Читатель уже почти догадался, чья это коляска, но Максим Максимыч еще ничего не подозревает. Видя любопытство Автора, он обращается к слуге с расспросами — тон у него, заискивающий, неуверенный — жалко становится старика, и недоброе чувство возникает против слуги (а заодно и против его неведомого господина).
«— Послушай, братец, — спросил... штабс-капитан: — чья это чудесная коляска?., а?.. Прекрасная коляска!..»
Поведение лакея вызывающе дерзко: он «не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан». Даже доброго Максима Максимыча рассердило такое поведение: «он тронул неучтивца по плечу и сказал: «Я тебе говорю, любезный...»
Из неохотных и невежливых ответов слуги возникает, наконец, имя героя: «— Чья коляска?., моего господина... — А кто твой господин? — Печорин...»
Читатель вместе с Максимом Максимычем вздрагивает от радости. Зная все, что связывает Печорина со штабс-капитаном, мы, как и он, не сомневаемся, что сейчас произойдет трогательная встреча друзей, сейчас появится Печорин и бросится на шею доброму старику — и мы, наконец, увидим человека, который успел занять наше воображение... Но, может быть, это не тот Печорин? Мысль эта возникает у читателя и у Максима Максимыча одновременно; «Что ты? что ты? Печорин?.. Ах, боже мой!., да не служил ли он на Кавказе?..»
Слуга по-прежнему груб и отвечает неохотно, но это уже не имеет значения, сейчас Максим Максимыч увидит своего друга, это он, его зовут Григорий Александрович... Хмурые ответы лакея не беспокоят штабс-капитана. Но читателя они заставляют насторожиться. Уже зная, что Максим Максимыч с барином «были приятели», слуга говорит почти невежливо: «Позвольте, сударь; вы мне мешаете». Может быть, он знает, что барин не рассердится на него за такое обращение с приятелем?
Максим Максимыч убежден, что Печорин «сейчас прибежит». Все дело теперь только в том, чтобы уговорить лакея сообщить Печорину, кто его ждет. Штабс-капитан почти униженно уговаривает слугу: «...ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку...»
Пойти к полковнику сам Максим Максимыч не может: он не в том чине, чтобы запросто являться в дом к высшим чинам. Место свое он знает. Человек — и богатство, человек — и чин, человек — и положение в обществе... Конфликт человеческого и античеловеческого, введенный в русскую литературу Пушкиным, был углублен и расширен его последователями.
Ни о чем подобном Максим Максимыч, разумеется, не думает. За него думает Лермонтов — он понимает униженное положение старика и сочувствует ему, и читателя заставляет сочувствовать. А Максим Максимыч давно и прочно усвоил устои мира, в котором он живет. Штабс-капитан знает свое место и не идет к полковнику Н. искать Печорина.
Да, он знает свое место по отношению к полковнику. Но когда к нему в крепость был прислан молодой прапорщик, Максим Максимыч вел себя не как штабс-капитан, а как человек. Мы помним, как он встретил низшего по чину: «Очень рад, очень рад... пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч и пожалуйста — к чему эта полная форма?» Вот почему нам так обидно за старика: мы-то знаем, что он — человек, что он достоин уважения и любви... Где же Печорин? Почему он не спешит принести Максиму Максимычу свое уважение и свою любовь?
В этом простом разговоре нет, на первый взгляд, ничего примечательного. Но читатель, представляющий себе душевное состояние Максима Максимыча, понимает, чего стоил ему целый час ожидания. Старик сдержан: он ничем прямо не выдает своего волненья, но оно сквозит в коротком отказе пить чай и в молчаливом ожидании за воротами... Печорин все не появляется, а Максим Максимыч уже исстрадался от ожидания. Он ждал Печорина до ночи; очень поздно он, наконец, лег, по «долго кашлял, плевал, ворочался... Печорин «сейчас прибежит», а он не идет; и нетерпеливое желание увидеть человека, которого он так любил, все еще живо; и обида растет в нем, и беспокойство гложет: что же могло случиться, что могло задержать Печорина — уж не беда ли с ним стряслась?
Уже не только Максим Максимыч, но и читатель устал ждать, и Автор «начинает разделять беспокойство доброго штабс-капитана». Ожидание, нетерпение, длинный церемониал встречи — все это определяет состояние Максима Максимыча, не Печорина. Он холоден и спокоен — более того, ему скучно. Первое,, что мы о нем узнаем: он «зевнул раза два» — никакого волнения при мысли о предстоящей встрече, никакого движения души...
Напряженное ожидание Максима Максимыча, наконец, разрешилось: Печорин пришел. Но теперь нет штабс-капитана. А лошади уже заложены. Внутреннее напряжение рассказчика (а с ним и читателя) растет — ведь Печорин может так и уехать, не дождавшись Максима Максимыча. Правда, он не торопится. Но знает ли он, что здесь Максим Максимыч? Может быть, слуга забыл ему сказать?
— Если вы захотите еще немного подождать... то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем»,— сообщает Автор Печорину. — Ах, точно — быстро отвечал он: — мне вчера говорили; но где же он?»
Печорин реагирует так, как нам бы хотелось: «быстро», с восклицанием: «ах!», с вопросом: «где же?» Но ему «вчера говорили» — а он вчера не поторопился и сегодня чуть не уехал... Что же все это значит?
«Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи...» Как мы помним, Печорин, «закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью», «прямой стан его согнулся», он «был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу.
Спокойный, медлительный тон, которым Лермонтов повествует о Печорине, сменяется бешено быстрым, задыхающимся ритмом повествования о Максиме Максимыче: он бежал, «что было мочи... едва мог дышать; пот градом катился с лица его, мокрые клочки седых волос... приклеились ко лбу его; колена его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину...»
Прерывистое, учащенное дыхание бегущего взволнованного человека слышно в описании Максима Максимыча так же неоспоримо, как в «Бэле» мы слышали страстную речь Казбича на его родном языке.
И сразу же быстрый, бешеный темп сменяется медленным: «... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку». Два длинных похожих слова: «довольно холодно» — и замедляющий речь оборот «хотя с приветливой улыбкой» — и снова длинное протяжное слово «протянул», так непохожее на быстрые слова, рисующие Максима Максимыча. Читатель на минуту останавливается, как и Максим Максимыч, натолкнувшись на медленное спокойствие Печорина, и сразу же снова торопится вместе с штабс-капитаном, который «на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить». «Протянул» — и «схватил»: какие разные слова, да еще «довольно холодно протянул» — и «жадно схватил»! Так в одной фразе раскрываются обе души: любящая, ждущая, открытая — и холодно-равнодушная, замкнутая.
Странный разговор происходит между Печориным и Максимом Максимычем. Если прочесть отдельно, подряд все реплики Печорина, вовсе не создастся впечатления, что Печорин холоден, неприветлив:
«— Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживаете? — Еду в Персию — и дальше... — Мне пора, Максим Максимыч. — Скучал!— Да, помню! — Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... — Ну, полно, полно! ...неужели я не тот же?.. Что делать?., всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться — бог знает!..»
Сами по себе слова Печорина даже могут показаться теплыми. Но мы ведь помним, что он мог прийти еще вчера вечером, а пришел только сегодня утром и чуть не уехал, забыв о Максиме Максимыче. И мы слышим, что говорит старик, — в сравнении с его словами реплики Печорина оказываются убийственно холодными, пустыми, бездушными:
«Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин. — А... ты... а... вы?.. — пробормотал со слезами на глазах старик... — сколько лет... сколько дней... да куда это?..»
Печорин «сказал». Старик «пробормотал со слезами на глазах». Приветливые слова Печорина оказываются слишком спокойными, слишком гладкими и потому — пустыми рядом со сбивчивой речью Максима Максимыча: «а... ты... а... вы?..» Обычно говорят: «сколько лет, сколько зим» — время измеряют годами. Максим Максимыч сказал иначе: «сколько лет... сколько дней» — каждый день без Печорина старик помнил о нем, мечтал хотя бы о случайной встрече, мечтал как о чуде, не веря, — чудо осуществилось, и что же?
Ответы Печорина на прерывистые вопросы старика оказываются нестерпимо холодными, даже грубыми: «Еду в Персию — и дальше», «Мне пора...» «Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?..» — спрашивает Максим Максимыч, уже приняв неизбежную замену прежнего «ты» нынешним холодным «вы». Читатель вместе с ним надеется, что у Печорина есть еще какие-то оправдания, что он имеет причину торопиться. Максим Максимыч так взволнован, что не может ждать ответа на свой вопрос, он спешит, он надеется хоть что-то узнать о Печорине, хоть чем-то успеть поделиться: «Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке? …как? …что поделывали?..
—Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь..»
В этом одном слове — ответ на все вопросы старика. Скучал все пять лет. От скуки решил ехать в Персию. Скучает и теперь, встретив старого друга. Скучал бы и с ним — потому и не хочет задержаться. Других причин нет — только скука.
Почему он улыбается, произнося это горькое слово? Как понять странного человека? Приятно ему все-таки видеть Максима Максимыча, или улыбка его насмешлива: над собой усмехается, над своей скукой? Максим Максимыч полон воспоминаниями, они вырываются — старик не может удержаться и говорит даже то, о чем, пожалуй, бестактно напоминать:
«— А помните наше житье-бытье в крепости?.. А Бэла?„
Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...
—Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув…»
Так что же — он совсем бездушный человек? Можно понимать роман Лермонтова по-разному; каждый видит в нем свое, но все, конечно, видят и нечто общее. Я не верю, что Печорин забыл Бэлу — да и автор не верит: ведь он заметил. Что Печорин зевнул «принужденно». Конечно, он помнит Бэлу — и не хочет вспоминать ее, не хочет ворошить прошлое, боится воскресить прежнюю боль... А ведь это и называется: эгоизм. Из-за того, чтобы не обеспокоить себя воспоминаниями, он так холоден со стариком, который был ему близким человеком; чтобы уберечь от боли свою душу, он, не задумываясь, ранит чужую... Неужели совсем нет в нем жалости к бедному штабс-капитану?
Отчего же, по-своему он жалеет. Категорически отказавшись задержаться, он вдруг заметил огорчение Максима Максимыча. «Благодарю, что не забыли... — прибавил он, взяв его за руку». На большую сердечность он, видимо, неспособен. Но старик не принимает этой душевной милостыни. «Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это». «Забыть! — проворчал он: — я-то не забыл ничего...»
«— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски: — совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги... Что мне с ними делать?..
— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...»
И снова странен нам этот человек. Оттолкнув, может быть, единственного любящего, преданного ему человека, он отталкивает и себя, свое прошлое — ведь оно в тех бумагах, от которых он отрекается. Что же ему дорого на свете? Неужели — ничто?
Максим Максимыч еще кричал вслед, но «коляска была уже далеко»; в ответ на последний вопрос штабс-капитана: «а когда вернетесь?..» Печорин «сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..» Рассматривая то, что произошло, с позиции Максима Максимыча, мы осудим Печорина, он покажется нам холодным, равнодушным эгоистом.
Но если взглянуть на происшедшее сего позиции? Одинокий, тоскующий, озлобленный несчастьями, которые он приносил людям, Печорин одного только хочет: чтобы его оставили в покое, не терзали воспоминаниями, надеждами, — и в этот самый миг встречает человека, который от чистого; сердца, из самых лучших побуждений, непременно будет терзать его... В таком случае, если даже мы не сможем оправдать Печорина, то по крайней мере поймем его поведение.
А Максим Максимыч оскорблен — и это естественно.
«— Да, — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах: — конечно, мы были приятели, — ну да что приятели в нынешнем веке!..»
Обида Максима Максимыча привычно выливается в стариковское ворчанье на новый век. Мы сочувствуем Максиму Максимычу и в то же время понимаем его трагическую ошибку: в данном-то случае он неправ. Не потому Печорин пренебрег им, что он «не богат, не чиновен». Но как ему понять странного молодого человека, который и сам себя не понимает? Обида Максима Максимыча тем больнее, чем она непонятнее: за что? Разве он хоть чем-нибудь виноват перед Печориным? Любил, помнил, возил за собой его бумаги...
В конце повести, перед расставаньем с Максимом Максимычем, Автор узнает еще одну деталь: «бедный старик» не дождался коменданта, «в первый раз отроду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности... — и как же он был награжден!»
Муки совести — Максим Максимыч нарушил свой долг — сплетаются с муками уязвленного самолюбия и страданиями обманутой любви. В таких случаях человеку свойственно вымещать свои мученья не на том, кто был их причиной, а на том, кто подвернется. Максим Максимыч так и делает. В ответ на сердечные слова Автора он ворчит: «Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще пока здесь под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату».
Все эти упреки обращены, конечно, к Печорину. Но в обиде своей старик весь мир объединяет с обидчиком, и уж, во всяком случае, всю молодежь. Автору тоже горько от того, что «добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном». Теперь понятен раздраженный, недовольный тон, которым Автор начал свое повествование. Он недоволен Печориным, недоволен Максимом Максимычем, недоволен и сам собой, хотя он-то ни в чем не виноват.
Е.А. Баратынский. «Разуверение»
Баратынский не принадлежит к тем поэтам, творческая эволюция которых видна с первого взгляда — от неумело-беспомощных стихов к зрелым произведениям. В его поэтическом наследии мы не найдем в принятом понимании ученического периода, пробы пера. На литературное поприще он вступил хотя и молодым человеком, но уже вполне сложившимся мастером. Недаром Пушкин в неоконченной рецензии на выход в 1827 году «с таким нетерпением ожидаемого» собрания стихотворений Баратынского отметил: «Знатоки с удивлением увидели в первых опытах стройность и зрелость необыкновенную». В начале 1820-х годов из-под пера Баратынского уже вышли знаменитые элегии «Ропот», «Финляндия», «Уныние», «Разуверение», «Две доли», «Безнадежность», «Истина», «Признание», «Череп», принесший ему, по выражению того же Пушкина, титул «нашего первого элегического поэта».
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.
1821
Естественно, в начале творческого пути Баратынский осваивал достижения предшественников и старших современников. Мы уже говорили о его интересе к французской литературе, хорошем знакомстве с русской поэзией. И потому нет ничего необычного в том, что в ранних произведениях «Певца Пиров и грусти томной», как назвал Баратынского Пушкин в третьей главе «Евгения Онегина», чувствуется близость русских и французских элегиков конца XVIII — начала XIX века, слышны отзвуки державинской лиры, видна дружба с музой Жуковского и Батюшкова. Однако лишь немногие литературные традиции и веяния, бытовавшие в то время, находили отзвук в стихах Баратынского. Да и они подвергались строгому отбору —оставалось только созвучное собственным устремлениям, но и оно было одним из слагаемых поэтического самоопределения.
Баратынский — и это хорошо почувствовали уже первые читатели — сразу же заявил о себе как о поэте философского склада. Мы помним, как в полудетских поисках смысла жизни, чтениях французских философов, раздумьях о превратностях судьбы вызревала собственная, самостоятельно найденная и пережитая мысль юного Евгения. И вполне закономерно, что она стала идейным ядром его поэзии, ее внутренним двигателем. Элегии, дружеские послания, эпиграммы, стихи на случай и в альбом, прозаические опыты, письма к родным и друзьям — какой бы темы ни касался поэт, в какую бы форму ни облекал поэтический образ, на всем лежал отпечаток серьезного и тревожного раздумья о мире и человеке в нем, счастье и гармонии, вере и истине. Эти раздумья и составят «лица необщее выраженье» музы Баратынского, принесут ему славу одного из самых глубоких русских лириков...
Евгений Баратынский прожил сравнительно короткую и непростую жизнь. Познал и радости, и обиды, и горечь утрат, и счастье обретения, сладость и тяжесть поэтического вдохновения и заботы повседневного человеческого труда во имя близких. Были у него друзья и недруги. Первых он искренне любил глубинной, сердечной любовью и болезненно переживал, чувствуя в них кажущиеся или действительные к. себе перемены. От нападок вторых страдал, но всегда прямо и смело давал им отпор и стремился стать выше мелочных обид. И в жизни, и в поэзии он был самобытен, самостоятелен и независим, никогда не кланялся и не заискивал, а твердо и честно исполнял свой долг — гражданина, художника, семьянина.
Духовная биография Баратынского складывалась напряженно. С детства почуяв в себе поэтический дар, он долго не мог обрести единомышленников, которые бы поняли и поддержали. Чрезвычайно требовательный к себе, он не сразу решился выступить перед публикой. Эта же беспощадная требовательность к собственному дарованию всю жизнь заставляла его до изнурения шлифовать каждую строку, выходящую к читателям, многократно возвращаться к написанному и напечатанному, вновь переделывать и править.
Баратынский начал как поэт элегического направления, быстро завоевал популярность у читателей и авторитет у критики и собратьев по поэтическому цеху. Но не умея довольствоваться достигнутым, он твердо шел вперед по пути, определенном его талантом, руководствуясь самыми высокими мерками. На этом пути Баратынский постоянно ощущал поддержку лучших писателей своего времени, прежде всего — Пушкина, который всегда и во всем братски помогал поэту. Шел все вперед и вперед, мучительно размышляя о предназначении человека и его судьбе, напряженно ища свою единственную дорогу в поэзии, пробуя и борясь с трудностями жизни и поэзии, всегда оставаясь самим собой.
И при жизни, и в восприятии последующих читательских поколений Баратынский стал признанным мастером — едва ли не первым в отечественной литературе поэтом-философом. Никто, пожалуй, до него так глубоко не заглядывал в тайны человеческого бытия и не обнажал так бесстрашно в слове свои раздумья. И, пожалуй, никто до него так остро не скорбел об утратах человеческой души под ударами «железного века» и так страстно не желал человеку и миру гармонии. Поэзия Баратынского выразила самую суть переломной эпохи, когда надежды декабристов были задавлены безжалостной рукой власти, когда исторические перемены властно заявили о себе в России, потерявшей старые «кумиры» и еще не нашедшей новые. В стихах Баратынского — духовная драма его поколения.
Не во всех процессах общественной жизни Баратынский сумел верно разобраться. Где-то не хватило исторического чутья, где-то увлекла романтическая идея, столь притягивавшая на протяжении многих лет лучшие головы русской литературы. Но как честный мыслитель, как искренний поэт он, и ошибаясь, продолжал искать правду и говорить ее людям, верно служить искусству, ибо считал, что любовь к добру и красоте обязывает его исполнять долг поэта до конца. «Высокая моральность мышления» — вот что питало в нем стремление не изменять своему назначению, ибо, утаив струны, он не услышит ни бед, ни радостей родной земли. А без этого невозможно слово поэта, которое есть его дело.
Самим своим беспокойным существом поэзия Баратынского устремлена в будущее. Скорбя от несправедливости мироустройства, страдая от невозможности его изменить, он всегда мечтал сохранить духовность бытия, сберечь в себе и в людях изначальную основу человеческой жизни. И искал рядом с собой и во времени родные души, чтобы передать им свою веру в человека. Припомним вновь его проникновенное обращение и к современникам, и к нам, читателям дня сегодняшнего:
Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется-с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
Нашел? Нашел! Имя Евгения Баратынского — в числе тех, что современный читатель произносит с гордостью и ставит в ряд лучших отечественных художников слова. Периодически в центральных и местных издательствах выходят сборники его стихов — и мгновенно раскупаются. На страницах газет и журналов нередки сообщения о новых находках, связанных с именем поэта. Созданы государственный музей в подмосковном Муранове и школьный в Казани, который не так давно также получил статус государственного. О Баратынском написано несколько художественных произведений. Для изучения его жизни и творчества немало делают советские историки литературы, ряд значительных исследований подготовлен зарубежными учеными. Имя поэта с полным основанием значится в школьных и вузовских курсах литературы.
И это — не простая вежливость потомков: наш народ памятлив, он хорошо помнит свое родство, свято чтит слово и дело, положенное в фундамент советской культуры. Наша память о Баратынском активна, и нам ее множить...
А.В. Вампилов «Утиная охота»
«Утиная охота» писалась в 1965—1967 годах. Эти годы были чрезвычайно важными, насыщенными, яркими и переломными в жизни драматурга. В это время происходило его второе рождение, уже не как профессионального литератора, но как художника, в полной мере ощутившего свою поэтическую силу.
«Утиная охота» самобытно, сложно и опосредованно вбирала искания литературы, театра и кинематографа шестидесятых годов. То, что шестидесятые годы в советской литературе были годами расцвета лирики, так же важно для сущности «Утиной охоты», как и золотой век русского романа для зарождения чеховской драматургии.
Структура «Утиной охоты» при всем внешнем бытоподобии пьесы чрезвычайно сложна и изощренна.![]()
![]()
![]()
![]()
![]() «Утиная охота» — пьеса в воспоминаниях. Воспоминания как особая форма драматургического повествования — прием весьма распространенный в шестидесятые годы. «Утиная охота» состоит из трех пластов: пласта настоящего, пласта воспоминаний и, так сказать, пограничного, промежуточного пласта—пласта видений.
«Утиная охота» — пьеса в воспоминаниях. Воспоминания как особая форма драматургического повествования — прием весьма распространенный в шестидесятые годы. «Утиная охота» состоит из трех пластов: пласта настоящего, пласта воспоминаний и, так сказать, пограничного, промежуточного пласта—пласта видений.
Пласт воспоминаний, разворачивающийся внутри этой рамки, обильнее событиями, но тоже не несет в себе особого драматизма, хотя в нем переплетаются несколько весьма напряженных сюжетных линий: Зилов заводит интрижку с хорошенькой девушкой, девушка влюбляется в него, жена, обнаружив измену, уходит, но когда, казалось бы, ничто не мешает счастливому воссоединению героя с юной возлюбленной, в разгар вечеринки, чуть ли не помолвки, Зилов тяжело напивается, устраивает скандал, оскорбляет приятелей и девушку.
Параллельно разворачивается другой сюжет: Герой получает новую квартиру и в благодарность «сводит» начальника со своей бывшей подружкой, в то же время у этой подружки завязывается роман с другим приятелем Зилова. У героя неприятности на работе — он подсунул начальству липовый отчет, а друг-сослуживец предал его, увильнув от их совместной ответственности за содеянное.
Сюжет воспоминаний богато разнообразен житейскими подробностями. У героя умер отец, которого он давно не видел, у жены героя оказывается не то настоящий, не то вымышленный роман с бывшим соучеником, наконец, герой все время мечтает о предстоящем отпуске, об утиной охоте, которой не чинится в пьесе никаких препятствий.
Третий пласт действия — это пласт видений Зилова, прикидывающего, как друзья, сослуживцы, подруги воспримут весть о его смерти, вначале — воображаемой, в конце, как ему кажется,—неотвратимой. Этот пласт состоит из двух интермедий, текст которых, исключая две-три фразы, почти полностью совпадает. Но, совпадая словесно, они абсолютно противоположны по эмоциональному знаку: в первом случае воображаемая сцена смерти явно носит шуточный и даже шутовской характер, во втором — в ее настроении, в тоне нет и тени улыбки. Но главное в них то, что эти видения как бы объективируют характер зиловских воспоминаний. Видения насмешливы и ехидны, персонажи пьесы в них зло и точно шаржированы, и вот этот-то момент словно снимает субъективную природу воспоминаний героя, оставляя за ними право на некую художественную беспристрастность. Драма разворачивается между полушутливым замыслом самоубийства, навеянным «оригинальным» подарком Саяпина и Кузакова, и попыткой его осуществления всерьез.
Первостепенной важности аспект пьесы связан с ее исповедальным характером. «Утиная охота» построена как исповедь, которая длится ровно столько времени, сколько длится пьеса, представляя жизнь героя в ретроспективной последовательности — из глубин двухмесячной давности до сего дня. Нарастание трагизма идет по мере приближения к временному стыку воспоминаний героя и их осознания в настоящем, свидетельствуя о том, что конфликт здесь не внешний, а внутренний — лирический, нравственный.
Воспоминания Зилова складываются в такую цельную, всеобъемлющую и завершенную картину жизни, что моменты, их породившие, кажутся, на первый взгляд, не очень значительными сюжетными скрепами, однако, по сути они очень важны. Несмотря на слаженность зиловских воспоминаний, причинно-следственная связь в них отсутствует; мотивирует их внешний импульс — молчание того, к кому названивает и не может дозвониться Зилов: не подходит к телефону Вера — всплывают сцены, связанные с нею; молчат Саяпин и Кузаков — возникают эпизоды с их участием, неизменным собеседником героя оказывается один лишь официант Дима, и это очень существенная черта в драматическом развитии пьесы.
«Утиной охоте» свойственна особая атмосфера, порожденная соотношением родовых начал лирики и драмы. Драматургия пьесы в огромной мере определяется соединением объективной природы драмы, согласно которой все происходящее должно быть явлено в действии, и особой лирической сути основного конфликта, состоящей в процессе воспоминаний.
Драма предполагает суд извне, лирика — осознание изнутри. Лирическая исповедь не допускает низкого саморазоблачения, драматическое действие требует конфликта, который должен быть решен на уровне любой человеческой обеспеченности. Поэтический приговор «и с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю» высок. Иудушка Головлев, Голядкин или Варравин субъектом высокой лирики быть не могут, точнее говоря, нам мешает признать за ними это право поэтическая традиция XIX века.
Поведение Зилова и его окружения, казалось бы, исключает возможность любого самоанализа, любого самоконтроля, но тем не менее драматург заставляет этого героя всмотреться в свою жизнь и задуматься над ней. Разрыв между нешуточностью зиловской драмы и той явной нравственной дефективностью самого жизненного пласта, из которого поднял к нам герой свое лицо, залитое «непонятными» слезами («плакал он или смеялся, по его лицу мы так и не поймем»), был слишком велик и для конкретного исторического опыта эпохи, и для художественного историко-литературного опыта драмы.
Эта странная и сложная пьеса, в которой основной драматизм приходится на то, что, в сущности, невозможно сыграть,— на процесс постижения происходящего, на процесс самоосознания, а обычная драматургия сведена до минимума. Возраст героев пьесы — около тридцати лет, он был соизмерим или чуть выше, чем общепринятый для молодых фанатиков науки середины шестидесятых. Значительное место в пьесе занимает служебная деятельность героев, и хотя у Вампилова все усилия персонажей направлены, в основном, на то, чтобы работы избегать, часть насущных производственных задач, стоящих перед ними, выведена на сцену.
У центрального героя двое друзей, один из которых подловат, а другой наивен и прямолинеен. Обязателен для этой ситуации любовный треугольник привычного фасона: у героя строгая, усталая, молчаливая жена, которую он обманывает, и юная возлюбленная, на которой сосредоточены его помыслы. На периферии сюжета маячат обычные второстепенные фигуры: дурак-начальник, пробивная супруга одного из приятелей, давняя подружка героя, знакомый официант из близлежащего кафе, соседский мальчик. Но даже мальчик этот не равен сам себе, он пришел как напоминание о драматургии тех лет, когда подросток был олицетворением и носителем истины '. Но дело в том, что, исходя из привычных для шестидесятых годов сюжетных клише, Вампилов ставит перед собой совершенно иные цели и задачи.
В пьесе представлена не «драма» героя, «а способ жизни, в котором драмы случаются не от активного столкновения героя с реальностью (как это было в ранних пьесах Розова, например), а, наоборот, от нестолкновения и превращения жизни в некий обыденный ритуал, где полу
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Анализ произведений Некрасова, Тургенева и Чехова
- Анализ произведений Оноре де Бальзака
Понятие «французский реализм»(1) ассоциируется, прежде всего, с именами Стендаля и Бальзака. «Красное и черное» или «Пармский монастырь»
- Анализ произведений Серафимовича А.С. и Бальмонта К.Д.
Литература «Серебряного века» - особая страница в истории русской литературы. Это век гениальных поэтов и писателей, работавших поистин
- Анализ произведения Вильяма Шекспира "Ромео и Джульетта"
Вильям Шекспир родился 23 апреля 1564 года в небольшом городе Стретфорде-на-Эвоне. Мать писателя принадлежала к оскудевшему дворянскому ро
- Анализ пьесы "Мещанин во дворянстве"
«Поскольку назначение комедии состоит в том, чтобы развлекать людей, исправляя их, я рассудил, что по роду своих занятий я не могу делать
- Анализ пьесы Отстровского "Пучина"
Островский. Пьеса «Пучина»ГероиСразу же обращает на себя внимание подзаголовок пьесы Островского: “Сцены из московской жизни”. Это не
- Анализ работы П. Хлебникова "Крестный отец Кремля"
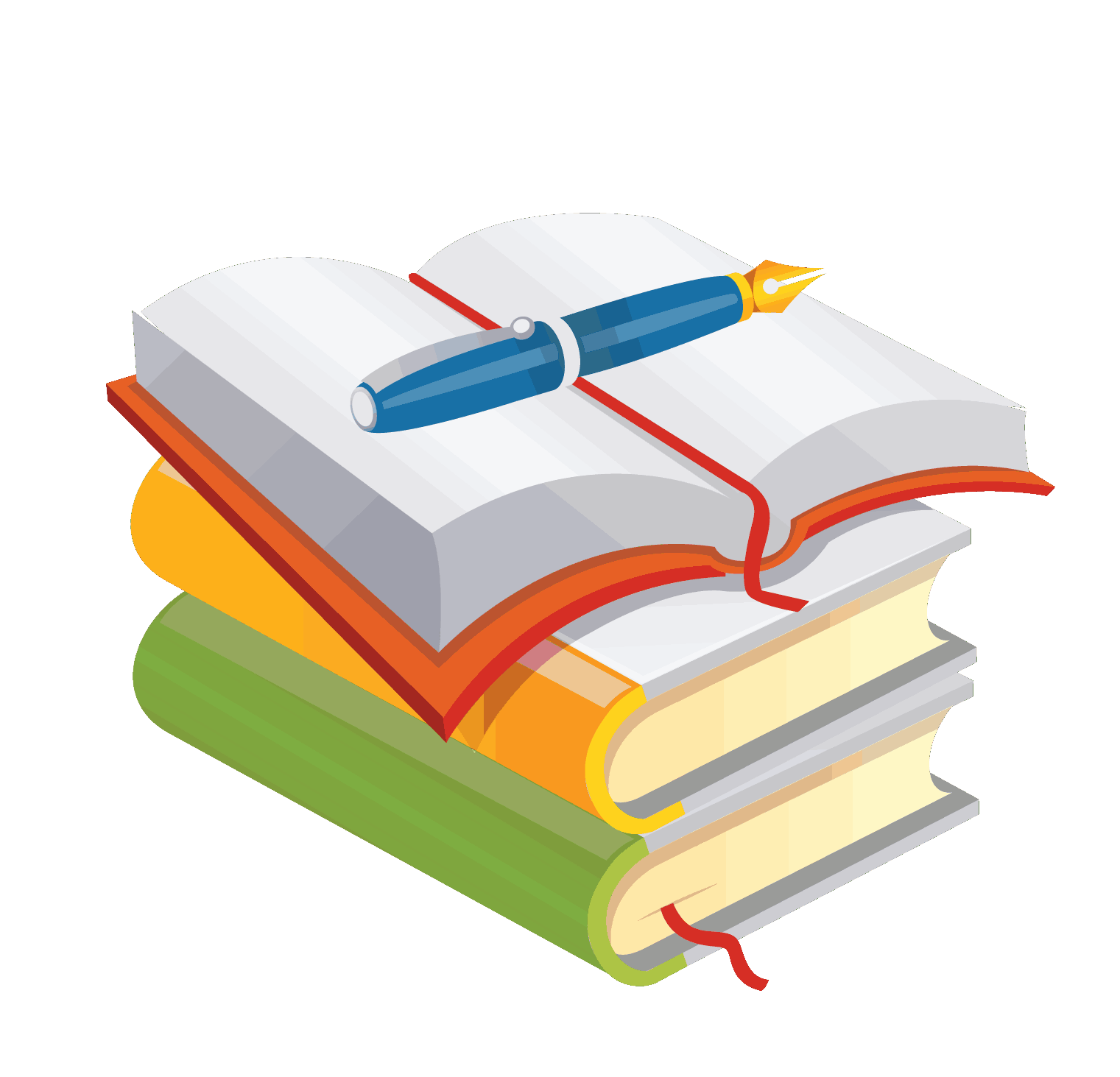 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.