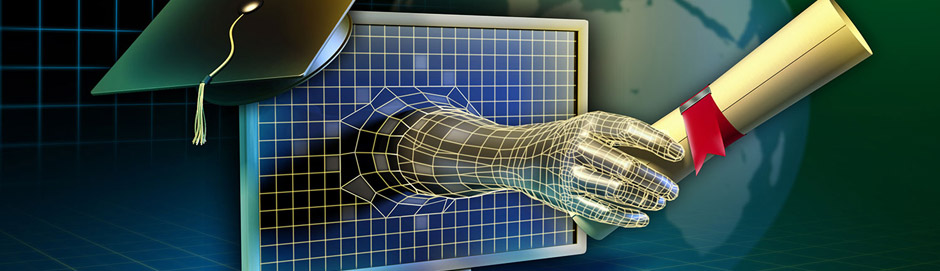Анализ произведений Серафимовича А.С. и Бальмонта К.Д.
Литература «Серебряного века» - особая страница в истории русской литературы. Это век гениальных поэтов и писателей, работавших поистине в самых разных жанрах. В этой работе я расскажу вам лишь о двух из них – символисте Бальмонте и глашатае коммунизма Серафимовиче.
В первый раз определенно и сознательно поэтом современной души К. Бальмонт называет сам себя в «Горящих зданиях».
От бесплодных исканий единой и вечной Красоты, открывшейся ему лишь в несчетности различных образов, утомленный, разочарованный и уставший оплакивать себя поэт бросается в кишащий хаос мирозданья. Холодные высоты, подводные просторы теперь покинуты им. Если Красота является лишь на мгновенье, то нет и не должно быть иного пути к ее постижению. Да здравствует миг! Если Красота изменяет в подземных сферах, то, быть может, она ярче и великолепнее вспыхнет в неустанном трепете и хаосе мировой жизни.
Итак, да здравствует жизнь, да здравствует хаос! Если у Красоты нет единого, неизменного Лика, то да здравствует вечная перемена! Едва сделаны эти три роковых вывода, Бальмонт становится современным поэтом, ибо все эти выводы суть выводы и заповеди современной нам жизни, современной души. Критерии вечного — ценность человеческой души в самой жизни, в самосознании и желаниях человека.
«Я живу слишком быстрой жизнью и не знаю никого, кто так любил бы мгновенья, как я. Я иду, я иду, я ухожу, я меняю, я изменяюсь сам. Я отдаюсь мгновенью, и оно мне снова и снова открывает свежие поляны. И вечно цветут мне новые цветы... В свете мгновений я создавал эти слова. Мгновенья всегда единственны. Они слагались в свою музы ку, я был их частью, когда они звенели. Они отзвенели навеки унесли с собой свою тайну...» Так говорит-сам поэт в предисловии к этой книге лирики.
В этих словах высказана целая философия мгновенья, целое миросозерцание: это импрессионизм, ставший миросозерцанием... Разве это не сама сущность современной эпохи, доведенная до чудовищной цельности и напряженности.
Поэт горячо и определенно отмечает это: «Эта книга не напрасно названа лирикой современной души. Никогда не создавая в своей душе искусственной любви к тому, что является теперь современностью, и что в иных формах повторялось неоднократно, я никогда не закрывал своего слуха для голосов, звучащих из прошлого и неизбежного грядущего. Я не уклонялся от самого себя, и спокойно отдаюсь тому потоку, который влечет к новым берегам». И вот в мертвой тишине безграничной усталости и скорби вдруг раздается бодрый, резкий и совершенно по-новому звучащий крик, крик часового: «Товарищи, товарищи! проснитесь!»
В сравнительно малоизвестной автобиографии, написанной в конце 20-х годов, Серафимович рассказывал о себе, своих родителях, годах детства и юности, о начале своего пути в революцию и литературу:
«Родился... в Донской области, в станице Нижие-Курмаярекой. Отец — донской казак, всю жизнь прослужил в полках — в канцелярии. Мать — казачка» Кое-что нужно тут же добавить к сказанному. Родная станица Серафимовича ушла в 50-е годы под воды Цимлянского водохранилища. Настоящая фамилия писателя — Попов; его отец Серафим Иванович Попов, есаул — казачий чин этот равен армейскому капитану,—служил не только в канцелярии. С шестнадцати лет участвовал в набегах в Малой Чечне на Кавказе, служил в Польше и на турецкой границе. Мать — Раиса Александровна — дочь войскового дьяка из Новочеркасска, столицы Области войска Донского. И отец, и мать Серафимовича были из старых донских казачьих семей; прадед его по материнской линии отличился еще в Отечественной войне 1812 года, был есаулом в казачьем войске атамана Матвея Платова.
Блестящий оратор, он давил противника несокрушимой аргументацией, сарказмом, стремительностью. С ним было трудно спорить. Начитанность была громадная. Он был великолепный организатор. Схватит человека, повертит его со всех сторон, гож — в организацию, нет — отбрасывает в сторону и за другого.
Из чего возник рассказ, что для этого было необходимо? Вообще, творчество всегда тайна, но кое-что все же предположить можно с несомненностью. «На льдине»— рассказ о том, что стало новым и глубоким впечатлением для молодого прозаика. Серафимовича возбуждали новые лица, новые места. У него было острое чувство жизни/В повести «У холодного моря», во многом автобиографической, он признается в том, с какой силой испытывал он радость бытия, его полноты, неповторимости и небывалости: «Скорее запечатлеть — и в этом неизъяснимая сладость,— запечатлеть и лес, и морозный холод, и всюду теплящуюся жизнь, и счастье, счастье, которое непременно должно прийти». Без этого чувства не было бы художника.
Попробуем же выделить в этой работе то зерно общего, что есть в этих работах и конечно же показать их индивидуальность.
«Степные люди» Серафимовича
При всем своеобразии пути Серафимовича, есть у него немало предшественников. Вначале особенно близкими себе он чувствовал В. Г. Короленко и Г. И. Успенского. Рядом встают имена В. М. Гаршина и Ф. М. Решетникова. Эти писатели ввели в литературу новый жизненный материал, рассказали о стрелочниках и шахтерах, о «фабричных» и крестьянах-отходниках, мелких торговцах и ремесленниках... До них жизнь массового трудового человека, в сущности, не была объектом литературы.
Все это становилось осознанно близким Серафимовичу, тем более что в начале своего писательства, когда так необходимы были мировоззренческие, идейные устои, он находит их в марксизме. Все эти годы не прерывалась его связь с социал-демократическими кружками, с революционной практикой: от студенческого кружка. Александра Ульянова до дружбы с ссыльным Петром Моисеенко (знакомство с которым продолжалось многие годы спустя), до кружков 90-х годов и сотрудничества с социал-демократической интеллигенцией в 900-е годы.
К прогрессивным, социалистическим выводам он идет и через творчество, В рассказах 90-х и начала 900-х годов Серафимович внимательно всматривается в судьбы так называемого «маленького человека», видит его по-своему сильным, многое умеющим, понимает, что подавленность и забитость есть лишь временный удел человека, следствие социальной несправедливости.
Всегда жила в писателе тоска по большому человеку, выпрямленному во весь рост. Вряд ли поэтому можно считать такие его рассказы как «Сцепщик», «На плотах», «Маленький шахтер», «Месть», «В камышах», «Степные люди» и другие, а особенно «Стрелочник», этюдами о «маленьком человеке», как порою пишут.
Перечитаем некоторые эти рассказы. Нужно ли таких людей считать маленькими, жалкими, несчастными? Да, Ивану нелегко работать, потому что хочется все сделать но совести, как следует, за все у него болит душа... Но легкой работы не бывает.
Хотя и чувствуется все-таки в рассказе нота жалостливости, но не она делает музыку; Серафимович здесь, конечно, еще не совсем освободился от некоторых, характерных для «народнической» литературы способов писания о народе." Прав был Горький, который в рабочем человеке видел в первую очередь другое. По поводу рассказа «Маленький шахтер», где тоже пробивалась «жалость», он взволнованно говорил Серафимовичу. «Вы не забывайте: шахтеры — ведь это же рабочие! Они ведь создают все, что кругом. У вас они только бедненькие, забитые, жалко их... А ведь это не вся правда...»
«Я шел от него,— вспоминает Серафимович,— оглушенный,.. Как же это я мог пропустить такую громадину? — говорил я в сотый раз сам себе.— Ведь рабочий, ведь он же — творец. Ведь действительно нельзя же его изображать только бедненьким, забитым, темным...» Но Серафимович так услышал и передал слова Горького, потому что у него самого в рассказах были не только жалостливость, не только забитость, но и глубокое чувство народной силы.
Возьмем ли мы «Степных людей», или «Месть», или «В камышах», или даже «Сцепщика», где сцепщик Макар действительно задерган и забит до крайности и труд стал у него едва ли не казнью с утра до ночи,— но в глубине всех, этих сюжетов нельзя не почувствовать толчки непроснувшейся или придавленной силы. Вот встает перед нами рыбак Иван Сидоркин: «широкоплечая, сильная, с выпуклой грудью, богатырской мускулатурой фигура». Вот рыбаки из рассказа «Месть». Отец все знав! о море, «каждый уголок, каждую ложбинку, углубление. Во всякую погоду днем и ночью ходил в баркасе без компаса и приходил туда, куда нужно. Знал, когда и какая рыба ловится... Несмотря на свое скопидомство, он всегда первый являлся с помощью, как только у какого-нибудь рыбака случалось несчастье». Эти люди умеют выстоять среди постоянных опасностей и бед; чего только не было в их жизни! Оттого с такой ненавистью и жестокостью казнят они «ледяного вора» Петра, избаловавшегося кражей рыбы из чужих сетей. У героев писателя труд и совесть идут рядом, переплетаясь. И с постоянным вниманием всматривается Серафимович в жизнь этих Макаров, Петров, Иванов, живущих в мире, полном напряжения сил и стихий, природных и человеческих: испытывают их и морские бури, и полярные ночи, и толщи земные, сквозь которые прорубается человек... Есть какая-то широта и удаль в судьбе этих людей, взывает она к силам неиссякающим, могучим, которые находят выход то в бунте, то в стойком терпении, то в беззаветном труде, то в крутых поворотах характеров.
Изо дня в день он осмысливал бурное развитие жизни в южных, перспективных в торговом и промышленном отношениях районах. Города Юга России переживали лихорадочную пору капиталистического процветания. У власти встали денежные тузы, промышленные выскочки и скоробогачи — люди невероятно энергичные, деловые, оборотистые и в такой же мере беспринципные, ради прибыли готовые идти на все. Газетные выступления Серафимовича не раз давали повод дли недовольства цензуры, хозяев прессы, отцов города и жандармского управления. В одном из писем В. Г. Короленко Серафимович сообщает: «...Недавно я рассказал о проделках одного крупного воротилы одного из местных банков. Статья произвела огромную сенсацию и городе. Черва неделю «Допекая речь» была куплена этим самым воротилой; само собою разумеется, я очутился на улице...» Этот случай далеко не единственный — писатель сполна узнал, что значит писать не по указке сильных мира сего.
Потом, спустя годы, собранное газетной практикой будет необходимо ему и для романа «Город в степи», и для «Железного потока»; из этих поездок привезет он многие десятки корреспонденции, очерков, десятки рассказов.
Серафимович не может не видеть, что и там, в донских степях, на шахтах Донбасса, на портовых улицах приморских городов, в селах и глухих хуторах жизнь сдвинулась с привычных мест. В самых будничных драмах все чаще обнаруживается ненормальность существующего устройства жизни: пьянство, жадное приобретательство, аморализм, невежественность, социальное и национальное угнетение, все большее огрубение нравов,— за всем этим встают глубокие общественные конфликты, грозящие духовной устойчивости человека. Народная масса в своей практической жизни поставлена перед необходимостью решать сложные и злободневные вопросы нравственности, правды, экономической и социальной справедливости.
Прошло немного времени, и острейший «жизненный материал» сам постучался в двери писателя. Случилось так, что именно в начале декабря 1905 года Серафимович поселяется на Пресне, оказавшись в самой гуще великих событий. У его дома строились баррикады, отстреливались от царских войск дружинники из рабочих отрядов. Пули насквозь простреливали его квартиру, рядом рвались снаряды. Писатель воочию видит, как делается р е в о л ю ц и я чувствует обжигающее дыхание народной бури. Революция на время стала бытом: «С представлением революции, восстания вяжется что-то необычайное, поражающее. Но когда я подходил к заставе, все было необыкновенно просто. С пением, со смехом, с шутками валили столбы, тащили ворота, доски, бревна, сани со снегом, и баррикада вырастала в несколько минут, вся опутанная телеграфной и телефонной проволокой. У ворот и по тротуару толпился народ» («На Пресне»). «Маленький человечек, подмастерье из портняжной мастерской» в радостном возбуждении произносит речь на митинге: «Братцы, счастье наше в наших руках!., ведь ежели все да встанут... все до единого человека, что будет?..» («Среди ночи»), Серафимович слышит, как по-новому разговорились его прежние герои, молчаливые, до сих пор не сознававшие себя людьми. Они попадают в обстоятельства, потребовавшие от них и ума, и души, напряжения всех сил личности, заставившие их о многом думать. Люди меняются неузнаваемо, они становятся сильными — все вместе. В их движении писателю «слышалась гордая сила, познавшая самое себя» («Похоронный марш»). В рассказах этих лет Серафимович впервые с такой ясностью увидел мощь, заключенную в осознавшей себя массе, в людях, слившихся воедино," при условии, разумеется, когда они сами решают, сами делают свою судьбу. Так было в дни революции 1905 года на Пресне, так было в годы гражданской войны, когда прокладывал свой путь «железный поток» народной веры в свои силы.
Надвигается и все самоувереннее заявляет о себе всепроникающая капиталистическая идея и практика, перед которой покорно склоняется и идет ей в услужение дремотная провинция. Об этом пишет Серафимович в романе «Город в степи». Словно железной ладонью зачерпнул капитализм громадный кусок русской земли — с селами, реками, холмами, с недрами земными, со степными речками и травами, с тысячами и сотнями тысяч разных людей — от патриархальных мужиков до образованных инженеров и техников — и ввергнул одних в беспросветную кабалу, других — в жестокую гонку за прибылью. Страна расплачивалась за этот «прогресс» страшным моральным и духовным уродованием — массовым спаиванием народа, насилием, циничным обманом, выжиманием всех соков из человеческого тела и души. Социалистическое мировоззрение, многие личные наблюдения Серафимовича, жившего на станции Котельниково, когда там прокладывалась железная дорога через донские степи к Царицыну, дали ему возможность глубоко осмыслить происходящее.
Расходование народной энергии — вырождающейся ли патриархальностью или буржуазным потогонным конвейером — равно было враждебно интересам народа и тяжко тревожило писателя.
Исторический облик и опыт народа сложен и противоречив. Опускал ли Серафимович глаза перед суровой правдой жизни? Может быть, он воспринимал действительность «выборочно»? Приукрашивал ее? Мы знаем, что это далеко не так. То, что видел он на своем, к тому времени немалом жизненном пути, что узнал и продумал, видели и знали немногие. И ни от чего он не отрекся, не отвернулся. «...Жизни бояться нечего, и нечего бояться самых мерзких ее сторон... От писателя надо требовать, чтобы он прежде всего был правдив, чтобы он не боялся жизни, а брал вое, »то в ней есть, по брал это но для того, чтобы пощекотать нервы или Доставить нам минутное удовольствие, а для того, чтобы читатель самую жизнь прощупал, все ее язвы и гнойники». вот таким был художнический принцип Серафимовича! при этом он видел возможности, таящиеся в глубинах народной жизни, и верил, что они пробьются сквозь все наносное, исторически преходящее, не будут извращены и погублены. Только нужно с величайшей бережностью относиться к этим возможностям, ко всем живым росткам, были бы они действительно живыми и приносили бы добрые плоды.
Думается, в этом была причина, по которой Серафимович сразу так горячо принял к сердцу заботы молодой советской литературы. Несмотря на свои годы, он был захвачен текущей литературной борьбой, собиранием сил советской литературы. Как художник, он был увлечен материалом гражданской войны, вынашивая замысел грандиозной эпопеи «Борьба», из которого осуществить удалось лишь «Железный поток». Начало 30-х годов принесло новые большие перемены; возникает мысль о романе, посвященном коллективизации — «Колхозные поля». Но годы идут, Серафимовичу уже за семьдесят... Труднее, медленнее движется перо, не хватает привычной для его литературной работы повседневной непосредственной связи с живой действительностью. Роман был только начат. Но и в эти закатные годы писатель остался верным себе. И когда началась война, он словно заново сделался писателем-газетчиком. Трудный путь в эвакуацию по донским степям летом 1942 года, поездка на фронт дали ему немало сильных впечатлений. Рассказы Серафимовича военных лет достойно завершают его долгий литературный путь. До последних дней жизни работал он над автобиографической прозой, романом «Писатель». Умер Серафимович в 1949 году. ...И надо всем сделанным им возвышается вершина «Железного потока». Всмотримся в этот роман.
Чем объяснить этот новый творческий взлет? Тут можно предположить многие причины. Еще в 1916 году вместе с сыном Анатолием он прошел, нередко с риском для жизни, по тем же отрогам Кавказского хребта, по которым пустит он через годы колонну Кожуха. Память об этом осталась навсегда. Как художник он давно сроднился с этими местами. Это был его Юг: степь, горы, казаки и «иногородние», народная масса, такая понятная и близкая ему; это были им, художником, любимые краски, его воздух, свет; накал страстей и размах бедствий, его родная южнорусская речь... Работа над романом о самосознании народа была для него и продолжением спора с некоторыми бывшими товарищами по «Среде», так высокомерно и трагически ошибавшимися в народе, когда для всех пришли «минуты роковые»...
И, конечно же, работая над «Железным потоком», он для себя самого решал — теперь это можно сказать с несомненностью — главный вопрос своей писательской жизни: что может сделать человек из народа, что может сделать народ. Выбьется ли он из гибельного подчинения стихиям, способен ли он переменить себя и мир? И такова закономерность настоящего искусства, что личные проблемы, решаемые настоящим писателем, становятся проблемами искусства его времени. Более того, они становятся ответами этого искусства на вопросы, которые задает человеку и народу сама жизнь, история, будущее.
Вначале это бессильное человеческое «стадо». Каждый в нем загнан и подавлен своим, «личным и мелким». И нужно немало удалить шлаков и сора жизни, чтобы каждому открылся в себе и вокруг иной смысл существования. Первым освобождается от всего лишнего Кожух; у солдат его тоже в конце лишь пулеметные ленты опоясывают голые бронзовые торсы; лишается своего символического самовара и Горпина. Теряя все обременяющее их, они взамен, как говорится, приобретают весь мир.
В начале романа люди надеются, что все это «на два-три дня»; они еще меряют свою жизнь старыми сроками, еще не сознавая, что это навсегда. Из глубин их нового опыта должна возникнуть жизнь иная, творящая себя заново и —«своею собственной рукой».
Чем больше вчитываешься в роман, в судьбу «массы», в судьбу «вожака» Кожуха, тем больше видишь, что их новый опыт опирается на «старое», во многом исходит из него, отбирает необходимое в «старом». Если вдуматься — какая все-таки во многом традиционная фигура русского мужика — Кожух. Не Платон Каратаев — другой, но занимающий свое место в крестьянской типологии.
Нет, ни в чем его не приукрашивает Серафимович. «Хозяйственный мужичок тяжело-упрям, как бык, на все наваливается каменной глыбой». Это народная, крестьянская натура, характер, рожденный вековой тяжкой, каменной работой, добивается «своего страшной тяжестью, нечеловеческим напором». Кожух — тугодум; жизнь заставляла его все делать всерьез, не с наскока. В глубинах его психики, как и в глубине всей породившей его культуры, проворачиваются тяжелые вековые маховики, которые могли быть сдвинуты лишь великой энергией меняющейся жизни. Его породила эпоха войн и революций — меньшего он бы не почувствовал.
Октябрь выдвинул перед ним новые цели вместо старых. Поняв, что он ошибался, выбиваясь в офицеры, он «так же каменно, с таким же украинским упорством... решил каленым железом, своей кровью, своей жизнью выжечь эти следы и так послужить — нет, неизмеримо больше послужить громаде бедноты, кость от кости которой он был».
Но вот что еще бросается в глаза, когда дочитываешь роман, пройдя весь путь с этими людьми. Они неистребимы! Как в волшебной сказке: падает один, а на смену встают десятки, убивают десятки, а взамен рождаются сотни. Неисчислима и неуничтожима сила народная, когда она сама себя создает и осознает. Это одна из главных истин романа.
Анализ стихотворения Бальмонта «Безглагольность»
Тишина духа, молчание вселенной слишком ужасно и томительно, быть может, сама Вечность лишь ужас безмолвия, нет возврата с высот и ледяных хребтов, а между тем «правда небес» только смутный сон.
Итак, должно жить, во что бы то ни стало, какой угодно ценой, хотя бы ценой чудовищной ошибки, превращающей миг в вечность, смену мгновений в непрерывность, придающей относительному абсолютную ценность, заставляющей отвертываться от рокового, последнего вопроса... Пусть смена для смены, лишь бы не стоять на той же черте, лишь бы не молчать и не слышать невыносимого молчания вселенной, тишины всех вещей. Пусть кругом тысячи врагов, впереди мрак, озаренный «отсветами зарева», позади «сумрачные обители совести» и вокруг «страна неволи» без границ!.. Должно жить!
Если раньше поэт стремился достичь неба, восходя по (наконечным ступеням исполинской башни, и не достиг неба, ибо ступени оказались слишком шаткими, то теперь он боится лишь одного, не поздно ли вернуться к родным стихиям, к Земле и Огню...
С первых же страниц «Горящих зданий» ясно, что мы имеем дело с замечательнейшим явлением душевной жизни, с почти полной метаморфозой личности. Немногие поэты изведали на себе весь ужас этой таинственной драмы, этой мистерии духа, корни которой уходят в бесконечную глубину, мера же страданию не подлежит никакому сравнению. Ницше в момент поворота от позитивизма к символизму, в эпоху создания «Заратустры», таинственная метаморфоза О. Уайльда в годы тюремного заключения — вот главнейшие примеры подобных почти чудесных душевных переворотов, этих, быть может, самых мучительных терний из всех выпадающих на долю поэтов...
Бальмонт сразу является нам совершенно иным. Только один год отделяет «Горящие здания» от «Тишины», и какая пропасть между ними...
Но «Горящие здания» лишь этап на пути поэта, лишь переходный период его изменения, основная тенденция которого направлена от дуализма к пантеизму, от романтизма к чистому символизму, от вечных исканий к современной лирике.
В первом уже отделе «Отсветы зарева» поэт развертывает перед нами символику красного цвета, символику огня, крови, страсти и безумия. Его душа несется в страну крови и золота, в Испанию XVI века, она жаждет «багряных цветов», красных, исполинских, испанских гвоздик, ибо тами тогда пульс жизни трепетал сильнее, судорожнее, безумнее, чем где-либо и когда-либо. Его опьяняет красный, как кровь, диск испанского солнца, ему кажется в безумном, почти чувственном экстазе, что свод неба закутывает огненный туман, что алые гвоздики и маки, как губы, впиваются в него и зовут к огненным безднам наслаждений («Красный цвет»). Прежний почти ангельский облик женщины превращается в образ вампира с окровавленными, алчными губами, безгрешная любовь в «безумство кошмарного пира», в дьявольский лик Прекрасной Колдуньи, ужасной, но бессмертной, как привидение.
Картины Испании сменяются кровавыми, еще более ужасными, превратившими даже исторические события в безумную фантастику, картинами России «в глухие дни Бориса Годунова» («В глухие дни»).
Баллада «Чары месяца» полна невыразимой грусти бледных, плачущих на рассвете теней: ее строфы — рыданья и вздохи призрака молодой Джамиле:
Можно только раз любить, Только раз блаженным быть,
Впить в себя восторг и свет,— Только раз, а больше — нет.
В отделе «Страна неволи» основной символ — картина безбрежного леса, леса без начала и конца, где заблудилась сиротливо покинутая небом душа поэта; это не тот строгий и стройный лес живых символов, торжественный, как готический собор, утопая в бесконечности которого душа убаюкана сладкой музыкой, неясным и стыдливым шепотом смутно-знакомых образов, это не лес Ш. Бодлера; напротив, в этом чудовищном лесу душа безнадежно бьется между спутанных ветвей, где может отозваться на крики утонувшей в хаосе разорванных граней и мигов бытия лишь одно существо — собственный двойник.
Вселенная превращается из иллюзии в невыносимый кошмар, лишь только воспринимающий дух разрывает ее на отдельные части, бросая путеводную нить и опьяняясь бесконечной сменой для смены.
От пессимистического романтизма Бальмонт перешел к пантеизму, этому самому парадоксальному и предательскому миросозерцанию. Он стал по-своему не только «по ту сторону добра и зла», но даже Красота стала для него равноценна во всех своих бесчисленных ликах. Отсюда целый ряд чудовищных диссонансов, столь же неприемлемых и странных, сколь искренних.
Книга «Будем, как солнце» замечательна в двух отношениях. Прежде всего в ней поэт окончательно находит свой путь, путь экстатического проникновения в душу мира, в сущность мироздания, окончательное оправдание всего многообразия вселенной, великое «Да», которого он мучительно-тщетно искал всю жизнь.
Во-вторых, эта книга представляет собой великую систему символов и сам поэт называет ее «книгой символов». В ней впервые все явления, вещи и образы утрачивают свое непосредственное эмпирическое значение и взамен приобретают иное, более глубокое, таинственное значение, струясь как бы снопом бесчисленных лучей, исходящих из единого источника, Великого Символа — Солнца.
В этих двух гимнах к Солнцу русский символизм достиг высшей точки своего расцвета, он зацвел огненными цветами Солнца. Вот почему «Дева вод» — эта как бы прежняя, лучшая, романтически бледная душа поэта — говорит всего два слова о Солнце:
— «Я видела Солнце» — сказала она,—
Что после — не все ли равно.
Всюду поэт видит лик Солнца, всегда, неизменно он грезит о нем; все вещи принимают иные облики, все они отражают, преломляют, качают, дробят отблески единого светлого солнечного Лика, и морской прибой с его блистающей и брызжущей пеной поэт называет «белым пожаром». Из всех стихий ближе всех теперь поэту огонь — и после гимна солнцу он поет свой «Гимн огню», тому самому огню, который сжег его душу.
Но душа мира воплощена в слитном «четверогласии стихий», и вслед за гимном огню поэт воспевает воздушные, безбрежные, безветренные пространства («Безветрие») и наконец слагает скорбные элегии в честь вечного пилигрима безбрежности — Ветра.
Но закон полярности не знает исключений... За самым ярким откровением неизбежно следует падение, за подвигом — надломленность и смятость, за высочайшим напряжением мысли — безумие, за молитвенным гимном светлому богу — жажда вечной ночи и небытия...
Кто только раз коснулся божественной правды и красоты Эдема, тот не удовольствуется сменой стихийных экстазов и сменой земных картин. Чья душа, хотя бы раз, приближалась к аду, для того не может быть никакого исцеления на земле...
Вот почему всякая душа, отмеченная «жаждой безмерного», неизбежно осуждена к вечным колебаниям, к неизменной смене полетов и падений, пока безумие или искупление не откроют, наконец, перед ней врат Рая.
«Я опрокидываюсь от разума к страсти, я опрокидываюсь от страстей в разум. Маятник влево, маятник вправо. На циферблате ночей и дней неизбежно должно быть движение» («Из записной книжки»), так говорит сам поэт в предисловии к своим стихам. Если это роковое колебание между двумя полюсами сущего, между двумя безднами, как мы уже видели, отпечаталось во многих произведениях Бальмонта, в частности в лучших вещах его «Тишины» и «Горящих зданий», то самое яркое, самое мучительное и напряженное проявление этой антиномии духа находится в той же книге «Будем, как солнце», где запечатлены и высшие его полеты.
Вся эта книга может быть представлена, как две стороны, два основные момента одной великой светотени, небывалого полета к Солнцу, самых ярких движений воли к небу и затем самого глубокого, испепелившего его душу нисхождения в Ад.
Между ними заключена полоса относительного покоя, так сказать «мертвой зыби». Но максимальная яркость и напряженность творчества приходится на первую и последнюю части книги.
![]()
![]()
![]()
![]() И действительно, кроме драмы В. Брюсова «Земля», мы не можем назвать никакой другой столь же яркой попытки изобразить восторг и трагедию души, зажженной жаждой Солнца и окрыленной волей к Небу. И однако теперь под влиянием дальнейшего упадка творческой силы Бальмонта, под влиянием общественного и политического кризиса, создавшего временный всеобщий возврат к реализму и жизни, эти изумительные образы забыты или, что хуже, полузабыты. Наше общественное внимание и вкус, руководимый исключительно мгновенно родившейся модой, как бы отмщая поэту мгновений, с той же легкостью провозглашающий сегодня «все — общественность», завтра «все — эстетика», а послезавтра «все — мистика», склонен считать и эту книгу уже исчерпанной и оставленной позади, забывая, что основное ядро ее не может раздробить молот Времени, что Красота, которая в ней дышит, переживет тысячи возвратов и колебаний настроения культурной толпы...
И действительно, кроме драмы В. Брюсова «Земля», мы не можем назвать никакой другой столь же яркой попытки изобразить восторг и трагедию души, зажженной жаждой Солнца и окрыленной волей к Небу. И однако теперь под влиянием дальнейшего упадка творческой силы Бальмонта, под влиянием общественного и политического кризиса, создавшего временный всеобщий возврат к реализму и жизни, эти изумительные образы забыты или, что хуже, полузабыты. Наше общественное внимание и вкус, руководимый исключительно мгновенно родившейся модой, как бы отмщая поэту мгновений, с той же легкостью провозглашающий сегодня «все — общественность», завтра «все — эстетика», а послезавтра «все — мистика», склонен считать и эту книгу уже исчерпанной и оставленной позади, забывая, что основное ядро ее не может раздробить молот Времени, что Красота, которая в ней дышит, переживет тысячи возвратов и колебаний настроения культурной толпы...
За временным небывалым подъемом общественного духа в 1904-1905 гг. наступила новая эпоха реакции, и литература снова стала принимать тот же безнадежный вид, как и в эпоху девяностых годов, то есть в эпоху первого зарождения русского символизма.
Опять бессилие реально-политической борьбы вызвало к жизни целые тучи уродливых утопий, неестественно сочетавших «политику» с «мистикой» и «эстетикой». Всякая реакция — расцвет утопий, и вот мы видим, как начинают затемняться самые элементарные вещи и идеи. Создается прочный культ Пинкертона и синематографа. Уродливый мистицизм и мистификаторский оккультизм эпохи французской революции — невинная детская шуточка перед той фантасмагорией, которая охватила русское общество в эпоху реакции вслед за подавлением революции 1905 г.
Поэтому к «эстетике» стали относиться свысока, подчеркивая отсутствие в ней общественности и забывая, что в смешении культа чистой мечты, запредельных ценностей художественного созерцания с реальными общественными задачами момента скрыты затаеннейшие чаяния реакционерок, что подобное смешение одинаково гибельно и для ш-кусства, и для всякой общественности.
С одной стороны, возродилось презрительное отношение к литературе и искусству вообще, с другой — все виды мне гики и религиозных исканий, общественных утопий и (исчисленных друг друга отрицающих пророчеств не имели иозможности выявиться ни в какой иной форме, как исключительно в литературной. От этого «литература» сделалась гпедством и средством, ведущим опять-таки к «литературе». Получился вечный круг, все завертелось в одной фантасмагории; писали и писали, что довольно писать, говорили и шпорили, что будет говорить... И все-таки снова и снова писали и снова говорили. Каждая неделя приносила нового пророка, решающего все вопросы — и оказывавшегося чуть ни по мошенником.
На этой почве и процвел «плакатный символизм» драм Л. Андреева с их мировыми кабаками и бытовым аллегоризмом. Пресса, урезанная в разработке общественных вопросов, с волчьей жадностью набросилась на «модернизм» и превратила его в порнографию.
Этот кризис общественной жизни, этот небывалый упадок литературы под корень подрезал нежные хрупкие цветы лирики Бальмонта. Если внешние условия возникновения и развития ее были неблагоприятны, то теперь они стали решительно невыносимы.
Непризнание, равнодушие, отчужденность можно еще преодолеть, но внезапный переход от исступленного, огульного обожания к вульгаризации, к внутреннему равнодушию, соединенному с внешней формой признания, граничащего с заимствованием, даже плагиатом, — условия, при которых увядает всякое творчество, особенно же романтическое.
Уже в первой книге, написанной после «Будем, как солнце» и озаглавленной «Только любовь», с первых же страниц чувствуется упадок силы творческого воображения, напряженности душевных эмоций, и изламывается, трескается художественная форма.
Еще звучат в первом «Гимне солнцу» пылающие аккорды первых страниц «Будем, как солнце», но они слишком часто перебиваются повторением общих мест.
Все другие отделы этой книги заключают в себе достаточно ярких и утонченных образов, дают бесконечные сочетания и подчас новые формы уже известных нам элементов; сложные напевы, прихотливые размеры, причудливые комбинации ритмических рисунков не позволяют, однако, ни на минуту забыть, что диапазон основных созвучий уже исчерпан, что все эти-«цветные ткани» мы уже когда- то созерцали и трогали, все «очертания снов» нам уже снились, что все проклятия уже шептал нам «Художник-Дьявол», «безрадостность» уже пережита нами в пустынных, снежных равнинах «Тишины», и «мировое кольцо» уже замкнулось многое ранее. И по мере того, как мы начинаем чувствовать намеренность, сугубую искусственность и стилизованность эти страниц, нами овладевает равнодушие и безрадостность.
Между книгами «Будем как солнце» и «Литургия красоты» Бальмонт пишет замечательный сборник «Только любовь». Среди прочих в этом сборнике содержится стихотворение «Безглагольность», анализ которого я хочу провести ниже.
Безглагольность
Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.
Приди на рассвете на склон косогора,—
Над зябкой рекою дымится прохлада,
Чернеет громада застывшего бора,
И сердцу так больно, и сердце не радо.
Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далёко-далёко.
Во всем утомленье — глухое, немое.
Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада,—
Деревья так сумрачно-странно-безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо.
Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило, но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно.
Безглагольность – это боль. Безглагольность – это безмолвие, тихий покой природы. Мы видим, как в этом стихотворении Бальмонт описывает статичное состояние окружающей природы преимущественно существительными – «безвыходность, безгласность, безбрежность…» В стихотворении встречаются синтаксические и смысловые повторы («и сердце не радо», «и плачет, и плачет»), эпитеты («сумрачно-странно-безмолвные деревья», «усталая нежность»), а также метафоры («сердцу больно», «душа не рада»).
В этом стихотворении поэт говорит о своей любимой природе, но говорит с затаенной болью. В чем она причина этой боли? Почему не радует нас и автора красота окружающей природы? «Как будто душа о желанном просила, и сделали ей незаслуженно больно.» Как будто мы ждали чуда, ждали солнца – а получили тишь и гладь безмолвного дня…
Но эта тишь, этот покой, несмотря на кажущиеся несчастье, на самом деле несут исстрадавшейся душе покой и умиротворение.
Следующая книга, носящая претенциозное заглавие «Литургия Красоты», характерна как новая попытка опять вернуться к пантеизму в самой его крайней форме, к культу стихий, к своеобразному стихийному монизму, художественной формой которого теперь делается дифирамб. Сам автор назвал эту книгу книгой «стихийных гимнов», отождествляя поклонение стихиям с литургическим служением.
Но теперь после многократных попыток прозреть покровительство слепых стихий, взойти мистически к первоосновам всего сущего, к созерцанию двух изначальных, величайших Ликов, после глубочайших падений и трагических пыток раздвоении, этот новый призыв к цельности, стихийности и пантеизму звучит надтреснуто-жалко.
«Вся земля моя, и мне дано пройти по ней», эти слова Аполлония Тианского поставил автор эпиграфом «Литургии Красоты»; в первом стихотворении он так говорит о главной задаче:![]()
![]()
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Анализ произведения Вильяма Шекспира "Ромео и Джульетта"
Вильям Шекспир родился 23 апреля 1564 года в небольшом городе Стретфорде-на-Эвоне. Мать писателя принадлежала к оскудевшему дворянскому ро
- Анализ пьесы "Мещанин во дворянстве"
«Поскольку назначение комедии состоит в том, чтобы развлекать людей, исправляя их, я рассудил, что по роду своих занятий я не могу делать
- Анализ пьесы Отстровского "Пучина"
Островский. Пьеса «Пучина»ГероиСразу же обращает на себя внимание подзаголовок пьесы Островского: “Сцены из московской жизни”. Это не
- Анализ работы П. Хлебникова "Крестный отец Кремля"
Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования«Сибирская Академия Государственной С
- Анализ рассказа "Книга" М. Горького из цикла "По Руси"
Сочинение. Анализ рассказа «Книга» М. Горького из цикла «По Руси» (1912-1917гг.)План:1. Жанровая установка.2. Пространство и время.3.
- Анализ рассказа "Трибунал" Л. Усыскина
Анализ рассказа «Трибунал»Петербургский писатель Лев Усыскин – наш современник. Его проза и публицистика не ускользает от внимания кр
- Анализ рассказа А.П. Чехова "Душечка"
Анализ рассказа А.П. Чехова «Душечка».Рассказ «Душечка» был написан А.П. Чеховым в 1899 году. В это время капитализм в России развивается се
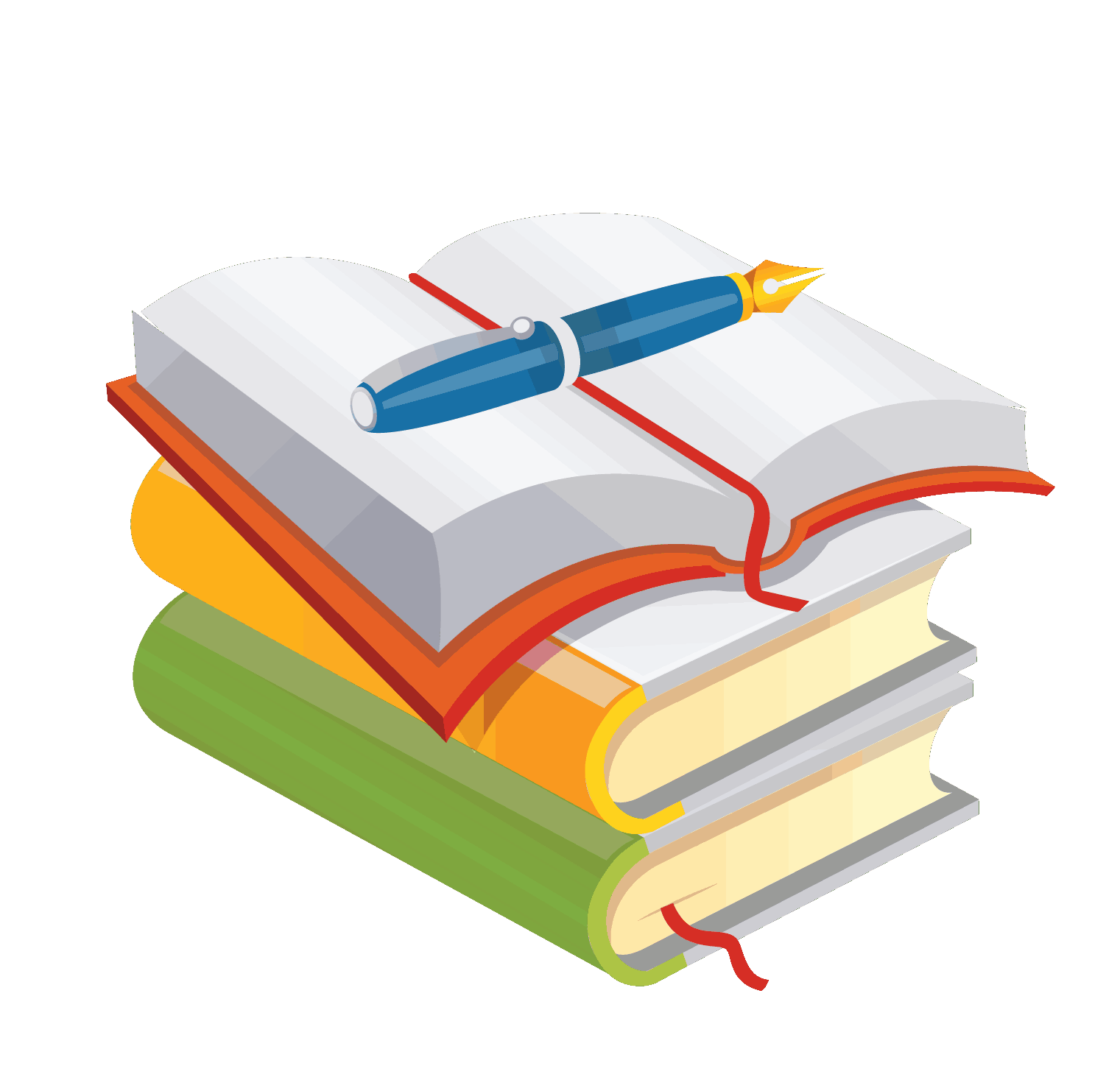 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.