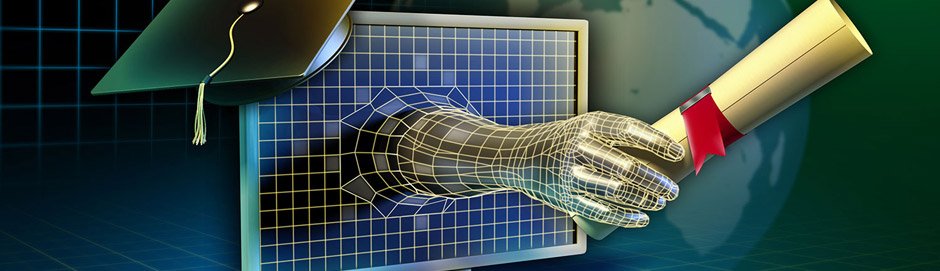Явление классики
Аникин А.А.
Не каждое слово, даже самое употребительное, мы можем легко объяснить, пусть это касается и строгой научной речи. Вот слово классика, с одной стороны, используется уже и младшими школьниками, и профессиональными учеными – в отношении к культуре, а ведь есть и множество вариантов использовать это слово и совсем в иных, бытовых случаях. С другой же стороны, оно не стало еще и отчетливым термином – возможно, из-за непременного пафоса, лирического отношения, которые его сопровождают.
И это лирическое отношение может быть очень различным: и восторженным, и сдержанно величественным, и ядовито-нигилистическим, и безразличным, отдающим скукой и проч. Особенно эти оттенки заметны в школьной среде – с преобладанием негативных интонаций: это следствие того, что называемая взрослыми, учителями, учеными и писателями классической литература воспринимается как некий памятник, а не живое явление. Причем памятник, давно омертвелый в душах… Слишком много накоплено устоявшихся мнений о героях, произведениях Пушкина, Толстого, Чехова, и порой свежесть восприятия теряется за чередой общих мнений. Поэтому иногда для оживления интереса к классике надо отдать должное и всяким острым, пусть несправедливым оценкам – что в "Прогулках с Пушкиным" Андрея Синявского (Абрама Терц), что в брюзжании ядовитого Владимира Набокова, что, скажем, в экранизациях классики или публикации вызывающих, чаще всего ложных псевдо-документов или мемуаров…
Мы бы хотели показать живую жизнь русской классики – без скандальных сенсаций, а только предлагая свежие толкования хрестоматийных произведений. Пусть сама хрестоматийность сыграет освежающую роль, пусть читатель всякий раз, увидев обращение к вдоль и поперек разученному тексту, увидит нечто новое – увидит не застывшие клише, а возможность бесконечного углубления в хорошо знакомые слова.
И для этого нужно обратиться к понятию классика, пояснив его и обозначив предмет нашего разговора и его границы.
* * *
Подобным судьбе живого существа видится развитие фундаментальных явлений в нашей жизни. Рождение, детство, взросление и становление, пора зрелости, старенье, старость и – смерть… Это общий, установленный свыше, не нашей волей, ход вещей. Быть может, самое таинственное – рожденье и смерть – меньше всего открыты для анализа или описания, ведь здесь нет возможности самонаблюдения, да и меньше всего свидетелей… Суть же явления, наверное, полнее всего отражена в период зрелости, расцвета: именно здесь и открывается оправдание всему сущему…
Классика – слово, приложимое к разным сторонам деятельности, но имеющее общий смысл, отраженный еще в латинском первоисточнике: classicus – по-русски значит образцовый. Так говорят обычно о явлениях, лучших в своем роде или, точнее, наиболее полно отразивших сущность тех или иных сторон или даже основ жизни. Это может быть отнесено и к явлениям живой и неживой природы, но особенно – к сфере человеческой деятельности, тоже практически ко всем ее областям: классический покрой одежды, классическая компоновка автомобиля, классические решения в математике, музыкальная классика и т.д.
Так что классика чаще всего соотносима с порой зрелости в эволюции явления того или иного рода.
Считается, что в отношении к литературе это слово было введено в ряд общепринятых понятий римским писателем начала нашей эры Авлом Геллием, автором "Аттических ночей" (Афины, 165-167 г. н. э.), книги с описанием множества культурных достижений древних…
Обычно классическими называют литературные произведения высокого художественного уровня, имеющие мировое и общечеловеческое значение. Это броская, претенциозная и внешне бесспорная позиция. Есть ли, однако, столь объективный критерий, позволяющий говорить об общедоступности гуманитарных, а тем более словесных ценностей для всего человечества? Нет ли здесь такой степени абстрактности, при которой теряется реальное значение того или иного произведения? Объективный критерий естественных областей знания здесь окажется вовсе не общедоступным – этот критерий практической пользы, критерий природных, объективных истин…
"Мировая классика", как ни странно, формируется в достаточной мере субъективно и даже формально. С одной стороны, множество ярких явлений так и остается невостребованными мировым сообществом. Классика культуры вообще сосредоточена вокруг явлений из Европы и Соединенных Штатов Америки – вхождение иных культур в "мировую классику" крайне затруднено и носит лишь эпизодический характер. Это касается как самой известности культурных достижений, так и степени их изученности даже в кругу специалистов. Литературы Африки и Азии практически не входят в кругозор европейца, американца или россиянина, не говоря уже и о том, какой кризис переживает вообще интерес к культуре, если только она не вовлечена в шоу-бизнес. Массовый читатель становится все более отлучен от высоких достижений культуры. Даже гуманитарии призваны самой системой образования ориентироваться в "европоцентричных" явлениях культуры: только этот круг литератур входит в программы высшей школы, с добавлением разве что несистематизированных сведений о некоторых иных. Поэтому в смысле хотя бы одной информированности мировая классика как полновесное явление доступна крайне узкому кругу специалистов, буквально единицам, знающим более-менее полно как литературу отечественную, так и в полном смысле всемирную: литературы подлинно Востока и Запада, Севера и Юга… Невозможно описывать явление, в целости своей никому не известное! Абстракция мировой классики едва ли становится прочной почвой для живого ума…
С другой стороны, отбор в ряды мировой классики строится во многом формально: с точки зрения развития исключительно словесной техники. Поэтому в ряд мировых явлений попадает часто то, что совершенно не востребовано в почвенном, отечественном восприятии. Можно говорить о мировой известности, скажем, "Черного квадрата" К.Малевича или башни Татлина, но явления эти, по-своему классические, ничего не говорят в поле народной русской культуры. Часто аномалии отечественной культуры и называются мировой классикой – классикой отдельных эстетических школ…
И наоборот, явления безоговорочно классические для национальной культуры могут в мировом контексте быть недооцененными. Таков, прежде всего, русский Пушкин! Да и вся русская классика до середины 19 столетия: Грибоедов, Лермонтов, Гоголь… Нужны специальные усилия, чтобы классические национальные произведения входили бы в призрачную когорту мировой классики. Так, скажем древнерусское искусство, литература в том числе, лишь совсем недавно стала восприниматься как мировая сокровищница, в то время как европейские современники Андрея Рублева (15 в.) или митрополита Илариона (11 в.) однозначно оценивались как мировая классика: "Песнь о Роланде", Боккаччо, Вийон, Петрарка, Чосер, Донателло, Брунеллески, - "привычные" классики средних веков... Русская культура вообще с заметным опозданием проникает в мировую классику, впрочем, как и культуры большинства народов мира…
В понятии "мировая классика" скорее фиксируется такое значение слова классический: образец явления, но без того ценностного оттенка, который передает значение "первоклассный". Тогда может быть и классическая ошибка, и классические проявления болезни, и классика в преступлениях и разврате… В великом же словаре В.И.Даля классик определяется как "каждый писатель или художник, признанный общественным мнением "классическим", превосходным, примерным, образцовым". Здесь подчеркивается именно ценностный акцент, вероятно, это и вполне соответствует русскому взгляду на вещи.
Из всего этого сделаем тот вывод, что понятие классики в первую очередь должно восприниматься как характеристика национальной культуры, только внутри национальной культуры выделение классики поддается анализу и достаточно полному описанию. Есть некая абстракция мировой классики, возможно, только складывающееся наднациональное единство, и есть подлинно живая область классики отечественной, а вероятно, и даже сугубо этнической: китайская и японская классика, английская, французская, немецкая, классика африканских народов… И, конечно, русская классика – то, что нам гораздо доступнее, то, что воспринимается нами как родное по духу явление, вошедшее в нашу народную и даже генетическую память. И прекрасно: многоцветие культур ничуть не в ущерб жизни человечества, наоборот, свидетельство полноты развития.
Особо следует выделить словесное искусство, все основанное на почве языка – явления сугубо национального. Язык – это не только форма общения, но и сам способ восприятия мира, отражающий исторический опыт нации. Нации – это прежде всего языки, поэтому слова эти в древности были синонимами: "И назовет всяк сущий в ней язык", - говорится у Пушкина…
Слово исключительно национально… А абстракция мировой культуры питается ведь не чем иным, как переводами… Это важная, многотрудная область, но не стоит лишний раз доказывать, что переводное произведение это, скорее, лишь изложение оригинала, здесь нет не только неповторимого колорита подлинника, но - часто и нет уверенности в глубоком соответствии с оригиналом. Принять к сведению перевод можно, можно даже увлечься переводом, но никогда нельзя с уверенностью делать выводы о значении оригинала.
Итак, в качестве конкретного явления жизни классика культуры может быть только национальной.
Далее, какой массив в национальной культуре мы воспринимаем как классику? Здесь тоже есть несколько условностей и ограничений.
Национальная культура проходит ряд фаз своего развития.
Самым общим представлением будет, скажем так, избранное, лучшее или самое значимое в культурной истории. И это вполне оправданный подход. Тогда к литературной русской классике мы отнесем и "Слово о полку Игореве", и "Слово о Законе и Благодати", и "Слово о погибели Земли Русской" - и так до лучшей литературы наших дней, до 21 столетия, ведь лучшее есть всегда, пока жива культура. Такое собирание классики и ее исследование было бы очень важной просветительской задачей. Но и на этом пути не избежать множества оговорок, ограничений и, в конце концов, – споров: отнести ли к классике, скажем, повесть о Ерше Ершовиче или "Шемякин суд"? А что критик 21 столетия посчитает лучшим у Ломоносова или Тредиаковского, будет ли сейчас ощущаться непреложная ценность Сумарокова или Озерова? Совсем трудно соблюсти объективность в литературе современной, в советский период: есть безоговорочные ценности, но сколько произведений расположено, скажем так, в приграничной полосе?
Само по себе лучшее окажется и очень неоднородным, а между произведениями будут лежать громадные временные промежутки, сам язык такой классики будет различен, что будет напоминать нынешние отличия между отдельными славянскими языками… И тогда в этой классике будет нужно выделить свои периоды становления, что вернет все просто к истории литературы, а не собственно классики.
Было бы правильным дать некий ограничитель в толкованиях о классике.
Может быть классика – своего времени: классика в литературе 18 столетия и в литературе века 20-го, то, что не будет отнесено к вневременным ценностям. Что поделаешь, если сама поэтика, предположим "Слова о полку Игореве" воспринимается более живо, чем строй литературы 18 века? Каждому культурному человеку доступна красота и совершенство "Слова", но только редкий читатель может погрузиться в мир ломоносовских од, "Телемахиды" Тредиаковского, даже и радищевского "Путешествия из Петербурга в Москву"… Даже Карамзин, с его "Бедной Лизой", воспринимается как исключительно литературный этап, оставшийся в прошлом и потерявший свойства живого слова…
То же можно сказать и о близлежащей литературе – о советском периоде. Полное перевоплощение в мир Маяковского кажется уже невозможным – по привязанности к духу ушедшего времени. Описание скачущей тройки сейчас воспринимается более живо, чем рассказ о людях Кузнецка, дух литературной борьбы, столь явный у Маяковского, требует уже сугубо исторического комментария… Но что-то иное войдет и от Маяковского в русскую вечную классику. С другой же стороны, гораздо шире можно представить понятие советская классика: образцовые в своем роде произведения, которые… которые едва ли кто и упомнит, кроме специалистов-историков: достаточно упомянуть классическую советскую лениниану, великолепно написанную, но в большинстве своем просто умершую для живой жизни (Н.Погодин, В.Катаев, М.Зощенко, Э.Казакевич и др.)…
Так что ничуть не менее проблематично классическое измерение и для многих современников Маяковского и всей советской эпохи. Безусловно место Горького, Есенина, А.Толстого, Шолохова, Булгакова, Фадеева, Леонова, Пришвина (да и то, если только пренебрегать конъюнктурными оценками). Но как быть с Вс. Ивановым и Вл. Луговским? И. Сельвинским и Ф. Панферовым? А. Афиногеновым и С. Клычковым?
И такая же противоречивая картина в восприятии так называемого серебряного века: от категорического превознесения до уровня классики до такого же резкого неприятия…
Другое дело, что почти безоговорочно в нашем сознании пребывают такие понятия, как классика советской эпохи или – классика серебряного века… Тогда бесспорно классиками своего времени будут и Ф.Сологуб, и З.Гиппиус, и В.Брюсов, и Д.Мережковский, не говоря уже о И.Бунине, А.Куприне, Л.Андрееве, более близких золотому столетию…
Все так, и поэтому рассмотрению русской классики надо бы придать иной поворот – дальше от вкусовых пристрастий, пропаганды и иной злобы дня. Но и не уходить в сторону от проблемы: мол, у каждого времени – своя классика…
Классику саму следует рассматривать как определенный период в развитии русской литературы - на протяжении уже почти тысячелетней истории и эволюции русской словесности в целом..
И здесь вернемся к тому, что классика – это явление периода зрелости словесной культуры, на фоне становления, распада, колебаний и других фаз развития. Ведь и о личности человека мы судим в период его зрелости – прежде всего.
Итак, классика – это явление эволюционное и историческое, а одновременно и ценностное.
Народное самосознание, как и само явление народной общности, проходит ряд ступеней в своем развитии, и классикой культуры следует считать тот уровень, который наиболее полно раскрывает национальный образ мира. Причем речь идет о такой стороне национального бытия, которая и прежде и ныне доступна разным сословиям, сближает классы и группы. Если есть сомнения в существовании таких ценностей, то назовем самую наглядную – сам язык, само слово, ведь именно в языке народа сказывается весь его духовный опыт, от состава лексики до более общих сторон грамматики. Шесть падежей объединяют наш народ или система двух чисел, как раньше объединяли отжившие нормы – двойственное число, звательный падеж, многообразные глагольные формы, понятные ныне только специалисту по древности: аорист, имперфект, плюсквамперфект…
Или еще одна столь же объективная общенародная ценность – вера. Вспомним фрагмент из "Войны и мира" Л.Толстого, молитву в церкви Разумовских, чтобы понять, как близко должно было быть народу обращение к Богу и у Пушкина, и у Лермонтова, Достоевского, самого Толстого, - это и есть сфера литературной классики, обращение к общенародным ценностям:
"Дьякон вышел на амвон, выправил, широко отставив большой палец, свои длинные волосы из-под стихаря и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова молитвы:
- "Миром Господу помолимся".
"Миром, все вместе без различия сословий, без вражды, а соединенные братскою любовью – будем молиться", - думала Наташа.
- "О свышнем мире и о спасении душ наших!"
"О мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами", - молилась Наташа."
Вот такими мотивами, объединяющими нацию, и жива классика…
Явление классики не может восприниматься в ущерб предыдущим стадиям, которые должны вызывать ничуть не меньшее уважение, но – может быть, не столь же живой интерес, как классика. Важное свойство классики – способность в длительном историческом промежутке воспроизводить свои достижения на новых уровнях. Больше того, массив классики и даже ее хронологические границы самым естественным образом фиксируются в народном сознании, не нуждаясь в предварительном обосновании. То есть это явление вполне органичное, и Пушкин, допустим, вошел в нашу память как классик литературы не потому, что это выведено критиками или иными идеологами, наоборот, научная оценка здесь идет следом за мнением народным, вполне ему доверяя и не претендуя на руководство.
Объективный здесь критерий – это соответствие развития литературы развитию языка: велик и великолепен язык Древней Руси или 18 столетия, но именно параллельно с Пушкиным и благодаря Пушкину русский язык принял свою литературную норму, актуальную и до сих пор. Язык Пушкина – это классический язык нашего Отечества, и уже потому литература, заговорившая именно на этом языке, является русской классикой. Язык на вершине своего развития заложен в основу классической литературы. Классическая литература отражает всю полноту развития языка.
Не всегда можно с абсолютной точностью дать хронологические рамки историческому процессу в области культуры. Да это и не нужно, ведь здесь выдвигаются иные, качественные вехи. Можно было бы ограничиться и такой из них: русская классика как уже состоявшееся явление берет свои истоки в произведениях зрелого Пушкина, это приблизительно начало 1820-х годов.
Образец русской классики мы бы видели в таких стихах 1820-го года, как "Погасло дневное светило" и "Редеет облаков летучая гряда": после этих строк уже невозможно было представить какое-то иное развитие русского слова.
Здесь видится образец свободной гармонии в передаче душевного состояния.
В содержании здесь заложено самое широкое восприятие жизни: от картины бесконечного космоса до частностей личной, едва ли не бытовой жизни. Весь мир открыт для поэта, для перевоплощения в словесные образы:
Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан…
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило…
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой…
Удивительные по смысловой и образной точности выражения составляют ткань этого стиха, где нет слова лишнего или случайного, пришедшего не от внутреннего смысла стиха, а от требований какой-то поэтической школы или жанра. Ветрило – послушное, мечта – знакомая, обман – томительный, океан – угрюмый, младость – потерянная: удивительная глубина и свежесть эпитетов, при таком их изобилии и сгущении… Так и складывается высокое единство содержания и его словесного воплощения – признак состоявшегося, классического произведения.
Даже уже сложившиеся черты элегии у Пушкина воспринимаются как что-то свежее, лишенное присутствия школы – в силу сочетания поэтической техники и глубины смысла.
И поразительное чувство свободы, которое проникает во все черты произведения: от выражения мысли до – самой техники стиха. Нет никакой канонической строфики, привычных четверостиший и прочего, нет строгого соблюдения размерности строк – и какая внутренняя гармония: строфы не нужны в этом плавном и сильно потоке переживаний, длинные строки (в 12-13 слогов) так естественно перемежаются с короткими (8-9 слогов): многозначительно звучат эти паузы… Рифма – то кольцевая, то перекрестная, словом, вновь свободная… Качество рифмовки – естественность и неназойливость. Емкие повторы строк – в начале, середине и конце стихов, что создает образ живой гармонии, причем повторяются строки самые выразительные. Словом, структура текста одновременно необычайно выразительная и прозрачная, отчетливая и безыскусная…
Слово этого стихотворения тоже отвечает принципам гармонии, глубины и свободы. Лексика торжественна, но без помпезности, строй ее высок, однако здесь нет переизбытка, нет поэтических шаблонов или экзальтации, как в былых образцах жанра. Элегия вырастает из слова общепринятого, народного в самом высоком смысле. Это возвышающая, а не опрощающая народность. Ничуть не выпадают из речи слова с оттенком архаики: стремлюся, отечески края, подруги тайные моей весны златыя – все это прекрасно передает налет древности или вечности содержательных мотивов стихов, это не архаика формы, а тонкая инструментовка, легко доступная и для восприятия в 21 веке…
Стихи – гармоничная, красивая, насыщенная смыслом речь, объявшая собою весь космос. Качества русской классики: у м, г л у б и н а и я с н о с т ь!
И необычайно одухотворенное содержание: слияние лирического состояния с величием живого бытия, широчайшие координаты поэтического сознания – стихии творчества, любовных чувств, переживания природы и чувства к родине, медитативное состояние самонаблюдения, обращение к мотивам времени и судьбы… Поистине, голос поэта – голос самого бытия Божьего. Все это заложено в такой небольшой по объему фрагмент, все это так или иначе отражает и постоянство содержания русской классики.
Стихи эти были положены на музыку. С появлением таких стихов литература уже не могла потерять подобную высоту достижения, она вступила в период зрелости, в период классики.
И Пушкин это первый доказал всем своим последующим творчеством.
Так что от Пушкина берет начало наша классика, да, Пушкин наше все, по слову поэта и критика Аполлона Григорьева: пушкинское отношение к слову станет образцом для плеяды его современников и последователей, для писателей и уже иного поколения – вплоть до Толстого и Чехова. А позже – и для классики в 20-м столетии…
Где хронологически завершается период классики?
С одной стороны, классика не отошла в прошлое и поныне, по крайней мере, пока жива пушкинская традиция, пока живы и русские классики 20-го века… Но историческая фаза уже иная…
И золотой век классики имеет границу – рубеж 19 и 20 столетий, когда литература переживает иногда скрытый отход от Пушкина, а иногда откровенный, как бунт: именно Пушкина пытаются сбросить с парохода современности, именно русские классики представляются в образе творцов враждебной народу, буржуазной культуры, а само слово будто окончательно порывает с традицией, да и с народностью:
Дыр бул щыл
убещур
вы со бо ро, -
вот каким набором странных звуков, лишенных всякого смысла встретила литература новый век, причем подчеркнуто противопоставляя это именно Пушкину. Автор этих заумных звуков Алексей Крученых заявляет, что именно здесь больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина… Последняя оценка – явная провокация, но и без этого в явлениях искусства рубежа веков видится попытка разрушить саму первооснову классики – русское слово, заменив его нелепым звуковым комплексом. О содержании стиха не приходится говорить: его попросту нет, это своего рода аналог черному квадрату. Или – в ином ракурсе – можно говорить о том, что в качестве антитезы классике выдвигается полное смещение гармонии формы и содержания, а в конце концов – разрушение гармонии как таковой, отвращение к смыслу, разрушение космоса, потеря моральной системы, смешение света и тьмы, Бога и дьявола… Пушкинский Божественный глагол вытеснен речевым беснованием – вот качественная граница периода торжества русской классики, золотого столетия.
Так русская классика пережила первое потрясение, которое было преодолено лишь где-то к концу 1920-х годов, с появлением "Тихого Дона", прежде всего. Снова: после Шолохова, Булгакова, Фадеева, Леонова всякий декаданс сошел на нет. Пушкинское величие было восстановлено. Вот и Булгаков в "Мастере и Маргарите" изобразил злобствующего бездаря, поэта Рюхина, недоумевающего в припадке истерики: что такого великого сделал Пушкин, повезло, повезло… Рюхин – персонаж уже уходящей эпохи крушения классики… Триумфальные торжества 1937-го года, к столетию смерти Пушкина, сопровожденные выдающимися достижениями как в литературе, так и в деле изучения и издания классического наследия, ознаменовало возвращение к классике – уже в веке 20-м.
Это значит, что классика – не отошедший в прошлое этап литературы, но после потрясения на рубеже веков литература все же вступила уже в новую фазу эволюции. Возвращение к классике – это не прямое ее продолжение, это новый опыт, новый этап. Поэтому и рамки классики золотого века надо мерить именно от Пушкина до Чехова. Уровень, черты литературы этого периода следует признать образцовыми, классическими, и они будут "воспроизводиться" в дальнейшем, возвращая и возвращая к сложившейся традиции. Да, "золотой век" создал традицию, что для эволюции имеет первостепенное значение, причем традицию живую, ощутимую на протяжении веков. И в конце концов полное право литератора – принимать ее или торить иные русла. Хочешь быть классиком – будь им…
Ведущие черты творчества остались неколебимыми – от Пушкина до классиков 20-го века – Шолохова, Булгакова, Леонова, Твардовского, а затем продолжены писателями уже нового и даже ныне живущего поколения: пушкинская традиция в толковании и сути творчества определенно наследована Шукшиным, Распутиным, Беловым, Е.Носовым, Рубцовым и многими другими авторами конца столетия, авторами и 21 века. И все же с точки зрения эволюции, это уже новая стадия, а не продолжение прежней…
Надо ли связывать понятие о классике с определенным творческим методом, будет ли классика синонимом русского реализма? Во многом, действительно, это так: реализм наиболее полно отражает русское восприятие мира, наиболее востребован в народе, составляет, как теперь уже ясно, не отдельный период литературы, а ее вечную ценность. Сейчас не пишут в духе и манере сентиментализма или классицизма, от романтизма тоже литература явно ушла, усвоив только некоторые стилевые особенности, а реализм живет и будет жить.
Но когда мы вспоминаем крылатое слово русского священника, ученого, философа Павла Флоренского "искусство для нас одно – реализм", то здесь подразумевается не сама техника реалистического метода, а направленность творчества на реальность, на постижение Божьего мира, утверждение бытия как высшей ценности, в том числе и эстетической. Только в таком смысле реализм, действительно, синоним русской классики.
Но как много стилевых потоков соединяет этот реализм… Сюда ведь мы отнесем и необычайный гротеск Щедрина, и фантастическое у Гоголя, и романтические картины у Пушкина и Лермонтова… Сюда следует отнести и творчество многих писателей серебряного века: Блок в этом смысле безусловный реалист и классик в лучших своих произведениях, как и Есенин, и Маяковский, Заболоцкий и тот же Булгаков… Дальше мы увидим, что в основных своих проявлениях, в сути творчества писатели самых разных индивидуальностей, получившие художественный опыт и далеких от классики, узких эстетических направлений принадлежат именно к тому типу писателя, к тому творческому потоку, который порой интуитивно, без видимой рациональности мы называем русскими классиками. Так что классика – понятие более широкое, чем сам творческий метод "реализм", с присущими только ему стилевыми чертами. Вообще классика будет объединена скорее духовными, чем сугубо художественными чертами: так и сам художник может в своем творчестве пользоваться разными методами при общей духовной основе.
Заложенные Пушкиным принципы классически русского творчества окажутся удивительно близки и символисту Блоку, и имажинисту Есенину, и футуристу Маяковскому, хотя в каждом из названных течений наблюдалось и видимое отторжение от традиции, от реализма и даже именно от Пушкина – преодоленное впоследствии. Но это будет уже история русской классики следующего этапа – за золотым веком. Духовное родство с Пушкиным стало наиболее ощутимым в зрелом творчестве этих поэтов, что и послужило залогом возврата литературы в классическое русло.
Классикой называют то, что остается живым культурным явлением, несмотря на давно ушедшие в прошлое отдельные формы жизни. Чистый дух нации остается вечен…
К произведениям классики издаются полезнейшие исторические комментарии, но вот чудо: комментарии лишь углубляют понимание текста, но в основе-то своей он остается и без этого живым и понятным. Так умели классики привлекать в свои произведения реалистические детали, что они говорят сами за себя: читая, мы словно переживаем и дуэль, и светский бал, и масонские ритуалы, и жизнь крепостного раба, и удаль скачущего гусара, уже никогда не пережив этого в своей судьбе… Истинная магия русской классики! Русского широкого реализма…
Есть и своя полоса "пост-классической" инерции, когда пора расцвета классики уже пройдена, но внешне литература движется проторенным классикой путем реализма, только с каким-то оттенком оскудения, словно блеск былого уже утрачен, идут более бледные фигуры, завершающие процессию. Это по-своему хорошая и интересная литература, но просто масштаб не тот, обобщения не так значительны, робки и несвободны, ощущение художественной истины сменяется куда менее отчетливым пафосом. Литература словно замерла перед обновленным возвращением к состоянию классики, и верные традиции реализма как бы не дают угаснуть слову под наплывом разрушительных, декадансских явлений. Такова достойная роль И.Бунина, В.Короленко и А.Куприна, но уже идущие рядом М.Горький, В.Маяковский, А.Блок несут признаки наплыва новой энергии в продолжении не собственно реалистической, но единой классической линии.
Наконец нельзя не сказать и такую простую вещь: классика и в своем времени окружена разнородными литературными явлениями, ориентированными на классику, но не достигшими этого уровня. Здесь есть писатели классической школы, но с меньшей глубиной таланта или просто меньшим масштабом творчества. Часто это даже друзья классиков: Баратынский, Веневитинов, Вяземский, Языков… Велик слой литераторов и совсем малозаметных, хоть по-своему интересных. А есть всегда и множество графоманов, литературных трюкачей и забавников… ЛитерТеперь, определив временные рамки классики, рассмотрим некоторые ее содержательные основы как с точки зрения художественности, так и в качестве реальных черт литературной ситуации: образ писателя-классика и его деятельности.
На этом и сосредоточимся... Всякая эпоха создает определенный образ писателя. Это может быть и отрешенный от суетности, бесстрастный наблюдатель жизни. Это может быть эстет, упивающийся красотами чистого искусства. Это может быть пропагандист определенных групповых интересов, служитель власти или какой-либо социальной группы. Может быть авантюрист, стремящийся к вхождению в высшие слои общества или играющий образ своего рода хитроумного шута. В центр литературной деятельности может быть отнесен исключительно денежный расчет, выгодность предприятия. А может быть и смирившийся со своей невостребованностью средней руки литератор, живущий только самим воздухом литературной среды, писательскими встречами, взаимной поддержкой… Литература может служить способом психической разрядки, изживания каких-либо болезненных комплексов личности. Это может быть бескорыстное философствование наедине с собою и листом бумаги… Это может быть и настоящее психическое заболевание, неотрывная тяга к перу при полном невладении словом, непонимании манящего поприща… Вообще не счесть разных обликов, в которые может превращаться писательская деятельность. Порой же мы видим синтез этих разных положений, их совмещение, когда как бы одно не противоречит другому: психическая разрядка может принимать и вид правдоискательства, и пропаганды идей, и даже включаться в способы карьерного продвижения…
Думается, читатель ни в одном из наскоро перечисленных типов не увидел воплощение писателя русской классической традиции.
Лучше всего о характере писателя говорят сами поэтические строки… Так, в русской классике одной из ведущих тем становится именно тема поэта и поэзии. И здесь в Пушкине вновь мы найдем первоисточник, определивший до конца золотого века место литературы и писателя в русской жизни. И пусть главные черты скажутся в самих пушкинских строках.
Для русской классики прежде всего характерно возвышенное и исполненное благодарности отношение к бытию, в котором видится воплощение Божественной гармонии и разума. При этом никогда не будет успокоенной, простоватой идиллии, словно в мире нет противоречий, темных сторон, нет борьбы зла и добра, Бога и дьявола. Поэтому для демонстрации этих свойств можно предложить пушкинское стихотворение "Ангел" (1827), где дана такая ясная картина борьбы двух сил:
В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.
Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И дар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.
"Прости, он рек, тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не все я в небе ненавидел,
Не все я в мире презирал".
Кажется, демон здесь показан более ярко и энергично, в нем сильно начало действия, воли, что будет всегда заметно в мотивах русской классики, насыщенных переживаниями человеческого порока, падения. Особенно это ярко у Лермонтова, Достоевского и Щедрина, углубившихся в бездны порока, падения личности… Отрицательный герой не только не вытеснен из круга классики, а наоборот, показан со всей полнотой художественной силы. Возможно, это даже количественно преобладающая сторона русской литературы. Но зло повержено самим присутствием олицетворенного добра…
В этих стихах Пушкина есть отчетливая перекличка с более ранним стихотворением – "Демон" (1823), где дьявол видится средоточием отрицания в мире красоты и значения: "И ничего во всей природе // Благословить он не хотел". Теперь само отрицание пошатнулось, теперь жизнь принята уже как великое, Божие творение. И если таков сам поверженный демон, то как же свойственно человеку любить жизнь и никогда не отворачиваться от любых ее проявлений, несмотря на периоды сомнений и поражений:
О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить люблю, я жить хочу,
Душа не вовсе охладела,
Утратя молодость свою, -
так звучат одни из последних написанных Пушкиным строк, часть его поэтического завещания – из стихов 1836 года…
Так что русская классика живет этим мотивом веры в прекрасное, в смысл и значение бытия. К л а с с и к а глубоко г у м а н и с т и ч н а. Здесь и православные корни ее духовного содержания.
Любовь к жизни, любовь к человеку становятся не просто утверждением, а открывают самое напряженное поле борьбы: Раскольникову, как чудо, неожиданно. после упорствования в нелепых и грязных мыслях, явится это чувство… Так же и Пьер Безухов вдруг среди мерзостей французского плена обнаружит источник любви к жизни - в словах убогого солдата Каратаева… Так на последнем издыхании проклинает свою непотребную жизнь Иудушка Головлев… Демон – повержен…
Поэт становится носителем истины о мире, раскрытой через высшее озарение, через слово Божие. В этом смысл пушкинского "Пророка", где что ни строка, то набросок судьбы поэта:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, -
таково непросветленное, обыденное состояние человека в этом мире… Но откровение истины преображает всю личность, которой теперь открыт космос, большой Божий мир:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
Да, стих этот звучит подчеркнуто торжественно и величаво, но тому соответствует величие смысла: нам открыто и небо, и долы, и морские пучины, нам открыт весь большой мир в пространстве и во времени… В этом познании бытия – открытие пути человека, залог смысла его жизни. Но поэтом его делает не только это широчайшее восприятие бытия, а пророческое обращение к людям: само состояние любования и познания мира еще не соответствует назначению поэта, поэтому:
"Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обхо
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Стилевые особенности знаменного пения
- Музыкальная культура Киевской Руси
Владышевская Т. Ф. Объединение восточнославянских племен привело к образованию мощного государства со столицей в Киеве, по своим размер
- Крито-микенское искусство, III—II тыс. до н. э.
- Культура Китая
- Образ Богоматери с Младенцем в древнерусском лицевом шитье. Богоматерь «Одигитрия»
"Путеводительница" Божукова О. А. Константинопольская икона Божией Матери "Одигитрия" была главной богородичной иконой византийского ми
- Духовно-нравственный анализ музыки
- Музыкальная эстетика античного периода
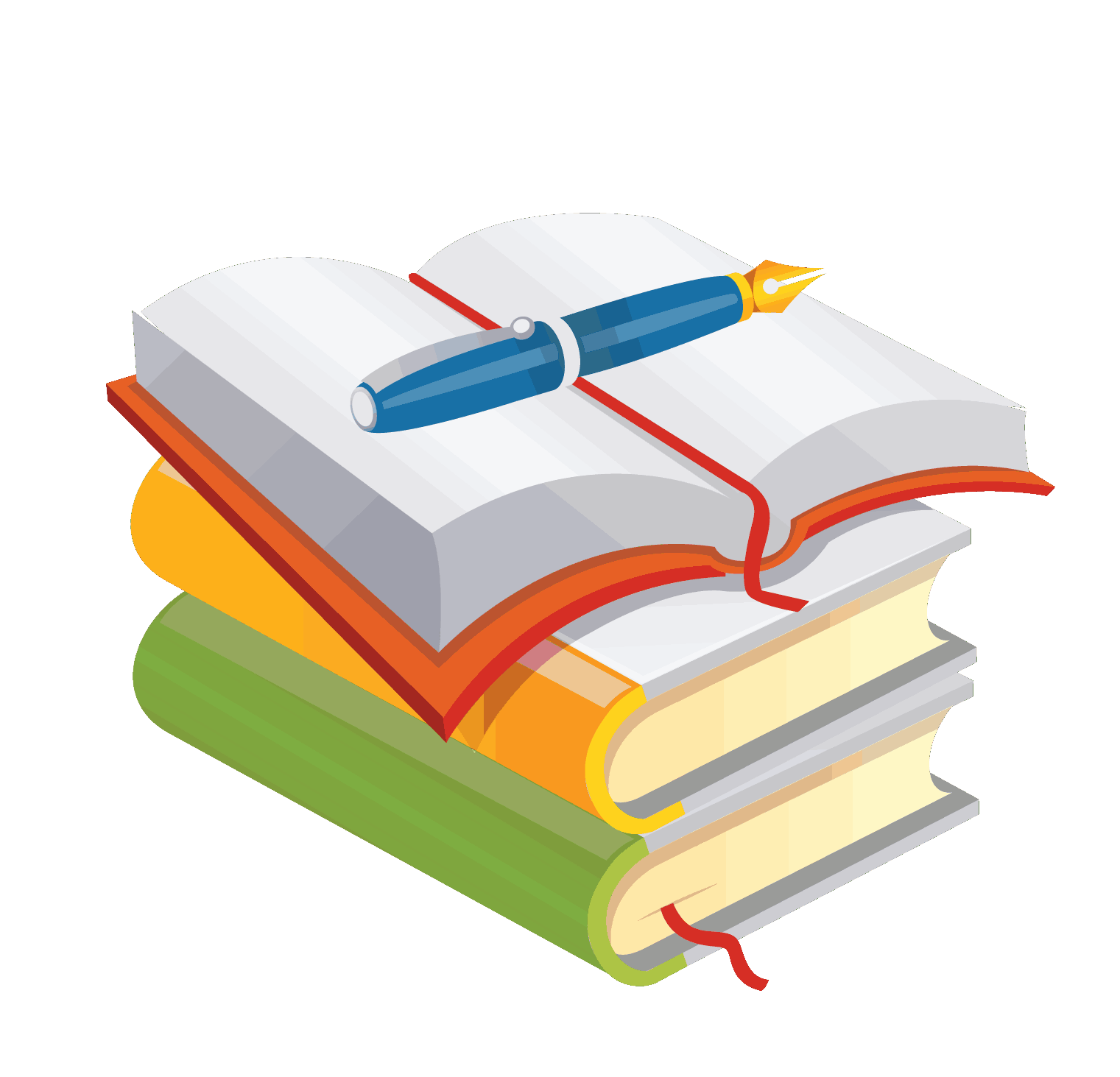 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.