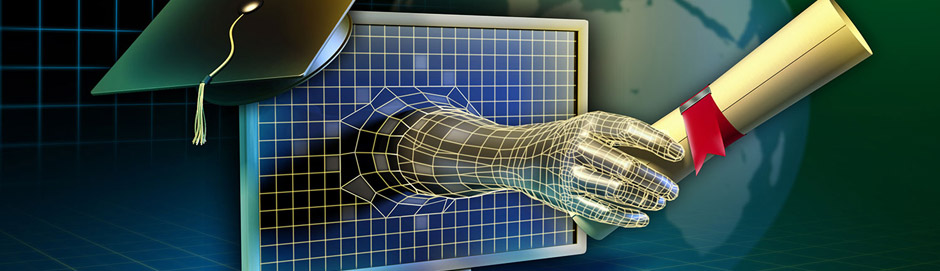Фигура повтора: философ Николай Федоров и его литературные прототипы
М. Эпштейн
“Писчая страсть — точка соприкосновения Мышкина и Башмачкина, от которой оба героя движутся в противоположные стороны... Ужасающий своим убожеством гоголевский персонаж оборачивается (в духе тыняновского “пародийного выверта”) трагически возвышенной фигурой князя Мышкина; ограниченный и жалкий человечек, никому не нужная жертва предстает одним из тех “нищих духом”, которые и составляют “соль земли”... Вряд ли в какой-либо другой литературе мира так коротка дистанция между ее полюсами, между самым ничтожным и самым величественным ее героями, которые представляют здесь, по сути, вариацию одного типа”1.
Мы рассмотрим далее метаморфозу этого важного для русской культуры типа убогого праведника, переписчика-спасителя — типа, который перерастает собственно литературные рамки и обретает черты исторической личности. Обычно говорят о жизненных прототипах того или иного литературного персонажа. Но бывает и наоборот: реальное лицо, прежде чем зажить самостоятельной жизнью, как бы проходит основательную проработку в литературе, составляется из элементов воображения — и потом уже отделяется от своего художественного прототипа и вступает в историю. Литературная основа, как правило, легко проступает в таких исторических лицах: не успев умереть, они уже становятся мифом, — подобно тому, как были персонажами, еще не успев по-настоящему родиться.
Казалось бы, что может быть общего между Николаем Федоровичем Федоровым (1829—1903), великим мыслителем, родоначальником русского космизма, — и Акакием Акакиевичем Башмачкиным (1790—1830-е?), самым маленьким из “маленьких людей” русской литературы? Федоров задал масштаб космическим дерзаниям и теургическим опытам ХХ столетия, а может быть, и третьего тысячелетия. Победа над смертью, воскрешение “праха отцов”, овладение силами природы, расселение человечества по всей вселенной... Башмачкин же своими подслеповатыми глазами мало что видел дальше своей потертой шинели и редко произносил что-нибудь более вразумительное, чем “это, право, совершенно того”, — ничтожный чиновник, переписчик чужих бумаг, “существо... никому не дорогое, ни для кого не интересное”... С одной стороны, всеохватная “философия общего дела”, с другой — “этаково-то дело этакое” (один из любимых оборотов Акакия Акакиевича).
И тем не менее есть множество черточек, по видимости мелких и случайных, которые символически связывают великана и лилипута, а может быть, образуют и историческую преемственность одного типа, условно говоря, “переписчика”, который в своем восхождении становится “воскресителем”. Общее между ними — фигура повтора, столь значимая для русской культуры, которая и в XIX веке сохраняет черты средневековой “эстетики тождества” (термин Ю. М. Лотмана). Воскрешать — значит переписывать “во плоти”, воспроизводить уже не символические начертания мыслей, а телесное бытие людей. Мы рассмотрим “повторы”, окружающие фигуру мыслителя-пророка Н. Федорова, в нескольких планах: имя и запечатленное в нем отношение к предкам; культурно-бытовой этикет мыслителя по отношению к его литературным прототипам; “общее дело” воскрешения в связи с делом переписчика и библиотекаря; оживление мертвецов у Федорова и Гоголя и его демонический подтекст...
Данная статья только набрасывает эскизно те мотивы, которые, по сути, требуют гораздо более обстоятельного изложения. Хотелось бы особо подчеркнуть, что, рассматривая историческое лицо в ряду вымышленных персонажей, мы нисколько не принижаем его, а лишь пытаемся обнаружить общие культурные слагаемые “реальности” и “литературы”. В этом смысле литературоведческий подход к историческим деятелям ничуть не менее этически оправдан, чем выведение их как персонажей в литературном произведении.
* * *
В самом имени Николая Федоровича Федорова бросается в глаза двоение отчества-фамилии. Для Акакия Акакиевича не нашлось подходящего имени в святцах — пришлось дать ему имя отца. Для Николая Федоровича не нашлось фамилии и даже отчества, поскольку он был незаконнорожденным сыном князя Павла Ивановича Гагарина. Неизвестно даже в точности, чье имя, какого Федора или Федорова, повторилось в отчестве и фамилии Николая Федоровича Федорова: крестившего его священника Николая Федорова или крестного отца Федора Карловича Белявского?2 То ли фамилия священника удвоилась в отчестве, то ли имя крестного отца удвоилось в фамилии, но в любом случае механический повтор заполнил пустующее место родного, отцовского имени и фамилии.
Этот повтор вписан не только в имя, но и в профессию и в мировоззрение Башмачкина и Федорова. Башмачкин — переписчик, он буква в букву воспроизводит те бумаги, которые ложатся к нему на стол. Федоров — воскреситель, посвятивший себя делу восстановления предков кровинка в кровинку в той же самой плоти, в какой они родились и умерли. Да и в мирской своей профессии, как библиотекарь при читальном зале Румянцевского музея, Федоров радел о сбережении и собирании всех букв, которые когда-либо вывела человеческая рука, и особое значение придавал карточке-аннотации. “Предсказывая разрушение, уничтожение, гибель книг, карточки не могут быть средством спасения их от такой гибели, но сами имеют больше шансов, чем книги, пережить разрушительную эпоху; если книги и погибнут, карточки останутся и дадут возможность вызвать из забвения то сочинение, к которому относятся, возвратить его к жизни”3.
И Башмачкин, и Федоров не просто служили при буквах, но всей душой погружались в их идеально-фантастический мир, отдавались письменам и по долгу, и по любви. Акакий Акакиевич даже на досуге не находил ничего лучшего, как переписывать бумаги, и воображению его преподносились формы дорогих букв столь ярко, будто отпечатывались у него на лице. Николай Федорович усматривал в письме основу цивилизации и резко критиковал скоропись, стенографию, все похотливые формы письма, характерные для торопливого века прогресса (XIX-го). Влюбленный в красоту букв независимо от их смысла, он отстаивал самоценность медленного письма как священнодействия:
“Занимаясь формами букв, буквально — буквоедством, эта наука (палеография) пользуется большим презрением у некоторых прогрессистов, а между тем формы букв говорят гораздо более слов, искреннее их; формы букв неподкупнее слов... Именно буквоедство и дает палеографии возможность определять характер эпох... Буквы готические и уставные, выводимые с глубоким благоговением, с любовью, даже с наслаждением, исполняемые как художественная работа, как молитва... эти люди, переписчики, чаявшие блаженства в будущем, предвкушали его уже и в настоящем, находя удовольствие в самом труде”4 (здесь и далее подчеркнуто мною. — М. Э.).
Тут не только идея, но и сама интонация восходит к Гоголю, представляя глубокомысленную и высокоученую разработку башмачкинской темы:
“Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с любовью... Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты... Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало”.
И уж конечно, переписчик не мог бы не согласиться с мыслителем, что “формы букв говорят гораздо более слов, искреннее их”: гоголевскому герою оттого и невыносимо трудно переставить глаголы из первого лица в третье, что он привык иметь дело с буквами, а не со словами, — с красотой чистых форм, а не с условностью и лицемерием значений. Потому-то, отказавшись от своевольной перемены глаголов, он просит начальника: “Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь”.
У Башмачкина-переписчика и Федорова-библиотекаря одинаковое жалованье — 400 рублей в год5. Они могли бы служить в одном присутственном месте, на равных должностях, и по вечерам собираться на чаепитие у брата чиновника. Но если дальше озирать это воображаемое присутственное место русской литературы, можно было бы заметить за соседним столом еще одну неожиданную фигуру: самого возвышенного, “положительно прекрасного” героя русской литературы — князя Льва Мышкина. Как памятно читателям “Идиота” Достоевского, генерал Епанчин за изящество почерка назначает Мышкину точно такое же жалованье, как у Башмачкина и Федорова, “тридцать пять рублей в месяц положить, с первого шагу”, то есть те же башмачкинские “четыреста рублей в год жалованья или около того”.
Заметим еще одну родственную черту: духовидец и праведник Мышкин — такой же страстный любитель букв, как и маленький человек Башмачкин и великий мыслитель Федоров. “С чрезвычайным удовольствием и одушевлением” Мышкин говорит о разных почерках, росчерках, шрифтах... “Дальше уж изящество не может идти, тут все прелесть, бисер, жемчуг... Этакой шрифт ни с чем не сравним, так даже, что можно влюбиться в него”. Подобно Башмачкину, Мышкин не знает никакого иного ремесла и может зарабатывать себе на жизнь только перепиской: “...я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей... А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, и талант; в этом я просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы...”
Как “святой присутственного места”, “архивист-воскреситель”, “библиотекарь-мессия”, Н. Ф. Федоров, конечно, освящен и подготовлен Достоевским и возможен только после князя Мышкина, наследника средневековых переписчиков и древнерусской святости. Но и с Башмачкиным, прообразом всех кротких русских буквоедов-праведников, у Федорова тоже есть прямое родство. Оба прошли свой путь одиноко, не обзаведясь подругой жизни и не оставив потомства, ограничиваясь суровым поприщем в кругу сослуживцев и соратников. Оба были крайне неприхотливы в быту, ели, одевались и спали бог знает как, не замечая неудобств повседневной жизни. Вот еще параллельные места из двух житийных описаний:
“Он не думал вовсе о своем платье... сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась” (Гоголь о Башмачкине).
“Федоров никогда не носил шубу...” (Лосский о Федорове).
“Ходил зимой и летом в одном и том же стареньком пальто... Впечатление его значительных лет усугублялось одеждой, очень старой и ветхой...” (Семенова о Федорове)6.
“Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи... вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал бог на ту пору” (Гоголь о Башмачкине).
“Он занимал крошечную комнату... Его пища состояла из чая с черствыми булочками, сыра или соленой рыбы. Часто месяцами Федоров не употреблял горячую пищу” (Лосский о Федорове).
И кончили свою жизнь буквоеды-подвижники почти одинаково — простудой, подхваченной из-за непривычной для таких аскетов перемены одежды. Для Башмачкина, который уже сроднился со своей обветшавшей шинелью, роковой стала покупка новой шинели. А для Федорова, привыкшего и зимой ходить без шубы, роковым стал день, когда в жестокий декабрьский мороз 1903 года друзья уговорили его надеть шубу. Федоров заболел воспалением легких и скончался — подобно тому как Башмачкин на петербургском морозе схватил грудную жабу и скончался.
* * *
Житийный образ Н. Ф. Федорова, каким он запечатлелся в сознании современников, — это высшая эволюция того типа, который первоначально намечен Гоголем в “Шинели”: Башмачкин, прошедший дальнейшую школу нравственного и религиозного самосознания у героев Достоевского. Промежуточным звеном выступает князь Мышкин, в котором происходит повышение образа переписчика из канцелярской крысы до “князя-Христа”. Если Башмачкин — это сентиментально-юмористическая пародия на средневекового переписчика, раба и послушника Божия, то в Мышкине происходит восстановление первообраза: пародия еще раз переворачивается, и из маленького человека, робкого переписчика, каким выступает Мышкин в сцене испытания его каллиграфических способностей у генерала Епанчина, опять восстает святой. Недаром кульминация этой сцены — воспроизведение Мышкиным подписи “смиренного игумена Пафнутия” (XIV век).
Теперь, после возвышающей литературной переработки у Достоевского, типу маленького человека-спасителя остается только сойти со страниц и зажить своей собственной исторической жизнью... — не иначе, однако, как вступив поначалу, как и положено “персонажу”, в переписку с самим автором. Как известно, Н. Ф. Федоров впервые стал излагать свои идеи всеобщего воскрешения, которые молча вынашивал на протяжении многих лет, в письме к Достоевскому. Начатое в 1878 году, оно дописывалось уже после смерти адресата (1881), разрослось до 400 страниц и стало тем основным сочинением Федорова, которым и вошел он в историю философской мысли и святости.
Обращаясь от образа жизни к образу мыслей, мы опять-таки находим разительное сходство: федоровский “вопрос о братстве” тоже был подсказан бьющим в сердце вопросом Акакия Акакиевича — вопросом ко всем, кто сильнее, веселее, ученее, богаче его: “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?” — и в этих проникающих словах звенели другие слова: “Я брат твой”. И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья...”
Так и продолжают звенеть эти слова Акакия Акакиевича в сочинениях Федорова, вырастая в прокламацию ОБЩЕГО ДЕЛА: “Это вопрос о том, что нужно делать для выхода из небратского состояния. И в таком виде вопрос этот обязателен для всех сынов человеческих и тем более для крещеных во имя Бога всех отцов...”7
Оказывается, не только русская литература XIX века, по известному выражению Ф. Достоевского, вышла из гоголевской “Шинели”, но в какой-то мере и русская философия, с ее видениями вселенского братства и отцовства, тоже продолжает договаривать обиду и жалобу Акакия Акакиевича.
Правда, вопрос о воскрешении предков не звучит прямо в сознании Акакия Акакиевича. Оба наших героя не знали своих отцов. Федоров в раннем детстве был увезен от отца и больше никогда не встречал его. Башмачкин родился уже после смерти своего отца — видимо, не совсем естественным образом, потому что и мать его во время родов, как отмечает Гоголь, была уже старуха (как библейская Сарра, рождающая Исаака). Но, в отличие от Федорова, Башмачкин был законным сыном своего отца и не только носил его фамилию и отчество, но и повторил его имя. “Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий”. Удвоение имени символически обозначает то простое обстоятельство, что дети продолжают собой и в себе жизнь своих родителей и потому не столь обеспокоены бытием их праха вне себя, как это было в случае с Федоровым, носившим чужое отчество, лишенным имени родного отца и с детства от него отлученным. Воскрешение предков, которое для Николая Федоровича Федорова стало высшей и всеобщей задачей, для Акакия Акакиевича Башмачкина было данностью. Он сам Акакий и сам Башмачкин, то есть носит ту же фамилию, что “и отец, и дед... все совершенно Башмачкины...”.
Так вопрос о пропавшем братстве, поднятый Акакием Акакиевичем, у Николая Федоровича переходит в вопрос о спасительном отцовстве.
Оба наших героя воспринимаются, пользуясь словами Н. Лосского, как “праведники и неканонизированные святые”8, и их жизнь легко укладывается в жанр жития. Собственно, стилизацией жития, его иронической перелицовкой, и является повесть Гоголя; а литература о Федорове прямо выстраивается по житийному канону. Но оба святых, как выясняется к эпилогу, — с какой-то мстительной изнанкой, грозящие кулаком человечеству, в буквальном и фигуральном смысле снимающие шинели и шубы с богатых и знатных людей: Башмачкин в своем посмертном бытии призрака, а Федоров — в своих посмертно опубликованных сочинениях, где пророк всеобщего воскрешения клеймит ученых, богатых, прогресс, который якобы служит только отвлеченному знанию, бесполезной роскоши и чувственному комфорту. Как Башмачкин мстит эгоизму сильных и богатых мира сего, так и Федоров клеймит “праздность”, “как матерь пороков, и солипсизм (или эгоизм), как отца преступлений” — все “ученое сословие”, как “порождение праздности... и индивидуализма”9.
Смерть и ее преодоление составляют центральный мотив и гоголевской повести, и философской системы Н. Федорова. В обоих случаях посмертное существование — “повтор неповторимого” — мотивировано этически, необходимостью справедливости и воздаяния. В случае с Башмачкиным действует закон загробного возмездия, по которому чиновник, лишившийся шинели, посмертно отнимает шинели у своих мучителей. У Н. Федорова тоже действует фигура симметрии: мертвые отцы, давшие жизнь сыновьям, теперь должны принять ее из рук сыновей. Заметим, что развязка маленькой жизни у Гоголя и развязка мировой истории у Федорова тоже зеркально симметричны: мертвый снимает одежду с живых — живые одевают мертвецов плотью. Но именно этот загробный триумф “этики тождества”, перенесение повтора из этой жизни в другую как знак высшей правды-справедливости, придает новое измерение образу праведников, как будто у них появляются демонические двойники.
“Рот мертвеца покривился и, пахнувши на него (значительное лицо) страшно могилою, произнес такие речи: “А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник!..” Удивителен и жуток этот мстительно-обличительный пафос призрака — при кротко-праведной, тишайшей жизни, полной трудов и лишений, каллиграфических восторгов и мечтаний о братстве. Оживление мертвого тела — будь это изваяние, труп, кукла, механизм, картина — традиционный в литературе демонический мотив, который часто встречается у Гоголя, например в “Майской ночи, или Утопленнице”, в “Страшной мести”, “Вии”, “Портрете”, и, как правило, предполагает сделку мертвеца с нечистой силой. В этот инфернальный ряд встает и бедный Акакий Акакиевич, чьим бесом-искусителем стал портной Петрович (“одноглазый черт”), после встречи с которым Акакий Акакиевич, “вместо того чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему...”10. Жизнеописание Акакия Акакиевича, начавшееся со сцен благочестивого крещения и смиренного служения героя, в эпилоге обращается в антижитие, в травестийно-готический рассказ о наводящем ужас привидении, с огромным кулаком и кривым ртом.
Странное, двоящееся впечатление производит на духовно проницательных читателей и учение Н. Ф. Федорова, который стремится восстановить мертвых из могилы силой человеческого знания и умения, собиранием рассыпанного праха отцов по вселенной. “...Соловьев имел повод спросить, не будет ли это “о ж и в л е н и е м т р у п о в”? Есть у Федорова несомненный привкус какой-то некромантии”, — замечает протоиерей Георгий Флоровский, подчеркивая своеобразное смертобожие Федорова, его зачарованность смертью. “Остается неясным, к т о умирает и к т о воскресает, — т е л о или ч е-л о в е к?.. О загробной жизни умерших Федоров едва упоминает. Он говорит больше о их могилах, об их могильном прахе”11. Сходное опасение кощунственной “подмены” высказывал Бердяев: “Проект Федорова требует, чтобы жизнь человечества была сосредоточена на кладбищах, около праха отцов... Трудно сказать, верил ли Федоров в бессмертие души. Когда он говорит о смерти и воскресении, то он все время имеет в виду тело, телесную смерть и телесное воскресение. Вопрос о судьбе души и духа им даже не поставлен”12.
От маленького человека, поднявшегося на месть значительному лицу, и от великого мыслителя, поднявшегося на борьбу с силами природы, в “эпилоге” веет не примирением и не вечной жизнью души, а призраком и могилой, магией оживления трупов. Фигура повтора переходит в фигуру подмены. Именно окончательное торжество “повтора”, его последний замогильный аккорд разрушают гармонию данного “смиренного” типа. В образе Мышкина линия, начатая Гоголем в Башмачкине, резко идет на повышение, кротость маленького человека достигает полноты духовного идеала. В учении Федорова линия эта рвется еще дальше, за предел литературы — в реальность, за предел жизни — в посмертие. Беря на себя дело Бога, человек не уберегается от подделки.
Интересно проследить, как постепенно разворачивался тип “буквоеда-праведника” в духовной истории России, поднявшись сначала от канцеляриста Башмачкина до духовидца Мышкина, а затем и развернувшись в трибуна воскресительной революции. Может быть, в каждом Акакии Акакиевиче как внезапный мессианский прорыв заключен свой Николай Федорович — и только ждет своего двенадцатого часа, чтобы указать всем-всем сверкающий путь к могилам и звездам?
Одни мыслители считали федоровский проект всеобщего воскрешения воистину мироспасительным: “...со времени появления христианства Ваш “проект” есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову”13. Другие — тончайшим искушением из тех, каким дьявол подвергал Христа в пустыне: “В этом странном религиозно-техническом проекте хозяйство, техника, магия, эротика, искусство сочетаются в некий прелестный и жуткий синтез”14.
Но как ни относиться к “общему делу” Федорова — несомненно, что в его основании лежит совсем маленькое дело Акакия Акакиевича. Потертая шинель. Петербургский мороз. И вопрос о братстве.
Список литературы
1 “Князь Мышкин и Акакий Башмачкин (к образу переписчика)”. — В кн.: Михаил Э п ш т е й н, Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX—XX веков, М., 1988, с. 73, 79, 80 (первая публикация: “О значении детали в структуре образа (“Переписчики” у Гоголя и Достоевского)”. — “Вопросы литературы”, 1984, № 12).
2 Светлана С е м е н о в а, Николай Федоров. Творчество жизни, М., 1990, с. 10—11.
3 Н. Ф. Ф е д о р о в, Что значит карточка, приложенная к книге? — Н. Ф. Ф е д о р о в, Собр. соч. в 4-х томах, т. 3, М., 1997, с. 228. Таким образом, очень специальный библиографический вопрос в толковании Федорова внутренне связан с идеей всемирного воскрешения: карточка — зерно или след книги, по которому можно ее восстановить. Связь современного концептуализма с библиотечными карточками, с техникой повтора, с переписыванием и воскрешением, с проектами всеобщего архива и музея, с образом Башмачкина и с идеями Федорова прослеживается в творчестве Ильи Кабакова и Льва Рубинштейна. Так, метаинсталляция И. Кабакова “Дворец проектов” (Artangel, Лондон, 1998) не только включает раздел, посвященный федоровскому “Воскрешению всех умерших”, но по тому же образцу формирует и еще шестьдесят четыре мироспасительных проекта в других разделах экспозиции, например “Генератор идей”, “Машина универсального движения”, “Оптимальный план тюрьмы”, “Рай под потолком”, “Универсальная система изображения всего”, “Лечение воспоминаниями”, “Общий язык с деревьями, камнями, зверями...”, “Управление внешним миром” и т. д. Манера Л. Рубинштейна записывать свои тексты на библиотечные карточки также соотносима с федоровской идеей вселенского хранилища, музея слов и голосов.
4 Н. Ф. Ф е д о р о в, Вопрос о братстве... — Николай Федорович Ф е д о р о в, Сочинения, М., 1982, с. 82, 83.
5 “Получая незначительное жалованье (менее 400 руб. в год), он отказывался от всякого повышения его” (Н. О. Л о с с к и й, История русской философии, М., 1991, с. 104); “Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз...” (Г о г о л ь, “Шинель”).
6 С. Г. С е м е н о в а, Н. Ф. Федоров и его философское насле-дие. — Предисловие к кн.: Николай Федорович Ф е д о р о в, Сочинения, с. 11, 12.
7 Николай Федорович Ф е д о р о в, Сочинения, с. 62. Полное название главного труда Федорова: “Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства. Записка от неученых к ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим”.
8 Н. О. Л о с с к и й, История русской философии, с. 103. Ср. впечатление о Федорове И. Л. Толстого (сына Л. Н. Толстого): “Если бывают святые, то они должны быть именно такими” (И. Л. Т о л- с т о й Мои воспоминания”, М., 1969, с. 190).
9 Николай Федорович Ф е д о р о в, Сочинения, с. 69.
10 Среди инфернальных намеков, окружающих образ портного в “Шинели”, можно выделить следующие: в кухне Петровича, куда Акакий Акакиевич поднимается по “умащенной... помоями” черной лестнице, “столько дыму... что нельзя было видеть даже и самых тараканов” (образ ритуальной нечистоты); кощунственное пьянство по всем церковным праздникам, “где только стоял в календаре крестик”; “кривой глаз и рябизна по всему лицу”; “изуродованный ноготь, толстый и крепкий, как у черепахи череп”; на большом пальце ноги, как будто рудимент чертова копыта; то, что по всякому шву новосшитой шинели Петрович “проходил собственными зубами, вытисняя ими разные фигуры”, как бы ставя печать; заключительный трюк — преподнося обнову Акакию Акакиевичу, Петрович “вынул шинель из носового платка”; уже проводив Акакия Акакиевича, портной забежал вновь на улицу, “обогнувши кривым переулком”, чтобы полюбоваться еще раз на свое изделие; наконец, троекратное поминание черта в характеристике Петровича (“осадился сивухой, одноглазый черт”, “охотник заламливать черт знает какие цены”, “точно как будто его черт толкнул”).
11 Прот. Георгий Ф л о р о в с к и й, Пути русского богословия, изд. 4-е, Париж, 1988, с. 326, 324.
12 Н. Б е р д я е в, Религия воскрешения (“Философия общего дела” Н. Федорова). — Николай Б е р д я е в, Собр. соч., т. 3. “Типы религиозной мысли в России”, Париж, 1989, с. 294, 296.
13 Письмо Вл. Соловьева Н. Федорову от 12 января 1882 года. — В кн.: Н. Ф. Ф е д о р о в, Собр. соч. в 4-х томах, т. 4, с. 629.
14 Прот. Георгий Ф л о р о в с к и й, Пути русского богословия, с. 326.
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Смертная казнь: доводы и аргументы
- Природа расовых катастроф в мировой цивилизации
Г. Веков Подлинный смысл трагедии РоссииКак определить ту расовую среду, в которой мы живем? Я полагаю, что ее источником является проис
- Социологическая теория и мировая интеллектуальная история: «Социология философий» Рэндалла Коллинза
Н.С. Розов, доктор философских наук, профессорКнига профессора социологии Пенсильванского университета (Филадельфия, США) Рэндалла Кол
- Сети сквозь поколения: почему личные связи философов важны для их творчества
- "Запад" и "Восток" в институциональном подходе к цивилизации
- Русская философия
Развитие мировой философии представляет собой единый процесс, закономерности которого определяются ходом истории и связаны с выявлен
- "Новая российская идентичность": исследование по социологии знания
Статья является сокращенной версией обзора российской гуманитарно-научной литературы 1990-х годов, своего рода экстрактом проблематики
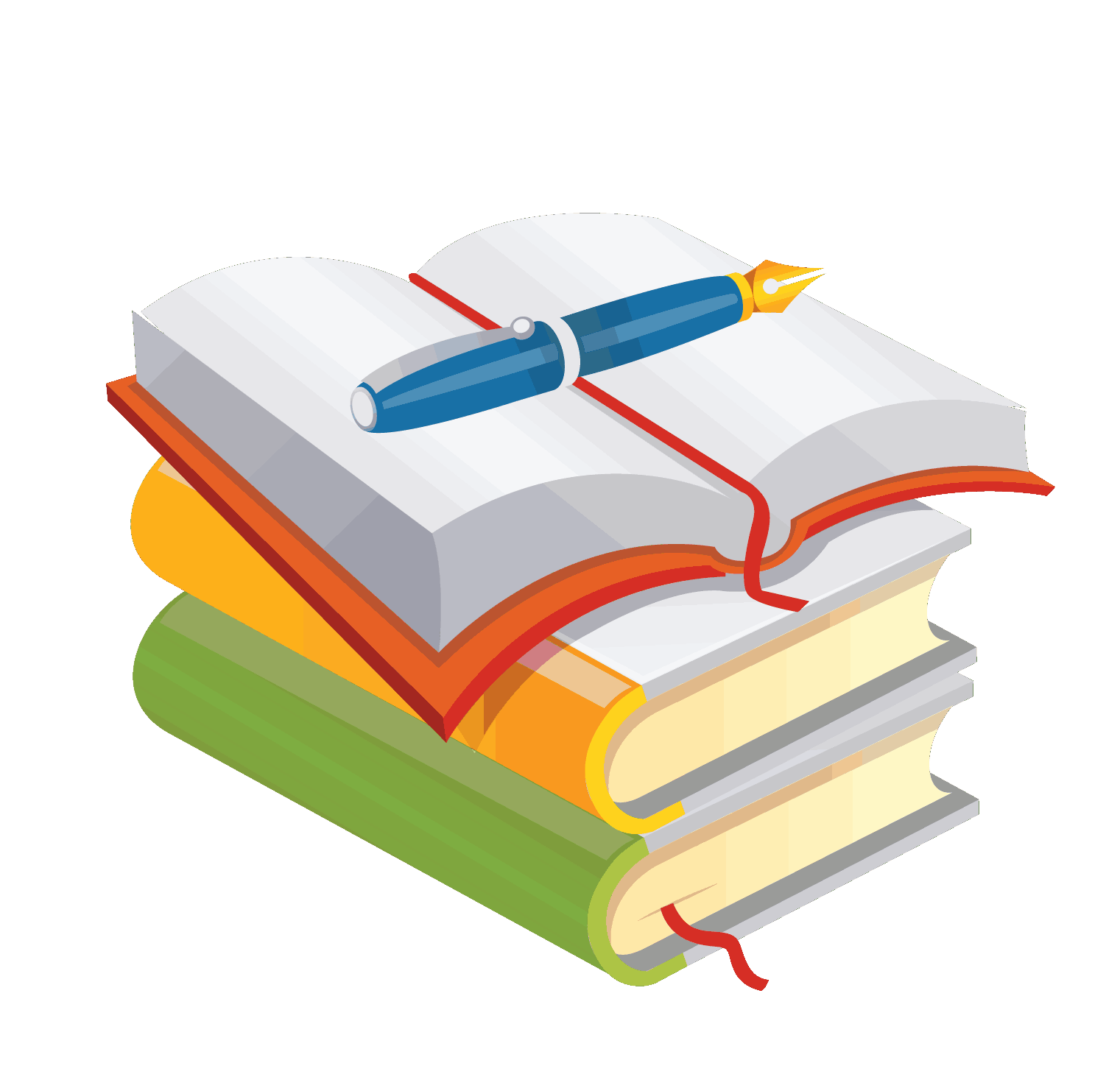 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.