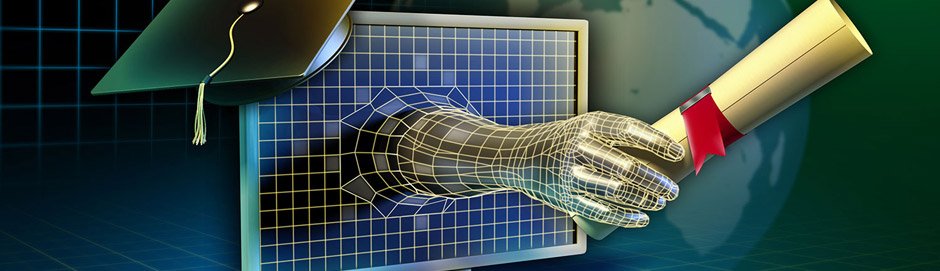Тема «отцов и детей» в русской классике
Аникин А.А.
Роман И.С. Тургенева дал имя нашей теме, которая, однако, поставлена в русской литературе столь широко и значительно, что можно всех ведущих героев представить в двух ракурсах: как отцов, детей или же героев-одиночек, вне рода-племени. Кажется даже, что количественно вторая позиция преобладает: герои бездетные и бессемейные – первые герои русской классики. Чацкий, Онегин, Печорин воспринимаются как сироты и в житейском, и в метафорическом смысле слова, но ведь и это – обратная сторона нашей темы. Личностное, индивидуальное начало настолько преобладает в их облике, что "мысль семейная" внешне не связана с ними. Заметим – только на первый взгляд. Ведь и отрицательное развитие темы тоже надо учитывать. Так, можно построить наблюдения и иначе: только сиротами и могут быть названные герои – в силу их характеров.
Общеизвестное начало "Анны Карениной": "Все счастливые семьи похожи одна на другую, каждая несчастливая несчастлива по-своему", несмотря на полемическое его опровержение самим же романом, вообще можно считать девизом темы, вектором ее интересов. Вся напряженность темы вытекает из внутреннего конфликта: "отцы и дети" прочитываются как "дети против отцов" или "отцы против детей". Не так ли строятся судьбы Раскольниковых, Базаровых, Кабановых, Болконских?.. Тоска Чичикова по потомству кажется чисто комедийной чертой. А внутренняя опустошенность героев "Вишневого сада" покажет, что героям вообще не до отцовства. Этот фон заслоняет не обязательно счастливые, но – позитивные, содержательные связи. Но это обманчивое впечатление, и в глубине содержания тургеневского романа "Отцы и дети" внешний конфликт детей и отцов сменяется единством, доступным лишь избранным героям и выраженным в заглавии всего лишь соединительным союзом. Таков предварительный эскиз темы.
Тем не менее негативные решения преобладают в нашей теме, более ярки и привлекательны для писателя, хотя и заведомо обречены на несогласие проницательных читателей. Приведем несправедливую, но и не случайную реплику В.В.Розанова: "Отцы и дети" Тургенева перешли в какую-то чахотку русской семьи, разрушив последнюю связь, последнее милое на Руси. После того, как были прокляты помещики у Гоголя и Гончарова, администрация у Щедрина, купцы у Островского, духовенство у Лескова и, наконец, вот сама семья у Тургенева, русскому человеку Но конфликтные состояния в отцах и детях*не осталось ничего любить" (10, 792). - отнюдь не новость в литературе 19-го века: еще фонвизинский Митрофанушка жалел матушку из-за того, что "так устала, колотя батюшку" (14, 89). Родословную конфликта можно довести до одного из древнейших мифов, и едва ли возможно установить, что первично – вражда или дружба отцов и детей. В античной мифологии само сотворение мира происходит в смертельной схватке отца и сына, по сравнению с чем мельчают все сюжеты 19-го века. Так что существо конфликта безусловно уходит к корням мировой культуры: первый мужчина Уран ненавидит своих детей, хотя и не может избежать лавиноподобного детородства, и будет оскоплен (символически убит) своим сыном Кроносом, который в свою очередь низвергнут Зевсом, - всех прочих своих детей Кронос пожирает, чтобы избежать поражения от своего потомка. Отпечаток этой вражды можно найти и в последующей мифологической истории, а также в мифах разных народов. Каков первоисточник нашей темы?!.
Противоположную картину дает христианская религия. Ветхозаветный закон Моисея "почитай отца твоего и мать твою" (Ис., 20, 12) в высшей степени воплощен Христом: это образец отношений отцов и детей: "Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына" (Мф., 11, 27). И именно через Христа сам Бог воспринимается как Отец всеобщий: "Да будете сынами Отца вашего небесного" (Мф., 5, 45); точнее – исполняя заповеди, человек обретает Отца в Боге: "И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего" (Лк., 6, 35). Заповедь почитания родителей остается одной из главнейших. Это благо жизни; наоборот, катастрофа жизни рисуется словами: "Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей и умертвят их" (Мф., 10, 21).
Условно говоря, между образом Урана и образом Христа и располагаются вариации нашей темы, приближаясь то к одной, то к другой линии. Склонности писателей и мыслителей будут здесь вполне очевидны. В целом всякое сомнение в единстве отца и сына будет самым прямым путем к сомнению в Христе. Вот и обратим пафос В.В.Розанова на его собственную мысль и увидим антихристианскую позицию: "Сын, дети всегда не походят на отца и скорее противолежат ему, нежели его повторяют собою… Сын рождается, если отец был не полон… Посему кто сказал бы: "Я и отец – одно" (слова Христа.- А.А.), вызвал бы ответное недоумение: "К чему? Зачем повторения?". Нет, явно сын мог бы "придти", только чтобы восполнить отца, как несовершенного, лишенного полноты и вообще недостаточного… Без противоречия отцу не может быть сына" (10, 623). Не это ли урановый источник начала 20-века?
Л.Н.Толстой в своем знаменитом изложении Евангелия, наоборот, предельно заострит мотив единства отца и сына, но – видя подлинным отцом только Бога, словно в ущерб земному отцовству. Поэтому, по Толстому, "Иисус был сын неизвестного отца. Не зная отца своего, он в детстве своем называл отцом своим Бога" (12, 39): "Человек – сын бесконечного начала, сын этого Отца не плотью, но духом" (12, 33). И сам завет чтить отца и мать поздний Толстой воспринимает только как почитание этого отца – Бога: "Чти Отца твоего (с заглавной буквы в отличие от соответствующего места в каноническом Евангелии.- А.А.), исполняй его волю", - напишет Толстой (12, 59).
Приведенные примеры должны показать ресурсы темы, которая даже в обращении к Евангелию не воспринимается как нечто навеки решенное, устойчивое. Литература сполна отразит всю динамичность отношений отцов и детей. Добавим наряду с мифом об Уране и христианской заповедью еще один важный первоисточник нашей темы, который служит ориентиром в русской культуре. Это знаменитый "Домострой", памятник литературы 16 века (возьмем наиболее известную и полную редакцию в авторстве священника о. Сильвестра, духовника Ивана Грозного). "Домострой" является житейским воплощением христианской морали, а написан в форме "назидания от отца к сыну": это завет обустройства жизни по слову Божию. Здесь отец и сын едины именно перед лицом Бога, что нисколько не умаляет земную, родительскую связь. Отец прежде всего ответственен за семью перед Богом, это вовсе не тиран семьи, как по незнанию часто говорят о "Домострое". Более того, с совершеннолетием, с обретением своей собственной семьи, сын выходит из-под родительской опеки, сам отвечает перед Богом: "Аще сего моего писания не внемлите и наказания не послушаете и по тому не учнете жить и не тако творити, яко же есть писано, сами себе ответ дадите в день Страшного суда, и аз вашим винам и греху не причастен" (5, 23). Это почти идеальное решение темы отцов и детей никогда более не будет воплощено в нашей литературе - и потому, что всякая заповедь не многими воспринята и воплощена ("Много званых, а мало избранных", Мф., 22, 14), и потому, что жизнь конфликтна по своей сути и неповторимые несчастливые семьи интереснее писателю. Как и открыто в Новом Завете, христианский идеал утверждается крайне напряженно и даже не воплотим до самого Апокалипсиса. Так что и в литературе, ориентированной на православие, чаще отражено урановское решение нашей темы, хотя и с осуждающей авторской оценкой. Это будет линия Чацкого и Онегина, Печорина и Базарова, героев Островского. Достоевский даст картину карамазовщины, но и покажет преданность детей даже такому отцу, как Мармеладов. Гоголь особенно остро чувствует идеальную сторону в единстве отцов и детей. Толстой ведет к домостроительному решению героев "Войны и мира". И так постепенно мы подойдем к Чехову, у которого появится новое решение: не любовь и не вражда, а либо бессемейность и безотцовщина, либо внутреннее отчуждение и безразличие отцов и детей, т.е. тема по сути перестает существовать.
В русскую классику тема отцов и детей входит с Чацким – и со всеми присущими этому герою чертами. Герой врывается в дом Фамусова, словно в свой родной дом, и эта деталь прежде всего задает особую обрисовку Чацкого: он сирота, Фамусов для него с детства – подмена отца, со скрытой, как и во всякой подмене, конфликтностью, что придает и особую интонацию реплике "Спросили бы, как делали отцы? Учились бы, на старших глядя". Не знавший отца Чацкий поэтому вдвойне желчно относится к Фамусову, а его ответная реплика "А судьи кто?" прикрывает другой ответ: "Вы нам никто". И далее: "Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны признать за образцы?". Есть даже и оттенок личной ущербности, когда Чацкий ополчается на век отцов – великий 18-й век, видя в нем лишь ничтожность. Не менее нигилистически Чацкий толкует и о детях – уже в самом прямом значении: "Чтоб иметь детей, кому ума недоставало?" (4, 78). Чацкий весь сосредоточился на своем Я и в простоватой злобе отвергает все, что было до и будет после него. Между тем в самом Чацком много родовых черт отцов-фамусовых (см. об этом в главе "Лишний человек"), а его характер словно в пику претензиям на новаторство воспринимают именно в отражении предков: "По матери пошел, по Анне Алексевне, покойница с ума сходила восемь раз" (4, 101). Для самого Чацкого не то что нет стремления к отцовству, к браку, а скорее это для него помеха в жизни. Такова его оскорбительная поза перед отцом Софьи. Фамусов имел все основания просто и прямо спросить у нашего героя: "Обрыскал свет: не хочешь ли жениться?" и затем остроумно парирует реплику Чацкого "А вам на что?": "Меня не худо бы спроситься, ведь я ей несколько сродни,/ По крайней мере искони/ Отцом недаром называли". Для Чацкого это – разумеется, даром, да и он сам внутренне боится брака, уклоняется от ответа Фамусову, везде толкует о любви, но нигде – о браке. Не это ли главное препятствие в его отношениях с Софьей? Или Чацкий в духе Молчалина собирается "без свадьбы время проволочить"? Явиться чуть свет к Фамусовым можно на правах сына или жениха Софьи, Чацкий же, отвергая и то, и другое, заведомо попадает в двойственное положение, сам себе создает "миллион терзаний" и одновременно делается героем комедии.
Фамусов в "Горе…" - прежде всего отец, и нет ничего смешного в его реплике "Что за комиссия, Создатель,/ Быть взрослой дочери отцом!": всякий отец должен понять Фамусова. Чуть позже – о том, каким отцом будет он, тоже герой комедии… Напряженность в фамусовском положении усугубляется значительной деталью: Софья недавно потеряла мать, и реплика "Мы в трауре, так бала дать нельзя", очевидно, относится к трауру по жене Фамусова.
В чем значение этой подробности, которая заставляет по-особому воспринимать все, происходящее в доме Фамусовых? В комедии Грибоедова очень важно увидеть конкретную картину жизни, а не только резкую сатиру. Определение И.А.Гончарова – "комедия жизни" - в высшей степени соответствует "Горю от ума". Потеря матери словно делает Софью старше: вся ее роль до самого финала несет ореол уважения и даже покорности перед нею. Фамусов боится ее присутствия при легкомысленной сценке с Лизой, скрывается, как только слышит голос Софьи: ремарка "Крадется вон из комнаты на цыпочках". По сравнению с Фамусовым Софья гораздо увереннее, не выражает показного страха за свою судьбу (ср. интонацию ее отца: "Ах! матушка, не довершай удара!"). Дело тут далеко не только в силе характера Софьи, но и в ее более сильном, чем следует, положении в доме: обращение матушка весьма многозначно. Она словно стала играть роль, более свойственную старшим в доме, что отражается и на положении Фамусова и дает неожиданную интригу комедии.
Не потому ли Фамусов в конце пьесы со всей силой обрушивается на Софью: новое и весьма унизительное положение дочери словно освободило его от давящего и сковывающего авторитета Софьи: "Дочь, Софья Павловна! страмница! Бесстыдница … как мать ее, покойница жена". Словно выходит наружу скрытое раздражение покойной женой: "Чуть врозь – уж где-нибудь с мужчиной". Сравним: Фамусов в духе отцовского могущества может "принанять … вторую мать", которая, конечно, окажется "золотцем" - не в укор ли первой? Публичность сцене в сенях придает Фамусов, а без этого нет серьезного повода обрушиваться на дочь. Отец всячески грозит дочери, но тут есть и своя доля злорадства: он мнимо неслыханным поступком дочери хоть на время освобождается от родительского долга: "Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми!" Это своего рода месть за родительские тяготы, ведь внутренне Фамусов готов сбросить "с плеч долой" любое бремя: Софья в конце концов мешает повесничать ему с Лизой, да и не только с нею, с этой стороны многие реплики Фамусова двусмысленны. "Монашеским известен поведеньем," - скажет он и яростно заткнет рот Лизе, желавшей что-то возразить на эту реплику и, видимо, имевшей для этого основания: "Осмелюсь я, сударь… - Молчать! Ужасный век! Не знаешь, что начать". Собственно, если бы Фамусов был именно преданным и добросовестным отцом, он не был бы героем комедии.
В Софье больше трагического начала. Она предельно серьезна в любви. С одной стороны, любовь к Молчалину насыщена стремлением покровительствовать (вот – позиция матери); она доминирует в отношении Молчалина, и это вполне убедительное представление любовного чувства, здесь есть почва для психоаналитика. Софья вообще вплоть до последней сцены первенствует в отношении любого героя, и источник этой черты определенно в замещении старших. Она не может любить Чацкого, который сам стремится быть лидером и покровителем, не всегда имея на это право, именно не может, а не ошибается или не хочет. Желанную роль в отношении Софьи Чацкий исполнит только когда та без чувств, в обмороке: "Но вас я воскресил" - эта метафора не случайна. Стать в позу воскрешающего Бога-Отца – завершение характера Чацкого, опять же, видимо, следствие сиротства: он не привык видеть рядом с собой заведомо авторитетного отца.
Но метафорически воскресить Молчалина стремится и Софья. Поэтому другая сторона в ее отношении к Молчалину – это желание увидеть в нем смиренную жертву и, если не подобие Христа, то уж точно христианского праведника. Софья о Молчалине: "За других себя забыть готов,/ Враг дерзости", "уступчив, скромен, тих, в лице ни тени беспокойства и на душе проступков никаких", в противоположность ему "батюшка часто без толку сердит, а он безмолвием его обезоружит, от доброты души простит", "смирнейшему пощады нет" и др. – поистине свод христианских добродетелей, обнаруженных Софьей в беззащитном, как ребенок, герое, которого "смело берет она под защиту". Поэтому мотив "я живо в нем участье приняла" надо принять в Софье всерьез, более значимо, чем выглядит сам эпизод с падением Молчалина. И здесь, как и положено в комедии, смех рождается на контрасте пустякового полета с лошади (ср. реплики Лизы и Скалозуба) и чрезмерно глубокого переживания.
Заметим и постоянное противопоставление Фамусова Молчалину в сознании Софьи – противопоставление зла и добра. Сон же ее прямо выдает восприятие отца как помехи ее счастью, помехи добру. Появление отца откуда-то из-под земли ("Раскрылся пол – и вы оттуда. Бледны, как смерть, и дыбом волоса!") выдает смутное желание смерти отцу. Словом, сюжет, достойный античной трагедии. Но комедия – всегда комедия ошибок. Софья ошибается и в понимании Молчалина, и в понимании самой себя. Собственно горе в этой комедии – от ошибок ума. Добавим - и от ошибок чувства. Поэтому одним из аналогов названия комедии в Евангелии будет стих от Матфея: "Горе миру от соблазнов… горе тому человеку, через которого соблазн приходит"(Мф., 18, 7). В комедии соблазн приходит через каждого героя, и у каждого – свое горе, свой миллион терзаний, ни один герой не блаженствует на свете – вопреки словам Чацкого, который видит только свои несчастья.
Ошибки сродни лжи, поэтому Софья, с ее "лицом святейшей богомолки" и торжественно звучащим именем (София – мудрость, или Премудрость Божия – в православном мире), окажется одновременно лгуньей и клеветницей. Она собственно входит в пьесу с ложью отцу о встрече с Молчалиным и о пророческом сне, ложью развернутой и, наверное, привычной ("бывает хуже – с рук сойдет"). Не это ли дало повод Пушкину бросить знаменитую и загадочную реплику о Софье: "не то б…, не то московская кузина" (9, 8, 74), а ‘гениальному’ Всеволоду Мейерхольду с безудержным восторгом сделать ее в своей постановке "именно "б" и четыре точки!", по его словам (8, 326). Оценка несправедливая: в Софье автор показывает, как нелегко принять христианский идеал и в поисках праведности впасть в глубокое заблуждение. Забота же Фамусова о дочери будет отдавать стремлением освободиться от бремени и перепоручить его самому подходящему и более сильному – разумеется, полковнику Скалозубу, уж полковник-то знает, как смирять нравы ("а пикнете, так мигом успокоит").
Итак, в "Горе от ума" наша тема представлена по Урану: дети мешают отцам, отцы становятся врагами детям, дети отвечают тем же, объединяет их разве что взаимная мстительность и – "общественное мнение". Но авторский замысел, или идеал, конечно, не в этом. Потому это и комедия, что автор, глубоко верующий, знаток Библии, перелагающий Псалтырь, знает Христову заповедь для отцов и детей. В комедии же почитает отца разве что Молчалин: "Мне завещал отец…", и завет этот окажется совершенно комичен.
Средоточие вариаций в теме "отцов и детей" у Пушкина – в произведениях разных жанров. Общее позитивное ее решение – благостное, но и с оттенком горечи – может быть выражено стихотворным девизом:
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Однако "верный оценщик жизни", по определению Гоголя (2, 227), не мог не отразить оба полюса в нашей теме. Оттого и скорбный налет пепелища. Другое дело, что если у Грибоедова напряженное противостояние остается неразрешимым в сюжете пьесы, то Пушкин всегда приводит своих героев к ощущению – но, вероятно, не к достижению – христианского идеала, конечно, - в пушкинской стилистике.
Пример Онегина в этом смысле – "другим наука" (начнем с этого ведущего пушкинского героя, пусть и не самого очевидного представителя нашей темы). Легко запоминается реплика "отец понять его не мог и земли отдавал в залог", и это непременная черта Онегина: отчуждение от жизни начинается с отчужденности к отцу. Смерть отца словно проходит мимо сознания героя (так же, как и пресловутого дяди, но – никак не смерть Ленского). Интересно сравнить, как по-разному поступают литературные герои-современники: Онегин и Николай Ростов из "Войны и мира". Пушкинский герой легко отказывается от наследства отца, "довольный жребием своим", и это вполне символичный жест: он не чувствует ответственности за отца, он – не наследник. Здесь нет никакой духовной составляющей, только арифметика: долги отца обременяют Онегина, превосходят стоимость наследства, и это – не долги сына. Николай Ростов так поступить не может: не принять наследство и долги значит для него отказаться от отца, и Николай буквально жертвует собой ради своего духовного долга перед отцом, но, заметим, поступает здесь исключительно свободно, т.е. так, как велит совесть, а не житейский расчет.
Общеизвестно: "верный идеал" Пушкина сосредоточен в образе Татьяны Лариной, Онегин лишь устремлен к этому идеалу, который в смысловом отношении надо принять полно: в отношении к миру, к Богу, к людям, в том числе и к родителям. "Смиренный грешник" Дмитрий Ларин обрисован просто и с добродушным сочувствием. Некоторая беззаботность видна в нем и в отношении к дочерям: "Отец ее был добрый малый,/ В прошедшем веке запоздалый /… И не заботился о том,/ Какой у дочки тайный том /Дремал до утра под подушкой". В этих легких стихах – типично пушкинское представление об отце: отец отнюдь не посвящает себя детям, может быть и не многое в состоянии сделать для детей, но образ его – при всем простодушии, а иногда и при всей нелепости – священен. Это, скажем так, рядовой, не трагический вариант.
Татьяна, как и Онегин, теряет отца, но переживает это совсем иначе: "Он умер … оплаканный/ … Детьми и верною женой/ Чистосердечней, чем иной". Заметим, что в этих строках мы опустили слова, передающие оттенок авторской иронии, - иронии к человеку как таковому, к "простому и доброму барину" (ср.: "Он умер в час перед обедом…"). Это ирония над "господним рабом и бригадиром", а никак не над отношением Татьяны к отцу. Нельзя не заметить, что лучшие строки о Ленском связаны с его отношением к отцам, в том числе – отношением к отцу Ольги и Татьяны: "Он на руках меня держал, /Как часто в детстве я играл /Его очаковской медалью!/ Он Ольгу прочил за меня…" (последняя строка, правда, может не внушать доверия, не есть ли это поэтический вымысел и – все та же авторская ирония?). Итак, дети не отказываются от отцов, чистосердечно преданны и даже покорны им (то же видно и в отношении к матери), несмотря на внутреннее несходство, к чему был так чувствителен и остер грибоедовский герой: связь "отцов и детей" сильнее возможных конфликтов, сильнее онегинского непонимания. Возвращение Онегина к Татьяне в конце романа означает и принятие в Татьяне всей ее личности, ее верности.
Пушкинское решение темы всегда динамично: если реальность может отражать скорее линию Урана, то это еще не есть идеал или истина жизни; идеал же – в приближении к Христу, пусть и не всегда названному у Пушкина.
Самая ожесточенная картина в отношениях отцов и детей, разумеется, в "Скупом рыцаре". Не будем вдаваться в аналогии с биографией самого поэта: общеизвестны конфликты Пушкина с отцом, но есть что-то неприемлемое в интимных раскопках чужих судеб. Будем судить о поэте по его творчеству. Кстати, из-за очевидного желания проницательных читателей сблизить ситуацию "Скупого рыцаря" с домом Пушкиных автор долгое время вообще не печатал пьесу (до 1836 года), опубликовал ее под псевдонимом "Р", выдал ее за некий перевод из Ченстока, и надо уважать право и волю автора. Конфликт старика-барона и его сына Альбера раскрывает общую неправоту обеих сторон: оба воспринимают друг друга как противников и, каждый по своим основаниям, презирают друг друга. Альбер со злорадством ждет наследства – словно только смерть отца докажет его сыновние права ("Ужель отец меня переживет?"). Нет никакого сыновьего послушания, этого залога ответственности отца перед сыном, но нет и возможности показать свою независимость. Обвинения ближних из-за своих страданий вообще никогда не могут восприниматься убедительно, так что здесь это и заведомо негативная реакция автора на своего героя. Предание публичности конфликту отца и сына – шаг, по Пушкину, недостойный и едва ли оправдан: образ Альбера гораздо сильнее в его внутреннем страдании, в гневе на Жида, подсказывающего, как отравить отца, чем в сцене жалобы Герцогу на Барона. Хотя не следует и преувеличивать чистоту гнева Альбера на Жида: это может быть и сильный способ добиться денег, напугав простодушного советчика. Тогда вина здесь вновь перенесена на другого: "Вот до чего меня доводит/ Отца родного скупость! Жид мне смел что предложить! … Однако ж деньги мне нужны. Сбегай за жидом проклятым. Возьми его червонцы… Иль нет, его червонцы будут пахнуть ядом, как сребренники пращура его…" . Это обращение к образу Христа, возможно, и остановило Альбера, не позволило взять деньги, ведь имя Спасителя воскрешает, как символ, всю христианскую мораль, в том числе и образец отношений отца и сына. Христос готов пить чашу страдания, как определено Отцом, - Альбер не способен на подвиг христианского смирения и – всего лишь идет к Герцогу с жалобой. Отец Альбера – не благостен, страдания, принесенные сыну, - однозначное зло, Барон вообще явно полоумен, но жалоба Герцогу на отца выглядит унизительно.
Пушкин показывает, что отношения отца и сына – особые отношения, здесь не оправданы любые поступки, нарушающие суверенность этих отношений, как бы оправдательно это ни выглядело, более того – эти отношения не подсудны любым внешним требованиям справедливости или просто логики. Поэтому вмешательство Герцога не приносит добра, наоборот, на его глазах завязывается поединок отца и сына, хотя поначалу казалось, что исправить заблуждения в семье Барона будет так легко и даже величественно: "Вашего отца усовещу наедине, без шуму". Рыцарская воинственность в подобном поединке – не доблесть, а позор, Герцогу же остается вместо примирения лишь произнести мораль: "Ужасный век, ужасные сердца". Во вражде отца и сына нет ни правого и виноватого, ни победителя и побежденного. Так у Пушкина картина ожесточенности тем не менее утверждает идеал единства отца и сына – доступный лишь подлинно величественному характеру. Таким в сцене выступает Герцог, с подчеркнутой преданностью говорящий о своих предках: "Вы деду были другом;/ Мой отец вас уважал /И я всегда считал вас верным…", "В какие дни надел я на себя цепь герцогов". Конфликт отца и сына, таким образом, конфликт низкий, недостойный. Но еще раз подчеркнем: вмешательство Герцога в отношения между отцом и сыном окажется бесполезным и самонадеянным поступком, приводящим лишь к предельному ожесточению, а в конце концов и к смерти Барона. Любая внешняя власть здесь бессильна, как бессилен и общеизвестный идеал: то, что так легко осуждается извне, изменить невозможно.
Суверенность любых родовых интересов вообще утверждается Пушкиным (ср.: "Оставьте, это спор славян между собою"), обоюдная же неправота героев "Скупого рыцаря" может быть понята именно с христианских позиций: в Ветхом завете Хам наказан за то, что "открыл наготу" своего отца, когда тот был в самом презренном состоянии – пьян беспробудно (Быт., 9, 22). И очень часто сын, идущий против отца, уподоблен Хаму, независимо от мотивов поступка. Далее. Альбер мыслит о смерти отца и овладении его наследством. Но в христианстве мысль приравнена к совершенному поступку, и Альбер в душе своей совершает убийство и грабеж: "Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца, " - сказано апостолом Иоанном (1 Ио., 3, 15). Так порочность Альбера окажется не меньшей, чем порочность Барона. Главная же оценка – в невозможности оправдать конфликт отца и сына, каковы бы ни были его истоки.
Мотив вины в образе отца наиболее полно и глубоко показан в "Станционном смотрителе". Напомним само решение темы. Самсон Вырин не наделен какими-то вопиющими пороками, как Барон в "Скупом рыцаре". Однако этот услужливый отец приносит в семью горе, не меньшее, чем отец Альбера. Простодушие Самсона лишь подчеркивает его сосредоточенность на своем малом счастье: избегать конфликтов с проезжими, наслаждаться домашним уютом, горячим пуншем, любоваться заботливой дочкой, не допуская мысли о внутреннем конфликте с нею и о своей ответственности перед нею, не замечая, что весь уклад в его доме насыщен фальшивой сладостью и развратом. Его готовность всегда смягчить гнев проезжающих за счет обаяния дочери приучает Дуню к лживости, готовности ублажать сильных мира сего ради получения малых, сиюминутных благ. Это обернется против отца, но финал повести говорит именно о взаимной ответственности отцов и детей.
Большое мастерство требовалось от поэта, а также и зрелость мироощущения, чтобы изобразить порок не в вопиющем облике, а в виде повседневного, скрытого эгоизма, под маской взаимной заботы, услужливости и обаяния. Едва ли можно усомниться в том, что решение темы в "Станционном смотрителе" не представляет авторского идеала отношений отцов и детей: образ дома Выриных раскрывает злобу дня, а не истину.
Типичное решение темы у Пушкина – "Отец им не занимается, но любит" (из "Русского Пелама") – представлено в "Барышне-крестьянке", "Дубровском", "Капитанской дочке". Видимо, это, как наиболее реальное, положение и окажется ближе всего к истине.
Повесть из цикла Белкина словно искупает тягостность "Станционного смотрителя": там скрытое противостояние приводит к трагедии, здесь же открытое непокорство отцам разрешается со всей веселостью. Отец: "Ты женишься, или я тебя прокляну", но счастливое разрешение конфликта полностью совпадает с волей отца, словно сама жизнь благословила послушание детей отцам, даже таким своеобразным, как Муромский и Берестов. Пить чашу судьбы, приготовленную отцом, окажется легко и приятно. Самое сокровенное желание сына удивительным образом совпадет с суровой волей отца. Пушкин явно мечтал о таком повороте судьбы, но комическое начало повести, ее веселость подчеркивают наивность такого ожидания.
"Дубровский" кажется зеркальным отражением сюжета "Барышни-крестьянки": дружба отцов и вражда детей, притворство девушки, счастливый брак теперь заменены на вражду отцов, любовь детей, притворство Дубровского, отцовское требование брака дочери со стариком, крушение любви Маши Троекуровой и Дубровского. Если в "Барышне-крестьянке" покорность детей воле отцов выглядит счастливым и естественным финалом, то в "Дубровском" Пушкин показывает преданность детей отцам наперекор своему счастью. Владимир Дубровский, как сказано, "почти не знал отца своего", а Маша совершенно противоположна генералу Троекурову. Тем не менее, отцы, как и в "Барышне…", не жалеют ничего для своих детей. Однако Троекуров привык властвовать над своей дочерью, в то время как отец Дубровский предоставил своему сыну полную свободу. По способности видеть в своих детях особенную личность или нет и различаются уклады у Троекурова и Дубровского. Становление личности – безусловный авторский идеал, и это уже серьезный поворот темы, чего не было в "Барышне-крестьянке".
В развитие этого идеала Дубровский станет мстителем за своего отца, причем тогда, когда тот явится в самом ничтожном облике – буквально лишенным воли и разума, разоренным и бессильным. Во Владимире нет ни малейшего упрека отцу, который уже не может ничего сделать для сына и не может ничего требовать от него. Иначе – у Троекуровых: отец в полном могуществе и всячески принуждает дочь покориться его воле, выйти замуж за старика-князя. И дочь готова бежать от отца, хотя потом и подчиняется, но – скорее самой судьбе, а не собственно отцовскому желанию, в котором, заметим, больше собственной спеси, чем заботы о дочери. Подавление личности, свободы подталкивает к разрыву с отцом.
Но сравним: уже нет мысли о смерти отца (в отличие от "Скупого рыцаря"), скорее Маша становится защитницей Троекурова от мести Владимира – от неизбежной смерти. Пушкин не противопоставляет преданность отцу свободе личности, скорее речь идет о взаимной ответственности отцов и детей, а другими словами – о гармонии в этих связях: и преданность, и свобода, даже более того – именно свобода усугубляет преданность. Всякое нарушение гармонии отношений в пользу своего Я – со стороны отцов или со стороны детей – явится источником трагедии. По смыслу этого романа скорее простительна некоторая отстраненность в отношении сына у Дубровского, чем непреклонное желание произвольно руководить дочерью у Троекурова. Заметим, произвол показан даже и в том, что Троекуров может по своему желанию признавать или не признавать своих детей: гарем в его имении постоянно приносит ему потомков, "множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали под его окнами и считались дворовыми", и лишь сын от m-lle Мими был им признан. Свобода для Пушкина не есть произвол, но это истина и гармония в человеческих отношениях (ср.: "Я говорил пред хладною толпой Языком истины свободной", "Учуся в истине блаженство находить, Свободною душой закон боготворить"). Беззаконие – в обширном смысле этого слова – это разрушение гармонии, не сулящее ничего доброго и в отношениях отцов и детей. Но и здесь преданность – сильнее, поэтому Маша спасает от смерти и отца, и затем только обвенчанного с нею старика-князя. Пушкин словно сам учится у своих героев этой преданности и смирению.
Позднейшее прозаическое произведение Пушкина уже самим названием обращает нас к теме отцов и детей – "Капитанская дочка", а первое слово этой повести – слово отец…
Отец Петра Гринева больше проводил времени за чтением "Придворного календаря", чем за воспитанием сына. С этой стороны детство Петра мало чем отличается от детства Митрофанушки из "Недоросля". Батюшка едва ли не забыл возраст сына, очевидно, более задумываясь о своих бывших сослуживцах, чем о нем: "Вдруг он оборотился к матушке: "Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?". Но обращение к сыну никогда не будет у него иметь оттенок злобы или произвола. Не стремясь к мелочной опеке, он в сущности доверяет сыну, который должен стать личностью, в понимании отца – настоящим солдатом: "Да будет солдат, а не шамотон". Важно и ответное доверие сына: Петр Гринев без сомнения принимает волю отца, не подозревая в ней ничего, себе враждебного, хотя ему и приходится расстаться со своими проказами и мечтами о легкой гвардейской службе.
Поэтому первое решение темы – непоколебимое единство отца и сына, без мелочных упреков: эта связь выше того, что "отец им не занимался". Пушкин дает во сне молодого Гринева мотив искушения, когда мать велит тому идти под благословение "мужика с черною бородою" (Пугачева): "Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика? – Все равно, Петруша, это твой посаженный отец". Неясно, чем объяснить это побуждение матери, но Гринев не примет подмены ни в символическом сне, ни наяву – не желая кланяться Пугачеву как государю, отцу: преданность подлинному отцу выше любого сиюминутного блага. Пугачев не станет посаженным отцом на свадьбе Гринева, не заменит отца как новый наставник жизни, сулящий больше, чем отец подлинный. Несмотря на соблазны и угрозы, Гринев останется верен дворянскому долгу и присяге, а тем самым – и своему отцу.
Другое искушение едва преодолевает Гринев. Любовь к Маше Мироновой противопоставлена сыновней верности: Петр решает вступить в брак без благословения отца (ср., с какой легкостью готов и здесь благословить его мнимый отец – Пугачев). Это переломный момент повести, и здесь решающая роль отведена Маше: она олицетворяет чистоту и законность в судьбе Гринева. Абсолютно покорная своим родителям, Маша отказыавется от брака с Гриневым без благословения – при всей видимой несправедливости отцовского ответа на письмо Петра ("Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с которым он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым"). Воля и самоотверженность говорят здесь не только о характере Маши, но – и в этом смысл эпизода – о характере отношений отца и сына: установленный законный порядок сильнее желаний и даже самой справедливости. Человек, следующий закону, приобретает больше, чем радость жизни, - силу и словно благодарность судьбы.
В этом значение образа капитанской дочки, и не здесь ли разгадка тому, чему удивлялась Марина Цветаева: Маша едва ли не тремя годами старше Петра Гринева, именно старше, а не умнее, развитее или обаятельнее (ср. с "барышней-крестьянкой"). Она олицетворяет мудрость и метафизику, казалось бы, столь сковывающих личность устарелых нравственных заповедей. Она никак не "пустое место", как выразилась поэтесса. Ложный отец Пугачев и подлинная дочь Маша Миронова – вот две точки притяжения для подвижного характера Гринева.
Не этой ли ложностью объясняется и столь загадочное для Цветаевой преображение Пугачева в "Капитанской дочке" по сравнению с "Историей Пугачевского бунта", где он выписан совершенным злодеем: в повести ему отведена роль лукавого соблазнителя , здесь он должен быть привлекателен, но и вести к гибели. Это обольщение, которому трудно не поддаться, иначе и его вознесение в герои восстания останется непонятным, не говоря уже о роли в человеческих судьбах. Ведь дьявол приходит именно под личиной блага: "Злые люди будут преуспевать во зле, вводя в заблуждения и заблуждаясь" (2 Тим., 3, 13); "Сам сатана приобретает вид Ангела света" (2 Кор., 11, 14). Пугачев, согласно евангельской притче, "волк в овечьей шкуре" (Мф., 7,15), в этом смысл овчинного тулупа, пожалованного Пугачевым "с своего плеча". Привлекательность Пугачева не должна обольстить героев повести и ее читателей, что разъясняется именно в христианском контексте.
Для верующего человека нет слов, мудрее слов Маши Мироновой: "Буди во все
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Традиционное и новаторское в одном из произведений русской литературы XIX века
«Горе от ума» - одно из вамых злободневных произведений русской драматургии, блестящий пример тесной связи литературы и общественной жи
- Тема свободы и ее отражение в одном из произведений русской литературы
Максим Горький вошел в русскую литературу как писатель, на собственном опыте познавший жизнь с мрачных и неприглядных сторон. Он в свои
- Сатира как творческий принцип
"Сказки" Салтыкова-Щедрина составляют самостоятсльныи пласт его творчества. За небольшим исключением, они созданы в последние годы жизн
- Сатирическая проза 30-х годов
В советское время в течение многих десятилетий история нашей литературы, как и история нашего Отечества, во многом упрощалась и обеднял
- Произведения Гомера
I. Вступление. Произведения Гомера, поэмы "Илиада" и "Одиссея", являются первыми по времени известными нам памятниками древнегреческой ли
- Василий Шукшин и Владимир Высоцкий: параллели художественных миров
Ничипоров И. Б. Шукшин и В.Высоцкий как художники сформировались и заявили о себе на рубеже 1950-х – первой половине 1960-х гг., в эпоху коренн
- Телеграф в поэтическом мире Тютчева: тема и жанр
Лейбов Р.Г.Освоение технических изобретений русской культурой вообще и литературой, в частности – тема, входящая в круг интересов тарту
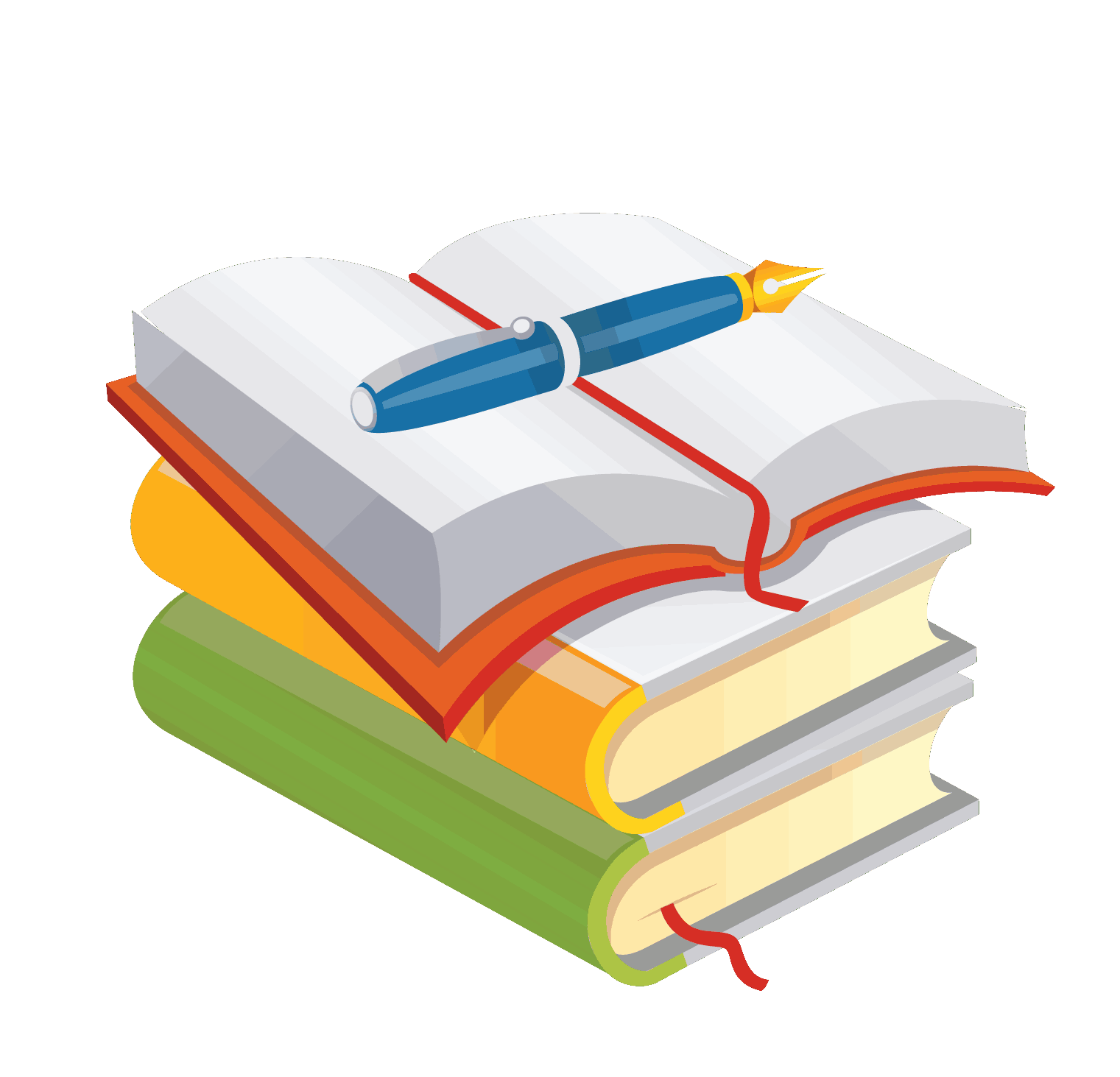 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.