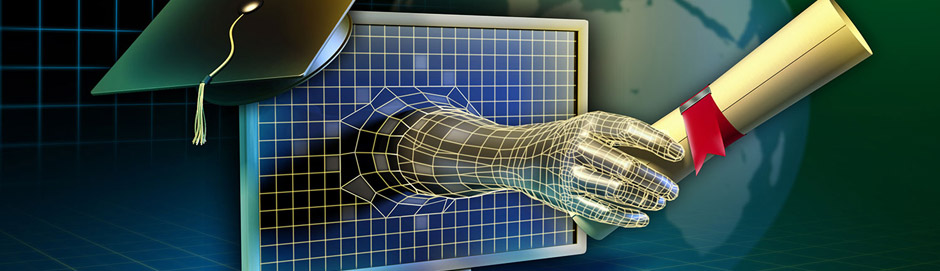Софисты: происхождение педагогики и культурного идеала
Йегер В.
Софистов называли основателями науки о воспитании. Они и в самом деле заложили основы педагогики, — и по большей части интеллектуальное образование сегодня идет теми же путями37. Но и сейчас остается открытым вопрос, является ли педагогика наукой или искусством, да и сами софисты называли свое воспитательное искусство и теорию не наукой, а "техне". Ближе всего благодаря Платону мы знакомы с Протагором, поскольку представление, которое первый дает о поведении последнего на публике, несмотря на свои насмешливые преувеличения, в основном должно сохранять верность оригиналу. Софист определяет свою профессию как "политическую техне", поскольку она обучает политической арете38. Технизация образования предстает как частный случай общего стремления эпохи разбить жизнь в ее совокупности на определенное число сознательно выстроенных и теоретически обоснованных специализаций, дающих практические знания. Мы сталкиваемся со специалистами и со специальной литературой в области математических наук, медицины, гимнастики, теории музыки, сценического искусства и т. д. Даже представители изобразительного искусства, как Поликлет, начали писать теоретические труды.
Правда, софисты усматривают в своем искусстве венец всех искусств. В мифе о возникновении культуры39, который Платон вкладывает в уста своему Протагору, чтобы объяснить сущность и позицию его техне, софист различает два этапа развития. Конечно, они мыслятся не как разведенные во времени исторические этапы, — их последовательность остается только формой, в которой миф делает наглядными значимость и необходимость высшего софистического образования. Первая стадия — техническая цивилизация. Протагор — по Эсхилу — называет ее даром Прометея, который люди получили вместе с огнем. Несмотря на обладание ею, они были бы обречены на жалкую гибель, истребляя друг друга в ужасных битвах, если бы Зевс не подарил им право, сделавшее их способными создать общество и государство. Неясно, заимствовал ли Протагор и эту черту у Эсхила, т. е. из утраченных частей трилогии о Прометее, или же воспринял ее от Гесиода, который первым прославляет право как дар Зевса богам, благодаря которому они стали отличаться от зверей, пожирающих друг друга40. Оригинально только дальнейшее развитие протагоровской мысли. В то время как прометеев дар, технические познания, предназначен только для специалистов, чувство права и закона Зевс сделал присущим всем людям, поскольку иначе государство не могло бы возникнуть. Но есть и более высокая степень проникновения в основы права и государства, которой обучает политическая техне софистов. Для Протагора это и есть образование в собственном смысле слова и духовная скрепа, которая не дает распасться всему человеческому обществу и его цивилизации.
Не у всех софистов было столь высокое представление об их профессии, в своей массе они довольствовались тем, что передавали свое знание людям. Но для справедливой оценки всего движения все-таки необходимо исходить из его наиболее яркого представителя. Центральное положение, которое Протагор, отводит человеческому образованию жизни в целом, характеризует интеллектуальную цель его воспитания как ярко выраженный "гуманизм". Это заключается уже в более высоком положении человеческого образования по сравнению со всей сферой технического в современном понимании этого слова, — с цивилизацией. Это основополагающее и ясное различение между техническим умением и знанием и образованием как таковым стало основой гуманизма.
Правда, следовало бы поостеречься безоговорочно отождествлять навык специалиста с современным, христианским по своему происхождению понятием профессии как призвания, — последнее шире, чем древнегреческое понятие техне41. Профессия в нашем смысле слова — это и профессия государственного человека, воспитанием которого хочет заниматься Протагор, в греческом же, напротив, нужна особая смелость, чтобы назвать ее техне, оправдываемая только тем, что греческий язык не знает никакого другого слова, чтобы выразить то, что в деятельности политика опирается на выучку и приобретенные знания. Также совершенно ясно: Протагор заботится о том, чтобы отделить эту свою техне от технических профессий в более узком смысле слова и представить ее как нечто всеохватывающее, всеобщее. На том же самом основании он резко противопоставляет свою мысль об "общем" образовании в том числе и воспитанию остальных софистов с их простым реальным образованием. С его точки зрения, "они прямо-таки развращают молодежь". Хотя последняя приходит к софистам только для того, чтоб вырваться из сферы технически-ремесленного, они против воли снова приводят ее к тому же техническому знанию42. Воистину "общим" для Протагора является только политическое образование.
Этим пониманием сущности "общего" образования человека он всего лишь извлекает сумму исторического развития греческого воспитания43. Этический и политический момент — основная сущностная черта истинной пайдейи. Только позднейшие эпохи добавили к этому новый, чисто эстетический тип гуманизма или даже попытались заменить им прежний, поскольку для них государство уже не стояло на первом месте. Для классической же эпохи эллинства существенна именно связь всякого высшего образования с идеей государства и общества. Мы используем слово "гуманизм" для обозначения идеи, прорвавшейся в софистике из самых глубин греческого духа, по зрелом размышлении и в сущностном смысле, а не как простой исторический пример. Для Нового времени, конечно, понятие гуманизма связано с сознательным возвращением нашего образования к античным истокам. Но это последнее основывается лишь на том обстоятельстве, что наша идея "общего" образования человека своими историческими корнями уходит именно туда. По своей сути гуманизм в этом смысле — создание греков. Лишь их непреходящее значение для человеческого духа делает историческое обращение к античности необходимым и существенно важным для нашего воспитания44.
В остальном с самого начала следует заметить, что гуманизм при всем постоянстве своих главных черт развивался весьма оживленно и не ограничился рамками протагоровского типа. Платон и Исократ восприняли мысль софистов об образовании и дали ей каждый свое направление45. Нет ничего более характерного для этой метаморфозы, чем то обстоятельство, что Платон в конце своей жизни и творческого пути, в "Законах", превращает знаменитое высказывание Протагора, которое именно в силу своей многозначительности является таким важным для его вида гуманизма — "Человек — мера всех вещей" — в аксиому: "Мера всех вещей — бог"46.
При этом мы должны вспомнить, что Протагор говорил о божестве, что он не в состоянии сказать, как с ним обстоит дело: ни то, что оно существует, ни что его не существует47. Мы должны тут же перед лицом этой платоновской критики основ софистического воспитания со всей остротой поставить вопрос: Являются ли религиозный скепсис и индифферентность, а также нравственный и гносеологический "релятивизм", с которыми сражается Платон и которые делают его ожесточенным противником софистов в течение всей его жизни, существенными для гуманизма?48 Ответ не может быть получен из утверждения одиночки, он также должен быть объективно дан самой историей. Наше дальнейшее повествование будет неоднократно касаться этой проблемы и узнавать в ней борьбу образования и культуры за религию и философию, — борьбу, достигшую своего поворотного пункта в мировой истории благодаря принятию христианства в поздней античности49.
Забегая вперед, мы можем сказать здесь об этом только следующее. Древнеэллинское воспитание до софистов вообще незнакомо с современным разделением религии и культуры, оно глубоко коренится в религиозном. Пропасть возникает только в софистическую эпоху, которая одновременно становится и временем возникновения сознательной идеи воспитания. Релятивизация традиционных жизненных норм и разочарование в возможности разрешть религиозную загадку, которое мы обнаруживаем у Протагора, безусловно, были не случайно связаны с его высокой идеей образования человека. Осознанный гуманизм мог возникнуть из великой воспитательной традиции эллинов, вероятно, лишь в тот момент, когда те высочайшие воспитательные ценности были поставлены под вопрос. Прежде всего в нем действительно четко различимо возвращение к скудной основе "простого" человеческого существа.
Воспитание, которое всегда нуждается в какой-либо норме в качестве исходного пункта, теперь, когда имевшее силу содержание норм утекает меж пальцев, прикрепляется к форме человека, оно становится формальным50. Такие ситуации повторялись в истории, и всегда с ними был тесно связан гуманизм. С другой стороны, для гуманизма столь же важно, что в этой формальной позиции он намечает выход за свои собственные рамки, как назад, так и вперед: назад — к полноте религиозных и нравственных воспитательных сил исторической традиции как на подлинный "ум" как таковой, в котором рациональное понятие, опустошенное до последней абстракции ума, должно снова завоевать свое конкретное жизненное содержание; вперед — к религиозной и философской проблеме такого понимания бытия, которое, оберегая, охватывает человеческое существо как нежный корень, но при этом возвращает человеку плодородную почву, где он мог бы укорениться. Какую позицию мы занимаем относительно этого фундаментального для любого образования вопроса, является решающим для суждения о значении софистов. С исторической точки зрения все зависит от того, чтобы выяснить: завершил ли Платон первый гуманизм, который знает история, — гуманизм софистов, — или же усовершенствовал его?
Позиция по отношению к этому историческому вопросу означает не что иное, как profession de foi (исповедание веры – франц.). Если оставаться в рамках чистой истории, то фактически этот вопрос кажется уже давно решенным: идея образования человека в том виде, в каком ее провозгласили софисты, конечно, имела большое будущее, но не являлась окончательным творением51. Ее осознание формы имело неоценимый практически-воспитательный эффект вплоть до сегодняшнего дня. Но именно ее высочайшие притязания потребовали более глубокого обоснования средствами философии и религии. По существу в платоновской философии приобретает новую форму религиозный дух древнейшего эллинского воспитания от Гомера до трагедии. Платон выходит за рамки образовательной идеи софистов отступая назад52.
Решающий элемент в софистике — осознанная воспитательная идея как таковая. Если мы оглянемся на тот путь, который проделал греческий дух от Гомера до аттического периода, — то эта мысль покажется не чем-то неожиданным, а исторически необходимым и зрелым плодом общего процесса развития. Она представляет собой выражение стойкого стремления всего поэтического творчества и всей работы мысли эллинов к нормативному выражению формы человека. Это художественное по своей сути стремление побуждало — особенно в столь философски одаренном народе — к осознанию воспитательной идеи в высоком смысле слова, как мы ее здесь понимаем.
Представляется вполне естественным, что все предыдущие творческие достижения греческого духа софисты связывали с этой образовательной идеей и рассматривали их как данное ей содержание. Воспитательная сила поэтических произведений для эллинского народа была изначально неоспоримой. Ее воплощение в понятии образования произошло с необходимостью в тот момент, когда сознательное воспитние перестало быть адресовано исключительно детскому возрасту, но особенно активно обратилось к молодому человеку, и когда возникло представление о том, что у человеческого воспитания нет фиксированных временных границ. Тогда сразу же возникла и пайдейя взрослого человека. Понятие, ранее обозначавшее лишь процесс воспитания как таковой, теперь расширило сферу своего значения в сторону объективности, содержательности, точно так же как наше слово образование или равнозначное латинское cultura, превратившееся из процесса образования в обозначение результата образования, а затем содержания образования, и в конечном итоге охватившее весь духовный мир образования, куда конкретный человек получает доступ в силу рождения как представитель своего народа или определенного социального круга. Историческая конструкция этого образовательного мира достигает своей вершины в осознании образовательной идеи. Потому кажется совершенно естественным и само собой разумеющимся, что греки начиная с IV века, когда это понятие обрело окончательную кристаллизацию, стали называть словом "пайдейа" — мы переводим его как "образование" или заимствованным латинским словом "культура" — все зрелые формы и все духовное творчество, все достояние и все содержание своей традиции.
С этой точки зрения софисты — явление центральное. Они — творцы культурного сознания, в котором греческий дух обретает свое завершение и достигает внутренней уверенности в своей форме и направлении движения. То, что они помогли прорваться на поверхность этому понятию и этому сознанию, является более важным, нежели то, что они не придали ему окончательной формы. Поскольку софисты в эту эпоху разложения традиционных форм бытия донесли до сознания окружающего мира образование человека как великую задачу, которую их народ получил в своей истории, они обнаружили точку, на которую всегда было нацелено ее развитие и из которой должно было исходить любое осознанное жизнестроительство. Осознание — вершина, но вершина поздней эпохи. И это — другая сторона явления. Даже если утверждение, что в период от софистов до Платона и Аристотеля осуществлялся дальнейший прогресс в развитии греческого духа, и не нуждалось в пояснении, все равно остаются в силе слова Гегеля, что сова Минервы начинает свой полет только в сумерки.
Мировое господство, первыми провозвестниками которого являются софисты, греческий дух покупает ценой своей молодости. Можно понять, что Ницше и Бахофен желали переместить эту вершину в эпоху до пробуждения ratio, например, к мифологическим истокам, Гомеру, или в трагический век. Но эта романтическая абсолютизация ранних эпох все-таки невозможна, поскольку развитие духа наций, как и индивидуумов, несет свой непреложный закон в себе самом, и его влияние на того, кто переживает его исторически, может быть только двойственным. Мы тяжело переживаем утрату, которую несет с собой развитие духа, но совершенно не можем обойтись без новых созданных им сил, — мы слишком хорошо знаем, что только при наличии их мы готовы и способны так свободно восхищаться ранним этапом. Мы неизбежно оказываемся в этой позиции, поскольку сами принадлежим позднейшему этапу культурного развития и в некоторых отношениях приходим к самим себе, лишь оттолкнувшись от софистики. Она "ближе" нам, чем Пиндар или Эсхил. Зато мы тем более нуждаемся в последних. Именно на примере софистов мы понимаем, что "длительность" ранних этапов в историческом строительстве образования — не пустое слово, потому что мы лишь тогда можем принять новый этап, когда прежний одновременно включается в это образование.
О каждом из софистов в отдельности мы знаем слишком мало, чтобы очертить индивидуальный образ воспитательного метода и цели хотя бы главных представителей софистики. То, что они сами придавали этим различиям чрезвычайно большое значение, показывает сравнительная характеристика платоновского "Протагора", и все же расхождение между ними было не столь велико, как того хотело их честолюбие. Причина недостатка сведений заключается в том, что софисты не оставили литературы, которая бы пережила их надолго. Сочинения Протагора, который и в этом аспекте был в преимущественном положении, в отдельных случаях читали еще в поздней античности, хотя и они тогда считались все равно что исчезнувшими53. Отдельные, скорее научные работы софистов еще несколько десятилетий были в употреблении, однако в общем и целом софисты не были учеными, их целью было оказать влияние на современность. Их риторическая эпидейктика была — используя слова Фукидида — не достоянием на века, а, скорее, блестящим выступлением ради моментального эффекта. При том, что у них были и более глубинные воспитательные устремления, основная их сила сосредоточивалась в воздействии на живых людей, а не в литературной деятельности, что и естественно.
Сократ даже превзошел их в этом отношении, он никогда ничего не писал. На наш взгляд кажется ничем не восполненной утратой то, что мы не можем более пристально взглянуть на их воспитательную практику. И все же фрагментарность наших сведений об их жизни и воззрениях не так важна, поскольку от нее мало что зависит. Мы будем затрагивать эту проблематику лишь в той мере, в какой речь идет о теоретических основах их воспитательной деятельности. И здесь прежде всего особое значение имеет осознание образовательного процесса, идущее рука об руку с осознанием образовательной идеи. Оно предполагает определенное воззрение на данности воспитательной деятельности, в особенности, на анализ человека. И хотя оно еще примитивно в своих элементах — по сравнению с современной психологией оно приблизительно так же примитивно, как учение о физических стихиях досократиков по сравнению с современной химией, однако о сущности вещей психология знает сегодня не больше, чем софистическая теория воспитания, а химия — не больше, чем Эмпедокл или Анаксимен, и, следовательно, мы можем и сегодня восхищаться первозданными принципиальными педагогическими установками софистов.
Продолжая возникший примерно веком ранее спор между воспитанием благородного сословия и политико-демократической концепцией, который мы встречали уже у Феогнида и Пиндара54, софистика исследует изначальные предпосылки воспитания самого по себе, проблему соотношения "природы" и сознательного воспитывающего воздействия на становление человека. Было бы бесцельным занятием приводить многочисленные места из современной литературы, которые являются эхом этих обсуждений. Они доказывают, что софисты привили это сознание всем кругам населения. Слова меняются. но суть остается та же: софисты поняли, что природа — есть та основа, на которой должно строиться любое воспитание. Само же воспитание осуществляется как обучение, т. е. преподавание, и как упражнение, делающее изученное второй природой55. Здесь предпринята попытка синтеза противоположных точек зрения благородного воспитания и рационализма под знаком отречения от аристократической этики крови.
Место божественного происхождения занимает теперь общее понятие природы человека во всей его индивидуальной случайности и многозначности, вместе со своим гораздо большим охватом. Это громадный и чреватый последствиями шаг, он стал возможен только с помощью молодой медицинской науки, которая тогда переживала эпоху бурного развития. Долгое время она оставалось примитивным фельдшерским навыком, в сочетании с большим количеством народных предрассудков и заклинаний, — до того, как расцвет естествознания и формирование упорядоченной эмпирии в Ионии, начал распространяться и на лечебное искусство, заставив врачей приступить к научному наблюдению за человеческим телом и происходящими в нем процессами. В кругах, занимавшихся научной медициной, возникло понятие человеческой природы, с которым мы так часто сталкиваемся у софистов и их современников56.
Понятие природы было перенесено с целого мира на единичное, на человека. Здесь оно получило свою индивидуальную окраску. Человек подлежит определенным правилам, которые ему предписывает его собственная природа и из познания которых как в здоровом, так и в больном состоянии должен исходить его образ жизни, если он желает остаться на правильном пути. От медицинского понятия человеческой природы, которая здесь cначала воспринимается как телесный организм определенного склада, а затем рассматривается как таковой, скоро перешли к более широкому понятию человеческой природы, которое софисты положили в основание своей воспитательной теории, вкладывая в него представление о состоящем из тела и души целом, но прежде всего — о внутреннем устройстве человека. В похожем смысле использует понятие человеческой природы в то время и историк Фукидид, но, в соответствии со своим предметом, он превращает его в обозначение общественной и нравственной природы человека. Идею человеческой природы в том виде, в каком она была впервые понята здесь, ни в коем случае нельзя воспринимать как нечто само собою разумеющееся, она сама — основополагающее деяние греческого духа. Только благодаря ей становится возможным появление самостоятельной теории воспитания57.
Глубокие религиозные проблемы, заложенные в слове "природа", софисты не развивали. Определенная доля оптимистической веры, что природа человека, как правило, поддается воспитанию и способна к добру, служит им предпосылкой; несчастная либо склонная к злу природа — исключение. Как известно, это тот пункт, на котором во все времена базировалась религиозная критика гуманизма со стороны христианства. Педагогический оптимизм софистов, конечно, не последнее слово греческого духа в ответ на этот вопрос, но если бы греки исходили из общего сознания греха вместо идеала формирования человека, то они никогда не пришли бы к какой-либо педагогике и культурному идеалу. Достаточно вспомнить всего лишь о сцене с Фениксом в "Илиаде", о Пиндаре и о Платоне, чтобы измерить, как глубоко с самого начала греки осознавали проблематичность всякого воспитания.
Естественно, это сомнение прежде всего несли в себе аристократы. Пиндар и Платон никогда не разделяли демократических иллюзий о просветительском образовании масс. Плебею Сократу суждено было вновь открыть это аристократическое сомнение. Нужно вспомнить слова глубокого разочарования, высказанные Платоном в VII письме о том, насколько незначительное воздействие может оказать знание на человеческую массу, и о причинах, в силу которых он не может быть вестником спасения для бесчисленных людей, а, напротив, плотно замыкает круг своего общения58. Но нельзя забывать одновременно и о том, что та же самая греческая аристократия духа вопреки этому стала исходным пунктом всех более высоких и осознанных форм воспитания людей, и тогда будет понятно, что именно в этой внутренней антиномии между серьезным сомнением в возможности воспитания и непрерывным стремлением его осуществить и заключается вечное величие и плодотворность греческого духа.
Между этими двумя полюсами находят свое место и христианское осознание греха со своим культурным пессимизмом, и софистический воспитательный оптимизм. Было бы хорошо распознать его в рамках определяющих предпосылок его времени, чтобы тем точнее оценить его действительные заслуги. Эта оценка не может обойтись без критики, — поскольку то, чего хотели и чем занимались софисты, все еще остается незаменимым и для нашего времени.
Никто не увидел так проницательно и не определил так захватывающе политическую обусловленность софистического образовательного оптимизма, как его великий критик Платон. Его "Протагор" до сих пор остается неисчерпаемым источником, поскольку в этом произведении воспитательная практика софистов и их образ мыслей рассматривается как великое историческое единство, и неопровержимо раскрываются его социальные и политические предпосылки. А они всегда одни и те же там, где образовательная ситуация, с которой столкнулись софисты, исторически повторяется. Индивидуальные различия софистических воспитательных методов, которыми так гордились их первооткрыватели, дают Платону лишь повод повеселиться. Личности Протагора из Абдер, Гиппия из Элиды и Продика с Кеоса выведены одновременно — все они в один и тот же момент оказываются гостями богатого афинянина Каллия, который превратил свой дом в гостиницу для знаменитых интеллектуалов59. При этом, несмотря на все различия, бросается в глаза очевидная семейная близость софистов.
Протагор, как самый значительный среди них, сам предложивший воспитать политическую арете у юного стремящегося к знанию афинянина, которого представил ему Сократ, раскрывает — отвечая на скептические возражения последнего — основания своей убежденности в социальной воспитуемости человека60. Он исходит из наличного состояния общества. Любой человек обычно не скрывает своей неспособности к определенному искусству, для которого требуются особые задатки, поскольку в этом нет никакого позора. Напротив, в нарушении закона никто открыто не сознается, стремясь по меньшей мере сохранить видимость законного действия. Если бы человек не стал этого делать и сознался бы открыто в своей неправоте, то его поступок приняли бы не за откровенность, а за безумие. Ведь все предполагают, что каждый должен быть наделен разумом и справедливостью. Возможность овладеть политической арете следует и из господствующей системы публичных наград и наказаний. Никто не сердится на другого человека за врожденные недостатки, от которых тот не может избавиться, — за них он не заслуживает ни похвал, ни наказаний. Но и то и другое, и похвалы, и наказания, раздаются человеческим обществом там, где речь идет о благах, приобретаемых сознательным усилием и обучением. Человеческие проступки, наказуемые законом, должны, стало быть, иметь такую природу, что благодаря воспитанию их можно избежать, иначе вся система, на которой строится общество окажется несостоятельной. Протагор выводит то же самое и из смысла наказания. В противоположность древнеэллинскому каузальному восприятию наказания как возмездия за то, что тот или иной человек совершил проступок, он склоняется к очевидно современной теории, предусматривающей целесообразное использование наказания как средства исправления преступника и предупреждения: наказание делает злодея лучше и устрашает других61. Это педагогическое восприятие наказания основывается на предпосылке воспитуемости человека. Гражданская добродетель — основа государств, без нее не могло бы существовать никакое общество. Кто непричастен ей, того нужно воспитывать, наказывать и направлять к благу, пока он не станет лучше, если же он неисцелим, то его нужно изгнать из общества или же убить. Таким образом, не только уголовное право, но и государство является для Протагора воспитательной силой. Точнее говоря, это современное правовое государство, основанное на законах, которое, по мнению Протагора, было воплощено в Афинах, и чей политический дух говорит из этой последовательно педагогической концепции наказания и ищет в ней своего оправдания.
Это воспитательное восприятие правопорядка и законодательства в государстве предполагает систематическое воздействие государства на воспитание своих граждан, чего, впрочем, как было сказано выше, не было в греческих государствах нигде, кроме Спарты. Следует заметить, что софисты не выступали за огосударствление образования, хотя это требование с точки зрения Протагора, выглядело вполне естественным. Но именно эту лакуну и заполнили софисты, предлагая свое образование по частному соглашению. Протагор указывает, что уже сейчас жизнь индивида с момента его рождения подвержена воспитательным воздействиям. Кормилица, мать, отец, педагог состязаются за формирование ребенка, уча его и показывая ему, что правильно и что неправильно, что прекрасно и что отвратительно. Как вывороченное и изогнутое дерево, они выправляют его угрозами и ударами. Затем он идет в школу, научается порядку и овладевает чтением, письмом и искусством игры на кифаре.
Когда он преодолевает эту ступень, учитель читает ему стихотворения хороших поэтов и заставляет учить их наизусть62. Там много наставлений и рассказов, прославляющих выдающихся людей, чей пример должен побудить ребенка к подражанию. Наряду с этим на занятиях музыкой в нем воспитывается "софросине" (здравомыслие) и воздержание от дурных поступков. Затем следует изучение лирических поэтов, чьи произведения исполняются в форме музыкальных композиций. Они прививают душам юношей ритм и гармонию, укрощая их, поскольку человеческая жизнь нуждается в эвритмии и истинной гармонии. Последняя должна проявляться во всех речах и поступках истинно образованного человека63. Затем детей отправляют в гимнастическую школу к педотрибу, чтобы закалить их тело, — чтобы оно стало настоящим слугой доблестного духа и человек не оказался бы несостоятельным в жизни из-за телесной слабости. Протагор оказывает особое уважение благородному кругу, перед которым он произносит свою речь об основных предпосылках и этапах человеческого образования, указывая на то, что состоятельные семьи дольше воспитывают своих детей, нежели беднейшие классы. Сыновья богатых раньше начинают учиться и позже завершают этот процесс64. Этим он хочет доказать, что каждый человек дает своим детям такое тщательное образование, какое только может, так что воспитуемость человека есть communis opinio (общее мнение) всего мира, и что каждый занимается воспитанием, хотя бы и не задумываясь над этим.
Для нового понятия образования характерно, что Протагор не ставит точку в воспитании в тот момент, когда ребенок оканчивает школу. В определенном смысле оно тогда только и начинается. И вновь мы имеем дело с доминирующей в то время концепцией государства, которая отражается в теории Протагора, когда он рассматривает государственные законы как воспитательный фактор политической арете. Собственно государственно-гражданское воспитание начинается с того, что расставшийся со школой молодой человек, вступая в реальную жизнь, вынужден под влиянием государства изучать законы и жить по их образцу и примеру65. Здесь можно наглядно видеть преображение старой аристократической пайдейи в современное гражданское воспитание. Мысль о примере господствует в благородном воспитании начиная с Гомера. В личном примере норма, которой должен следовать воспитанник, ощутимо предстает перед ним, и восхищенный взгляд на ее воплощение в идеальном человеческом образе должен побудить его к подражанию. Этот личный элемент подражания отпадает перед лицом закона. И хотя в поэтапной системе воспитания, которую развивает Протагор, он исчезает не совсем, однако отодвигается на более низкий уровень, оставаясь связанным с элементарным, еще чисто содержательным уроком поэзии, который, как мы видели, обращается не к форме, не к ритму и гармонии духа, а к морально-регулятивному и историческому примеру. Наряду с этим нормативный элемент образца удержался и усилился в восприятии закона как высшего воспитателя граждан, поскольку закон — наиболее общее и обязывающее выражение действующей нормы. Протагор образно сравнивает жизнь по закону с элементарным образованием на уроке письма, где дети должны научиться не залезать при письме за линию. Такой же прописью является и закон, изобретение превосходных древних законодателей. Протагор сравнивал воспитательный процесс с выпрямлением дерева; если правовой язык обозначает наказание, которое возвращает отступившего от прописи в ее рамки, как "прямое направление", то, по мнению софиста, в этом также сказывается воспитывающая функция закона66.
В афинском государстве закон был не только "царем", — в те времена охотно цитировали это пиндаровское выражение67, — он был еще и высокой школой гражданственности. Эта мысль совершенно чужда современному ощущению. Закон больше не является творением старых досточтимых законодателей; он — продукт момента, чем он в скором времени должен был стать и в Афинах, и поэтому даже для специалистов он становится необозримым. В наши дни трудно было бы себе представить, что Сократу в темнице в тот момент, когда ему открывается путь к бегству и свободе, являются законы как живые фигуры и наставляют его оставаться верным им и в час искушения, ибо именно они воспитывали его и защищали в течение всей жизни и ибо они — основа его существования. Эту сцену из платоновского "Критона" напоминает то, что Протагор говорит о законе как воспитателе68. Тем самым он всего лишь формулирует дух правового государства своей эпохи. Мы почувствовали бы родство его педагогики с аттическим государством, даже если бы он многократно не ссылался на афинские обстоятельства и не высказывал бы в открытую, что аттическое государство и его устройство основываются именно на этом восприятии человека. Сам ли Протагор пришел к этим мыслям или же Платон вложил их в его уста в гениальном, но художественно свободном воспроизведении его дидактической речи в одноименном диалоге, — мы никогда не узнаем. Достоверно лишь одно: Платон в течение всей жизни придерживался мнения, что софистическое воспитание — искусство, скопированное с реальной политической ситуации.
Все, что высказывает Протагор у Платона, относится к вопросу о возможности воспитания. Но софисты выводят эту возможность не только из государственно-общественных предпосылок и из политического и морального common sense, — они помещают ее в более широкий контекст. Проблема формируемости человеческой природы есть частный случай соотношения природы и искусства вообще. Для этой стороны теории чрезвычайно поучительны рассуждения Плутарха в его основополагающем для ренессансного гуманизма трактате о воспитании юношества, издававшемся бесчисленное количество раз и в содержательном отношении целиком воспринятом новейшей педагогикой. Сам автор признает во введении69, — впрочем, мы и без того бы это заметили, — что он знаком с предшествующей литературой о воспитании и использует ее. Это распространяется не только на один-единственный пункт, где он ссылается на нее, но и на следующую главу, где идет речь о трех основополагающих факторах любого образования — природе, учебе, привычке. Само собой разумеется, что здесь он стоит на почве старой педагогической теории.
Для нас очень кстати, что наряду с этой "педагогической триадой", софистическое происхождение которой подтверждается и из других источников, Плутарх сохранил ряд мыслей, тесно связанных с этим учением и ярко освещающих историческую значимость образовательного идеала софистов70. Источник Плутарха объясняет соотношение трех упомянутых элементов воспитания на примере земледелия как основного случая обработки природы с помощью осознанного человеческого искусства. Для правильного земледелия прежде всего нужна хорошая почва, затем — разбирающийся в своем деле земледелец и, наконец, хорошее семя. Почва для образования — человеческая природа, земледельцу соответствует воспитатель, а семя — это устно передаваемые учения и предписания. Где все три условия полностью выполнены, возникает нечто выдающееся. Но и там, где небогато одаренная натура получает должный уход благодаря познанию и приучению, имеющиеся в ней недостатки могут быть до определенной степени выравнены, и напротив, даже богато одаренная натура погибает, если оказывается в небрежении. Именно этот опыт делает воспитательное искусство необходимым.
Отвоеванное у природы, в конечном счете, оказывается сильнее, чем сама природа. Хорошая почва становится бесплодной, если за ней не ухаживать, причем, она будет тем хуже, чем лучше была от природы. Не очень тучная земля, если ее правильно и непрестанно обрабатывать, в конце концов будет приносить прекрасные плоды. Точно так же дело обстоит и с садоводством, другой половиной сельского хозяйства. Тренировка тела и дрессировка зверей — тоже доказательство формируемости "фисис" (природы). Только работу нужно начинать в правильный, наиболее благоприятный для формирования момент, — у человека это детский возраст, когда природа еще податлива и усвоенное легко проникает в душу и накладывает на нее свой отпечаток.
К сожалению, теперь нет возможности в точности отделить в этом рассуждении ранний этап от позднего. Плутарх, очевидно, сочетал учения послесофистической философии с софистическими воззрениями. Так, представление о формируемости (eЬplaston) юной души, вероятно, восходит к Платону71, а прекрасная мысль, что искусство — это выправление природных недостатков, вновь появляется у Аристотеля, — если, конечно, и тот и другой не предполагают предшественников-софистов72. Меткая параллель с сельским хозяйством, напротив, кажется с
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Татарское национальное искусство: к проблеме этнокультурного единства
Гузель Валеева-СулеймановаАктуальные аспекты проблемы единства татарской нации могут быть конкретизированы в анализе искусства, его ф
- Арабская литература
Малюга Ю.Я. Роль арабов в мировой цивилизации связана с возвышением и распространением ислама и основанием империи халифов. Сведения о д
- Мусульманское искусство татар Среднего Поволжья: истоки и развитие
- Государственный Русский Музей
- Раифский монастырь
Раифский Богородицкий Мужской Монастырь.Недалеко от Зеленодольска находится этот знаменитый монастырь, место пребывания одной из важн
- Петроглифы
- Золотое кольцо
Около 30 лет назад несколько древних городов России к северо-востоку от Москвы были объединены в туристический маршрут, получивший назва
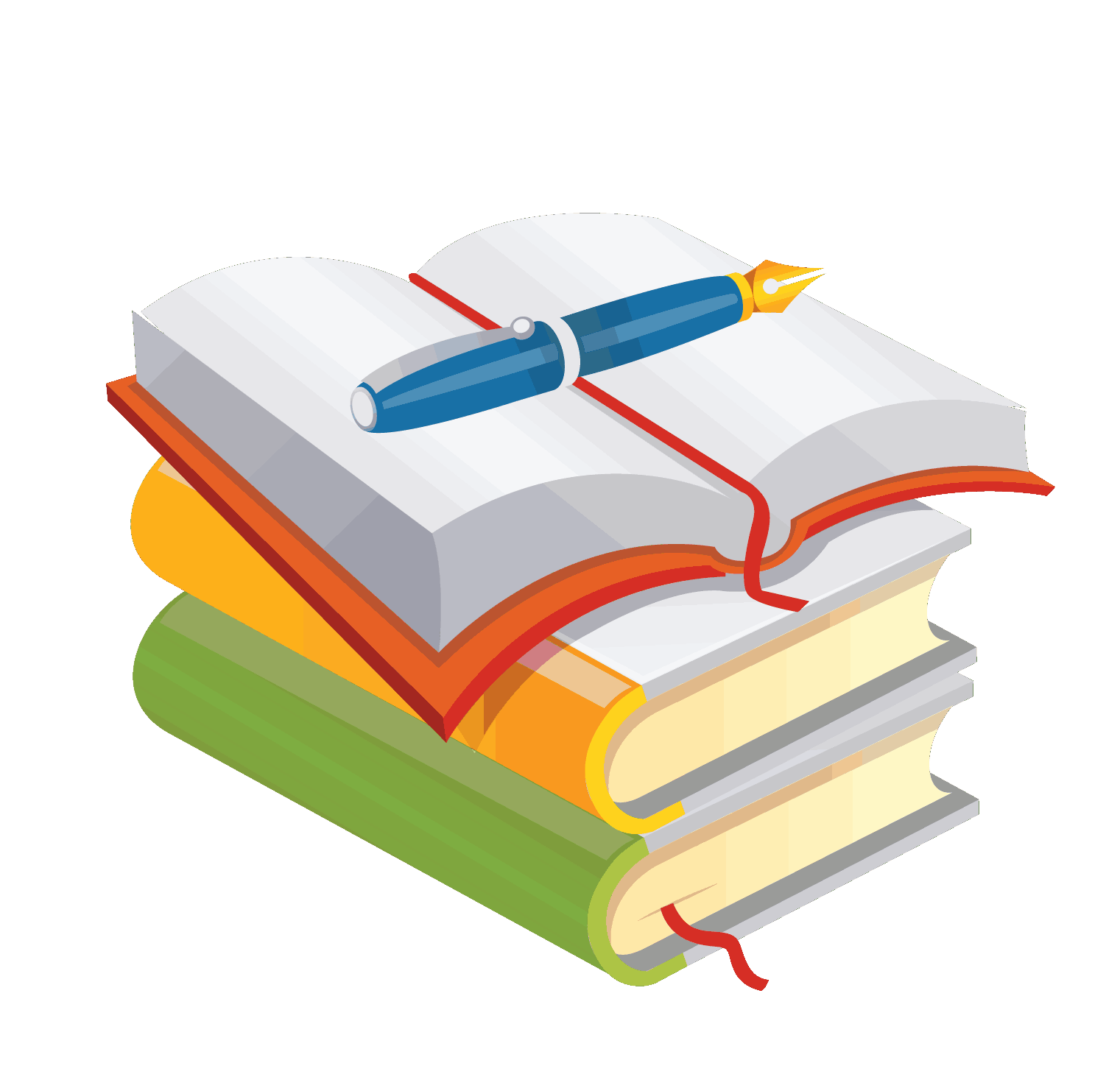 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.