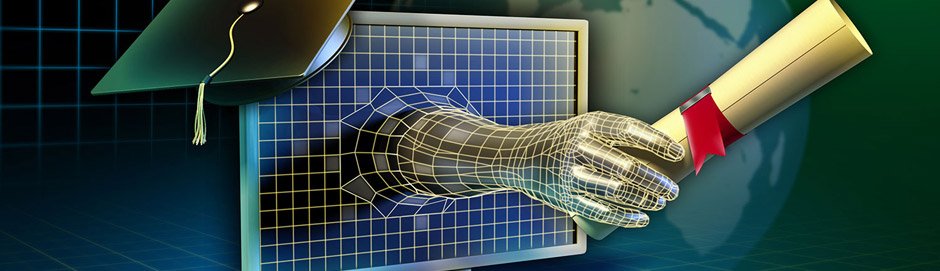Смысловая категория сна в художественном мышлении Рихарда Вагнера
Гордон Александр Олегович
Курсовая работа
Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского
Москва 2007
Мой друг! Кто сам творит мечты, тот должен помнить сны свои!
В виденьях сна, поверьте мне, нам часто светит правды луч;
и можно “толкованьем снов” узнать мир песен и стихов...
Рихард Вагнер. «Нюрнбергские майстерзингеры», 3 д.
Избранные в качестве эпиграфа слова Ганса Закса, адресованные им Вальтеру, вполне могут быть истолкованы как полезное наставление, данное самим Вагнером каждому, кто стремится к глубокому осмыслению его искусства. «Толкованье снов» в вагнеровских драмах – труд исключительно интересный и плодотворный. Он связан с проникновением в тайны мышления Вагнера – композитора-драматурга, с постижением психологии его героев, с выявлением скрытых пружин вагнеровской оперной драматургии.
Упоминания о снах встречаются с заметной частотой практически во всех операх композитора – от первой («Феи») до последней («Парсифаль»). Именно частота и постоянство претворения Вагнером одного и того же и, вместе с тем, постоянно меняющегося образа – образа сна – послужили поводом для обращения к этой теме.
Интересной задачей представляется возможность:
выявить своеобразие интерпретации Вагнером образа сна в сравнении с его трактовкой другими романтиками;
проследить эволюцию авторского понимания данного образа на протяжении творческого пути композитора;
рассмотреть, как в разных операх Вагнера раскрывается различный символический смысл образа сна;
определить роль эпизодов, связанных с образами сна в сюжетной и музыкальной драматургии опер.
Эта проблематика рассматривается на материале опер дрезденского периода, а также «Кольца нибелунга» и «Тристана и Изольды».
Различные метаморфозы, которые претерпевает образ сна, имеют настолько последовательный и целенаправленный характер, что со временем он занимает положение смысловой категории, которой композитор сознательно оперирует. Сон стоит в ряду таких важнейших категорий вагнеровского художественного мышления, как Природа, Любовь, Смерть, Необходимость. Сон представляет собой такую же естественную составляющую человеческой жизни, как и Любовь, чувство единения с Природой, желание жить и необходимость умереть. А поскольку главной сущностью, интересовавшей Вагнера в искусстве, всегда оставался человек – его естество и его ценность – то, изучая наследие композитора, просто необходимо иметь в виду такую категорию как сон. Ибо, являясь неотъемлемым компонентом бытия его героев, сон выходит за рамки элементарного бытового понимания, становясь значимой ячейкой в сюжете, в драматургии вагнеровских оперных произведений.
Тем не менее, во всей обширнейшей литературе о Вагнере, трудов на данную тему почти не существует. Единственной статьей, заголовок которой на первый взгляд кажется сходным по замыслу, является работа музыковеда Марины Черкашиной «Сны и сновидения в биографии и творчестве Рихарда Вагнера («Лоэнгрин» – «Парсифаль»)»(1). На самом деле, проблема сна в творчестве Вагнера в данной работе не раскрывается. Основную часть статьи составляет анализ отношений действующих лиц опер «Лоэнгрин» и «Парсифаль» с позиций аналитической психологии К.-Г. Юнга. Автор выделяет у Юнга четыре архетипа человеческой психики – Персону, Тень, Аниму (Анимус) и Самость – и рассматривает их. Некоторые положения статьи выглядят неубедительными и даже затемняющими суть вещей, как, например, «преображение Эльзы в Гутруну» или «слияние в образе Кундри черт Эльзы и Ортруды, то есть превращение ее в сложный образ Святой Блудницы». Автор статьи, прибегая к цитате из письма Вагнера к Матильде Везендонк – «Итак, мы вновь увиделись с тобой. Но разве это был не сон?.. Кажется, будто я почти не видел тебя. Густые туманы простерлись между нами…», – неожиданно напрямую связывает эти настроения с музыкой Vorspiel’я к «Лоэнгрину»(2).
Почти вплотную к тематике снов у Вагнера подошел французский профессор-филолог Анри Лиштанберже в своей монографии «Рихард Вагнер как поэт и мыслитель». Рассматривая личность и творчество композитора, главным образом, сквозь призму эволюции его мышления, Анри Лиштанберже время от времени касается проблемы сознательного и бессознательного, которая волновала воображение Вагнера. Эта антитеза – один из множества примеров на страницах монографии, говорящих о дуалистическом мышлении композитора, которое наложило отпечаток на его творческое отношение ко сну. Интерес представляет анализ философского содержания вагнеровских драм, проведенный Лиштанберже с необыкновенно чутким пониманием музыки. Точность, адекватность и глубина оценок творчества Вагнера в этой работе составляют, пожалуй, главную ее ценность.
Ввиду самой постановки проблемы – сон, как категория мышления – необходимо уделить внимание мировоззренческим, философским концепциям Вагнера. В этой связи следует упомянуть несколько трудов, способных стать опорой для дальнейших размышлений о многогранности философских концепций (в том числе и метафизической стороне) вагнеровского творчества. Сюда относятся, кроме монографии Анри Лиштанберже, книга французского философа – представителя деконструкции – Филиппа Лаку-Лабарта «Musica ficta. Фигуры Вагнера» и книга современного немецкого философа Курта Хюбнера «Истина мифа» (конкретно, глава XVIII «Миф Рихарда Вагнера о закате мифа»).
Подспорьем могут служить труды классиков психологии и психоанализа – Зигмунда Фрейда и Карла-Густава Юнга, изучавших природу и свойства сна; а также деятельность современного психофизиолога, лидера в изучении осознанных снов Стивена Лаберже. Утверждая существенность пользы, которую приносит для человека осознание сна как сновидения, Лаберже предполагает, что «Рихард Вагнер, возможно, познал вкус осознанных сновидений, так как постиг тайну, которую талантливые музыканты оставляли далекому будущему. Он превратил бессознательное в сознательное. Воодушевление Вагнера передалось множеству знаменитых личностей, включая отца современной психологии сновидений – Зигмунда Фрейда. Девизом Фрейда и его психоаналитическим боевым кличем было: «Wo Es war, soll ich werden!», что на русский можно перевести как: «Где было Оно (бессознательный ум, или ид), там должен быть Я (сознательный ум, или эго)». В этом Карл Юнг, один из самых непослушных учеников Фрейда, соглашается со своим учителем. Он видел цель психоанализа как средства «завершения индивидуализации», в объединении двух полюсов личности — сознательного и бессознательного»(3).
Однако, главным и бесценным материалом для исследования, несомненно, остается музыкальное и литературное наследие самого Рихарда Вагнера. Теоретические труды и эпистолярное наследие Вагнера дают представление о его всестороннем отношении ко сну. Несмотря на огромный разброс в смысловых оттенках, сообщаемых им сну в различном контексте, улавливается тенденция к его художественно-символической трактовке, тенденция к углублению психологических ассоциаций, связанных с этим образом. Как в оперных произведениях, так и в письмах Вагнера, сон неизменно оказывается каким-либо рубежным этапом в повествовании. Он почти никогда не преподносится сам по себе, но опутывается клубком сюжетных и ассоциативных нитей. Сложное сплетение таких смысловых ссылок и связей порой провоцирует присваивать сну бόльшую символическую нагрузку, чем он того заслуживает, а иногда заставляет называть «сном» то, что в полном смысле слова им не является. Эти и другие риски в связи с данной темой почти неизбежны, но они оправдываются главной задачей – стремлением раскрыть все разнообразие смыслов сна и найти в этом разнообразии объединяющую идею.
Сны в операх Вагнера
Сфера образов сна в романтическом искусстве и значительна, и многозначна. В системе двоемирия она составляет важную часть, воплощая мир мечты, грез, идеальных представлений, например, «Весенний сон» Шуберта, «Фея Мэб, королева сновидений» Берлиоза. Сон может раскрыть картины того волшебного мира, который наполняет природу, но невидим в обыденной жизни («Сон в летнюю ночь» Мендельсона). Во сне полнее раскрываются чувства, возникает предощущение счастливой любви (например, романс Грига «Сон») или обостренное переживание несчастной любви («Во сне я горько плакал» Шумана). Во сне мир душевных страданий может приобрести искаженный характер зловещих видений, как в финальной части «Фантастической симфонии» Берлиоза («Сон в ночь шабаша»). Эпизоды снов могут составлять сюжетный поворот в драматургии оперы («Оберон» Вебера, «Роберт-дъявол» и «Африканка» Мейербера, «Руслан и Людмила» Глинки).
Разнообразие значений образов сна в произведениях Вагнера фактически вынуждает отказаться от того, чтобы строить о них разговор, исходя из какой-либо классификации. Смысловые оттенки снов постоянно видоизменяются в зависимости от их соподчинения той или иной сценической ситуации. Но ради показа спектра образов сна и родственных ему явлений, можно произвести самое общее разграничение, которое, однако, тоже не будет неизменным. Критерием для такой группировки будет смысловое положение сна в контексте драмы. Итак, можно выделить:
обыкновенные бытовые сны;
«вещие» сны;
сны в значении романтической мечты или грезы;
сны, наделенные отчетливой мистической и символической окраской;
сон как метафора неподвижности и вечности;
близкие сну пограничные состояния – бессознательность, транс, забвение, природное явление сумерек.
Ни одна из названных рубрик не обладает абсолютной стабильностью. Между снами каждой из отмеченных групп существуют переклички – более или менее явные. Однако в любом сне обязательно доминирует то или иное качество, что и служит основанием для некоторых определений.
Так, ведущее качество бытового сна, как правило, заключается в отсутствии его особого влияния на ход драмы. Такой сон лежит как бы в верхней плоскости сюжета и не означает ничего, кроме того, что определенный персонаж спит (так, например, начинаются оперы «Летучий Голландец», «Парсифаль»).
«Вещий» сон, напротив, обладает большим значением для оперы в целом. Благодаря таким снам в опере обязательно образуются сюжетные арки по принципу: «сон приснился – сон сбылся» (сон Эрика, сон Эльзы, грезы Вотана). Рассказ того или иного героя об увиденном сне нередко занимает видное место в композиции драмы. Он может играть роль завязки действия, либо располагаться в преддверии одной из его кульминаций. Материализация представлений, увиденных во сне, может происходить как на незначительном, так и на огромном промежутке времени, связывая акты оперы или части цикла тетралогии. Впрочем, нельзя преуменьшать роль в композиции обыкновенных бытовых снов, ибо, в том числе с них начинается действие целого ряда опер Вагнера.
Сны в значении мечты или грезы довольно часто встречаются у Вагнера. К такому пониманию располагает двойное значение самого немецкого слова Traum, которое переводится и как «сновидение», и как «мечта». Состояние радости часто воспринимается как осуществленный сон, как сбывшаяся мечта (вспомним отклик Даланда на предложение Голландца выдать за него Сенту, слова Тристана и Изольды в начале дуэта, высказывания каждого из участников квинтета в 3-м акте «Нюрнбергских майстерзингеров»). Отграничить пророческие сны от романических грез возможно, так как герой, которому приснился «вещий» сон, как правило, заранее ждет его осуществления. «Вещие» сны сложнее по содержанию, в их составе – рассказ сна и его исполнение – присутствует сильный драматургический акцент, который приходится на факт воплощения сна. В романтических грезах такой акцент чаще всего отсутствует.
Явление сна в реальной жизни, окончательно непознанное до сих пор, и совершенно не изученное во времена Вагнера, обладает немалой загадочностью. Неудивительно, что практически всем снам, которые можно обнаружить в произведениях композитора, присущ таинственный мистический характер. Однако любопытно, что со временем Вагнер только сгущает этот мистицизм, а никак не наоборот. В поздних его творениях сильнее наматывается клубок символов, опутывающий образы сна, сложнее становится игра сновидений. Фантасмагория, которую можно наблюдать в связи с кошмарным сном Зиглинды в финале 2-го акта «Валькирии», сменяется исполненным таинственности и значения волшебным сном Брюнгильды(4). Своей кульминации мистико-символическая образная линия достигает в таком феномене, как сомнамбулизм Кундри в «Парсифале».
Сон в метафорическом смысле, олицетворяющий неподвижность, вечность и незыблемость, используется композитором в связи с теми или иными мифологическими предметами, которые он тем самым преображает (например, превращение Золота Рейна в Кольцо приводит к тому, что оно становится носителем новых смыслов).
Категория сна в представлении Вагнера полна метафоричности. Для него вполне закономерно уподобление сна различным пограничным состояниям в природе и пограничным психологическим состояниям человека, являющегося частицей природы. Излюбленное композитором природное явление – сумерки – можно встретить практически в каждой его опере, наравне со сном. Слово «Dämmerung» регулярно обнаруживается и в ремарках автора, обозначая время суток или характер освещения, и в речи персонажей, когда говорится об их душевных настроениях(5). Вагнера привлекает двойственность значения этого слова – колебание между закатом и рассветом – и его способность проецироваться на психологический мир драмы в виде балансирования между жизнью, смертью и возрождением. Исконная множественность значений немецкого слова «Dämmerung» включает и психологические оттенки(6). К примеру, двойное слово Dämmerschlaf буквально значит «дремота», «дрема»; Dämmerzustand означает «сумеречное состояние сознания». Если вернуться к сумеркам, как природному феномену, то здесь, очевидно, для Вагнера была притягательна неопределенность, зыбкость и текучесть световых красок, свойственная этому времени. Неопределенность, заставляющая слушателя самому давать ответ на вопрос – чтó перед ним: сумерки заката или рассвета, метафора погибели или спасения (вспомним, например, о двойственности вагнеровской трактовки гибели мира в финале тетралогии).
В неясном и туманном состоянии находятся многие герои Вагнера. Впадая в забытье, транс, медитацию или мечтательность, они отрешаются от «этого мира», руководствуются бессознательными побуждениями, погружаясь в свои внутренние состояния (в некотором смысле даже «Тристан» может быть здесь примером: известно наблюдение А. Н. Серова о состоянии перехода как о неповторимом психологическом качестве данной оперы(7)).
Таким образом, спектр идей и понятий, которые может вбирать в себя категория сна, чрезвычайно широк. Помимо разнообразных поэтических качеств, которыми Вагнер наделяет сны, существуют имманентные свойства сна как такового, которые также имеют место в вагнеровских драмах. Пусть не смущает тот факт, что свойства эти были открыты учеными – Фрейдом и Юнгом – после смерти Вагнера. Ведь открытие значит не изобретение, а только обнаружение того, что уже существует. Вагнер, испытывавший неподдельный интерес к бессознательному в жизни и творчестве, чувствовал эти свойства и мог их художественно воплощать, предвосхищая их научное истолкование.
Выделим два важных свойства сна как такового:
1. Особое качество восприятия времени.
2. Предельная концентрация и сжатие событий, переживаемых в сновидении.
Время, ощущаемое человеком во сне, не соответствует реальному времени, проводимому им в этом положении. Переживаемое во сне время двойственно: с одной стороны, в своем сновидении человек может пройти огромный временной период до нескольких лет; и он может проснуться с ощущением, что проспал «целую вечность», тогда как на самом деле сон был недолгим. Время, воспринимаемое человеком в обыкновенном здоровом сне, как правило, несоизмеримо короче фактического. Проснувшись, человек может не ощутить величины того отрезка времени, который располагается между вечером и утром, между закатными и рассветными сумерками. В данном случае, сон является спрессованным переходом между настоящим и будущим, коротким мостом-связкой между происходящим «до и после». Павел Флоренский писал об этом следующее: «Сновидение есть знаменование перехода из одной сферы в другую и символ. Сновидение способно возникать, когда одновременно видны оба берега жизни»(8).
О втором из названных свойств З. Фрейд говорил следующее: «Если сравнить на любом примере количество образов в сновидении с числом скрытых его мыслей, добытых путем анализа и лишь едва прослеживающихся в самом сновидении, то нельзя сомневаться в том, что работа сновидения производит прекрасную концентрацию или сгущение. Вначале трудно составить себе представление о масштабе этого сгущения, но оно производит тем большее впечатление, чем глубже удается проникнуть в анализ сновидения. Тогда нельзя найти ни одного элемента сновидения, от которого бы ассоциативные нити не расходились по трем или более направлениям, ни одной ситуации, которая бы не была составлена из трех или более впечатлений и переживаний»(9). Концентрация образов во сне – явление закономерное. Во сне человек не в состоянии распределять информацию, во сне она располагается непроизвольно. В это время процесс ее отбора осуществляется волею природы, и результаты такой систематизации предугадать невозможно. Известно, что природу Вагнер чтил, признавая в ней «основу жизни»(10).
Характерные черты снов в вагнеровских драмах – поэтические, музыкальные или сюжетные – обуславливаются их собственными функциями в драме. Свойства сна как такового могут выступать здесь лишь как прообраз для того или иного художественного решения. Теперь обратимся к анализу избранных фрагментов из опер и музыкальных драм Рихарда Вагнера.
Вербальная и музыкальная составляющие в творениях великого оперного реформатора, как известно, пребывают в нерасторжимом единстве. Отсюда вытекает требование необходимости их комплексного анализа. Музыкальное воплощение снов представляет такой же интерес, как и их мифопоэтическое претворение. Начиная с первой ранней оперы «Феи» композитор приберегает для эпизодов, связанных со сном, особые музыкальные средства. Так, во 2-м действии оперы, в тот момент когда Ариндаль во сне видит фею Аду, в оркестре звучит целотоновая гамма.
Этот пример знаменателен тем, что являет собой, вероятно, первый в истории музыки случай использования целотонового звукоряда в опере. «Феи» Вагнера были написаны на девять лет раньше «Руслана и Людмилы» Глинки, где целотоновая гамма является характеристикой Черномора. Здесь возникает еще одна аналогия, связанная с тем, что новые ладовые средства применяются по отношению к образам волшебных снов. Черномор навевает волшебный сон на участников свадебного пира (ансамбль «оцепенения» «Какое чудное мгновенье», 1 д.) и сковывает сном Людмилу, уходя на бой с Русланом (4 д.).
Можно найти немало совпадений между «Русланом» Глинки и особенно поздними драмами Вагнера. В основном, эти параллели сюжетного плана:
обретение Русланом меча в битве с Головой и поединок с Черномором – ковка меча Зигфридом и поединок с Фафнером;
рассказ Головы о двух братьях (великане и карлике) – рассказ умирающего Фафнера о роде братьев-великанов;
пробуждение Людмилы с помощью волшебного перстня Финна – пробуждение Брюнгильды Зигфридом, обладающим Кольцом;
девы волшебницы Наины и очарование Руслана Гориславой – девы Клингзора и соблазнение Парсифаля с помощью Кундри.
Безусловно, предпосылки для таких параллелей коренятся в общей глубинной природе мифологии; показательно, что воплощается это в произведениях эпической драматургии.
В «Феях», написанных Вагнером на основе сказки Гоцци, сон преподносится в бытовом и, вместе с тем, сказочно-фантастическом освещении. Чем больше Вагнер будет постигать глубины образа сна, тем более самобытной будет его интерпретация. В двух последующих операх – «Запрет любви» и «Риенци» – образ сна отсутствует. Однако уже в «Летучем Голландце», то есть в той опере, где композитор впервые выступил в качестве автора либретто, образ сна фигурирует несколько раз. Это сон Рулевого в самом начале оперы, вещий сон Эрика и «магнетический сон» Сенты во 2-м действии.
Сон Рулевого фактически является отправной точкой всего действия оперы. Следует напомнить сюжетный контекст:
Корабль Даланда сбился с пути и бросил якорь у чужого берега. Капитан велит Рулевому принять за него вахту, и в ответ слышит заверения Рулевого в том, что он не заснет. Делая движения, отгоняющие сон, Рулевой начинает петь песню. Приведем текст Вагнера:
«Играйте, волны, подо мной,
Неситесь, шумные, быстрей,
На берег, сердцу дорогой,
К красавице моей! <…>
Он старается побороть усталость и, наконец, засыпает. Буря снова усиливается. Вокруг темнеет. Вдали показывается корабль Моряка-скитальца под багрово-красными парусами, с чёрными мачтами. Он причаливает к берегу со стороны, противоположной той, к которой причалил корабль Даланда, и с шумом бросает якорь»(11).
Сон Рулевого, хотя и носит внешне бытовой характер, привлекателен тем, что напрямую связан с таким важным событием, как появление в опере Летучего Голландца. Полуфантастическая фигура Голландца предстает зрителю как загадочное видение, как будто возникшее во сне обыкновенного человека; и здесь, конечно, сказывается типично романтическая трактовка сна.
С упоминанием сна встречаемся в дуэте Даланда и Голландца. В ответ на просьбу Голландца выдать за него дочь, Даланд восклицает: «Мой Бог! Уж не сон ли все это!».
Наиболее любопытно психологически неоднозначное состояние Сенты во время исполнения ею баллады и тогда, когда она слушает рассказ Эрика о его вещем сне. По отношению к Сенте Вагнер нигде не дает указаний на то, что она спит. Им применяются характеристики: «как бы проснувшись» или «как погруженная в магнетический сон». Положение, в котором пребывает Сента, можно назвать трансом: в балладе композитор подчеркивает возрастающее воодушевление героини, ее отрешенность от окружающего. Глубже и глубже всматриваясь в портрет Голландца, она все дальше уходит от реальности. Лишь когда Эрик сообщает о возвращении ее отца, Сента приходит в себя. Приводим ремарку Вагнера:
«Сента, находившаяся до сих пор вне окружающего, при слове “здесь”, как пробужденная от сна, внезапно и радостно вскрикивает». Поэтому говорить о состоянии сна в связи с образом Сенты можно очень опосредованно.
В последующем дуэте с Эриком, как и в рассказе Эрика о своем сне, Сента по-прежнему «отключена» от окружающего и сосредоточена на предчувствии встречи. Ее внимание приковано к портрету и к входной двери, откуда она ждет появления Голландца. Даже рассказ Эрика воспринимается Сентой как сон. Вот что гласит вагнеровская ремарка:
«Сента усталая садится в кресло. При начале рассказа Эрика она кажется погруженной в магнетический сон, и всё, что он ей рассказывает, она как будто видит во сне. Эрик стоит возле неё, опершись на её кресло».
Эрик пересказывает сон, в котором видел как корабль Голландца причалил к их дому и Сента выбежала ему навстречу, а затем они неслись по волнам и погибли. В конце рассказа Сента восклицает: «Иду! Он ждет меня давно. Его спасти мне суждено», причем стоит ремарка «как бы проснувшись, с сильным возбуждением». И в тот же момент «отворяется дверь, и Голландец с Даландом входят. Сента, мгновенно вскрикивая, переносит взгляд с картины на Голландца и застывает в этом положении». Таким образом, единовременно исполняется сон Эрика и материализуется мечта Сенты, при этом один сон как бы перетекает в другой. Драматургический стержень данной сцены заключен именно в ее сложном и тщательно выстроенном внутреннем движении – в развитии сна Эрика и пограничного состояния, в котором пребывает Сента.
С помощью такой материализации представлений героев Вагнер имеет возможность резко переключать внимание слушателя на разные уровни драмы: с внутреннего психологического плана на внешний событийный. Подобные переключения крупного и общего планов в связи со сном можно считать устойчивым приемом вагнеровской драматургии. Принцип переключения с общего плана на крупный план и обратно – является важнейшим принципом драматургии Вагнера вообще. В сценах крупного плана Вагнер целиком погружается в психологическую жизнь и событийная сторона его меньше всего интересует. Композитор использует данный прием всякий раз, когда хочет поставить вопрос о выборе, и вопрос о правдивости какой-либо одной сферы из тех двух, которые им сопоставляются.
Так, в данном случае сопоставлена жизнь Сенты «во сне» – ее желание спасти Голландца своей верностью – и ее реальная способность воплотить свои устремления. Встает вопрос о том, сможет ли Сента сдержать клятву верности Голландцу – клятву, которую она произнесла уже «на яву»:
«Сента: Но что со мной? Во сне, иль на яву я? Нет, я не грежу... это он! Душа моя носилась над землёю и пробудилась лишь теперь. <…> Кто б ни был ты, всю жизнь твои страданья делить с тобой хочу я как жена. Исполню я отцовское желанье
и буду я всегда тебе верна».
Разрешение этого вопроса дает финал оперы. Искупление Голландца верностью Сенты, идущей ради него на гибель, связывается композитором с тем состоянием героини, в котором она исполняла балладу. Внесение в момент смерти Сенты темы из баллады, которая ассоциируется с ее «сном», может толковаться как образное объединение Вагнером сна и смерти. Оба эти явления понимаются им как состояния «инобытия», причем, как правило, бытия блаженного. В этом проявляется присущее Вагнеру толкование смерти как блаженства, как искупления, а не трагического исхода. Сон и смерть, вместе взятые, в русле романтической традиции двоемирия в данном случае противопоставляются композитором действительности. Таким образом, здесь заключен ответ Вагнера на вопрос о духовном приоритете «сна» или реальности.
Обращает на себя внимание та закономерность, что «во сне» или «как во сне» Голландца видит каждый персонаж оперы: Сента мечтает о нем, погруженная в транс или «магнетический сон»; Эрик видит его во сне, о котором рассказывает Сенте; Даланду кажется сном выдача его дочери за Голландца. Представляя главного героя овеянным дымкой легенды, Вагнер, с одной стороны, подчеркивает ирреальность его фигуры, и вместе с тем в восприятии разными людьми он представляется различным. И только Сента, по отношению к необычному состоянию которой не применяется слово «сон» в его будничном смысле, преисполнена воодушевленной веры в Голландца и желания его спасти. Таким образом, уже в этой опере в смысловую категорию сна вносится важная парная антитеза: вера (уверенность) – сомнение (отрицание). В дальнейшем эта антитеза будет развиваться композитором.
Показательно решение названных эпизодов – сна Рулевого, «магнетического сна» Сенты и «вещего» сна Эрика в музыкальном языке и композиции. Все они начинаются как куплетные песни, однако закругленности строения этих номеров – песни Рулевого, баллады Сенты, рассказа Эрика – неизменно препятствует вторжение нового материала, оправданное резким переломом в сценической ситуации. Рулевой засыпает, не завершив второго куплета песни, вопрос Сенты о Голландце «взрывает» структуру пары периодичностей в рассказе Эрика. Баллада Сенты, хотя и складывается в три законченных куплета, имеет форму куда более открытую, чем два только что обозначенных номера. Материал баллады заключает в себе важный для всей оперы смысл и рассредоточен на всем ее протяжении. Третий куплет баллады, оборвавшийся возгласом Мэри и Эрика, Сента повторит непосредственно перед прибытием Голландца в ее дом – и вновь баллада прервана (появлением Моряка-скитальца). Окончательное завершение припев баллады обретет только в финале оперы – в воссоединении с темой Голландца. В тех разделах, где возникают образы снов, формы отличаются зыбкостью и текучестью, подобной структуре самого сна, связанной с особым восприятием времени. В связи с этим можно утверждать, что в «Летучем Голландце» Вагнер выходит за рамки традиционных форм, в том числе и воплощая образы сна.
Продвижение по пути оперной реформы, как известно, получило продолжение в «Тангейзере». Не уменьшилось и внимание Вагнера к образам сна. Здесь эти образы связаны с фигурой главного героя и его пребыванием в гроте Венеры. Нахождение героя у Венеры Вагнер метафорически уподобляет сну. Приведем фрагмент текста 2-й сцены 1-го акта(12):
«Тангейзер вздрагивает и быстро поднимает голову, словно пробуждаясь от сна. Венера ласковым движением снова привлекает его к себе. Тангейзер проводит рукой по глазам, как бы стараясь удержать сновидение. <…>
Тангейзер: Объятый сном, услышал я давно забытых звуков тень: я благовест приветливый услышал… Когда звучал он мне в последний раз?
Венера (по-прежнему): Чем ты смущён? Что так томит тебя? <…>
Тангейзер (грустно): Часы и дни бегут, – я счёта им не знаю: зимы, вёсны, – для меня их нет; ведь я давно не вижу солнца, мне не мерцают ласковые звёзды; не вижу муравы полей цветущих, что лето вновь несут; и в час ночной мне соловей не возвещает Мая…»
Характеристика Тангейзером собственного состояния в гроте Венеры вызывает моментальные аналогии со сном: герой не знает счета временам, находится во власти чувственной стихии, которая посылает ему полное забвение реальности. Вагнер изображает эту стихию необычайно многокрасочно, максимально используя арсенал собственных музыкальных, гармонических и оркестровых средств. Кажется, что композитор стремился вызвать у слушателя ощущение пресыщения чувственным изобилием – то что и для Тангейзера стало поводом к бегству из этого «сна». Здесь проявилось свойство сна, связанное со сгущением образов и концентрацией энергии. В дальнейшем оно обнаружит себя в поздних драмах Вагнера. Сцена в гроте Венеры являет собой единственный у Вагнера пример сновидения героя, которое полностью воплощено на сцене. Очень ярко решен момент пробуждения Тангейзера: после произнесения имени Девы Марии он моментально оказывается перенесенным из грота античной богини в прекрасную долину возле Вартбурга. Это является наглядным воплощением противостояния язычества и христианства. Картина, созданная Вагнером в тексте ремарки в начале 3-й сцены 1-го действия, и в песне Пастуха, воссоздает все то, о чем мечтал Тангейзер, находясь у Венеры. Приведем этот текст:
«На переднем плане находится изображение Божьей Матери, к которому ведёт низкий выступ горы. С высот налево раздаётся звон колокольчиков пасущегося стада; на высоком выступе горы, лицом к долине, сидит молодой пастух и играет на свирели.
Пастух: Приснился мне волшебный сон; и вот, когда растаял он, – в лучах земля сияла: весна, весна настала! Ну, веселей, свирель, играй: вот Май пришёл, весёлый Май!».
Картина сна и пробуждения Тангейзера многозначна. Можно сказать о ней следующее: находясь у Венеры и устремляясь к покаянию, Тангейзер слышит колокольный звон и видит образ Девы Марии, его сердцу представляется образ весны, как времени расцвета истинных чувств. Однако, пребывая в гроте, он не в силах высвободить эти чувства (они выражаются только в мечтах Тангейзера), которые раскрываются лишь тогда, когда герой оказывается в долине у Вартбурга. Здесь Вагнер выражает все внутренние переживания героя через его реальное окружение: икону Богоматери, звучанье пастушьих колокольчиков, песню пастуха о наступившей весне.
Вся данная сцена может быть интерпретирована иначе, если пребывание Тангейзера у Венеры считать его сновидением. Образы покаяния проникают в сладострастные видéния героя, постепенно вытесняя все чувственное и материализуясь в момент пробуждения. Настоящий пример сочетает в себе черты «вещего» сна и сна как грезы, сна метафорического и сна символического.
В опере «Лоэнгрин» воплощение категории сна имеет очень важный смысл. Особое место занимает здесь рассказ Эльзы о ее «вещем» сне. В нем заложено исходное представление о главном герое оперы. Монолог, в котором Эльза повествует о своем сне, является экспозицией образа и косвенной характеристикой Лоэнгрина. Этот монолог является одним из первых примеров (после монолога Тангейзера) новой вагнеровской формы рассказа. В этом монологе Эльзы раскрывается естественность музыкальной связи лейтмотивов Эльзы и Лоэнгрина. В рассказе Эльзы в первый раз в опере проявились особенности лейтмотивной системы: обнаруживается причинно-следственная связь в процессе рождения лейтмотива Эльзы из лейтмотива Лоэнгрина. Направленность преобразования лейтмотива Лоэнгрина в восторженный, устремленный и изменчивый лейтмотив Эльзы можно представить как аналог пути преобразования хоральной темы Сенты в ее заключительный вариант – порывистый, взволнованный и стремительный, который звучит в конце увертюры, баллады, оперы.
Монолог расположен в сцене суда, являющейся завязкой действия, и содержит в себе описание последующих событий оперы вплоть до поединка Лоэнгрина с Фридрихом. Обратимся к вагнеровскому тексту:
«Эльза (со взглядом спокойно-мечтательным): Богу я раз молилась, плача одна в тиши… В молитве той хотела излить тоску души… Но слёзы горя слились в протяжный, громкий стон… Звук нарастал и, множась, в небо умчался он!.. И вот в дали лазурной затихла скорбь моя… Глаза мои сомкнулись, – уснула сладко я…
Мужчины (отдельными группами): Но что же с ней? – То бред? – Иль грёзы сна?
Король (как бы желая пробудить Эльзу): Эльза, – чем можешь оправдать себя?
(Черты лица Эльзы после мечтательного восторга принимают выражение экстаза и просветления.)
Эльза: В оружьи светлом рыцарь явился мне тогда... Мой взор красы столь чистой не видел никогда! Златой рожок на цепи, и меч, как солнца луч... Так он с небес спустился, – прекрасен и могуч!.. Он лаской нежной, скромной утешил скорбь мою: меня он не покинет, – мне честь спасёт в бою!».
Явленное во сне Эльзы пророчество говорит только о пришествии рыцаря и его победе в поединке, но не сообщает о необходимости соблюдать запрет героя в течение года (ради возвращения принца Готфрида). В этом, как кажется, заключается роковая предопределенность судеб Лоэнгрина и Эльзы. Внимательное всматривание в поэтический и музыкальный текст оперы показывает, что абсолютная вера Эльзы в своего спасителя длится лишь до того момента, которым ограничилось пророчество ее сна. Как нам кажется, после поединка с Фридрихом в финале 1-го акта музыкальный образ Лоэнгрина заметно упрощается и приземляется: лейтмотив Лоэнгрина-рыцаря начинает преобладать над лейтмотивом Лоэнгрина – посла Грааля, «объемный» свет сменяется светом «плоским». Подобную трансформацию можно наблюдать в Vorspiel’e, где она осуществляется исключительно оркестровыми средствами: четвертое проведение темы Грааля у группы медных духовых инструментов с литаврами может восприниматься не как торжество, но как снижение высокого образа, ассоциируясь с трагическим моментом открытия Лоэнгрином своего имени. Достигается это впечатление тем, что во время кульминационного проведения темы Грааля снимается фигурационный рисунок скрипок в высоком регистре, сопровождавший предыдущие проведения темы – исчезает своего рода «нимб» над центральным образом. Хотя возможно представить и другое толкование.
Вся атмосфера драмы «Тристан и Изольда» связана с пребыванием героев в состоянии томления, некоем пограничном состоянии, отрешенном от реальной жизни. И все события во
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
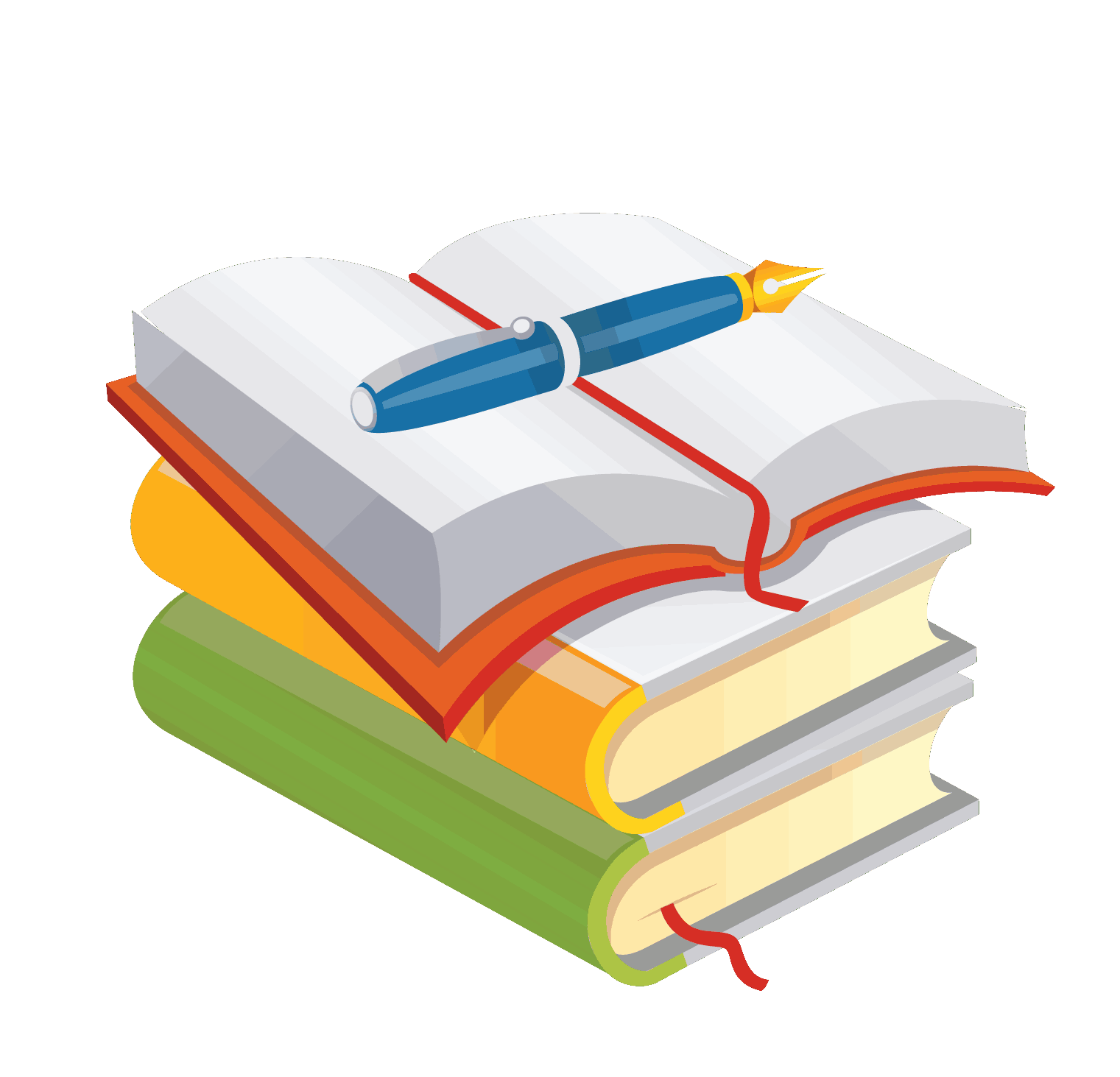 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.