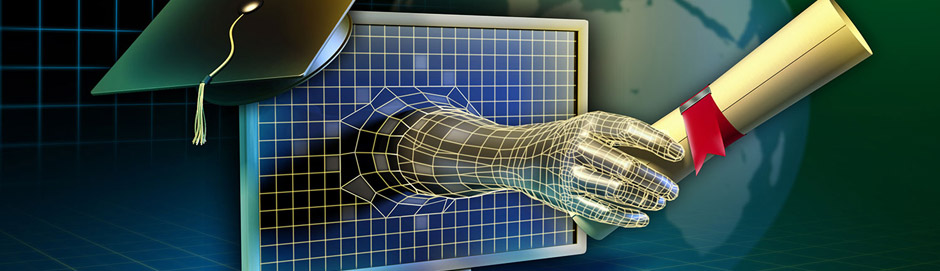Символика света и цвета в русской иконописи
Оглавление
Введение. 2
1. Символика света и цвета в русской иконописи. 6
1.1 Роль цветовой символики в иконописи. 6
1.2 Цветовая насыщенность и её значение. 10
2. Колоритно – композиционная символика. 14
2.1 Значение колорита. 14
2.2 Отношение русских иконографов к колористике. 15
Заключение. 24
Список литературы.. 25
Введение
В книге М. Алпатова «Краски древнерусской иконописи» особенно ярко выражены эти аспекты. Подробно рассказано о символике света и цвета, красок, образов, об истории иконописи, также об наиболее известных русских и мировых иконописцах. Книга проиллюстрирована, поэтому была возможность сразу же рассмотреть приведенные примеры. Курсовая была написана на основе материала, приведенного именно в этой книге, т.к. в ней наиболее подробно раскрывалась тема курсовой работы.
В Терминологии русской иконописи дана расшифровка непонятных современному обывателю древнерусских слов, понятий, терминов, названий красок и основ, используемых в иконописи.
Так же глубоко раскрывает тему книга Рамо – Паки – Гийоп «Техника росписи икон». Книга является подробным самоучителем по технике росписи. Из него были недостающие данные, не описанные в «Краска древнерусской иконописи». Также книга была прочитана для общего развития и более глубокого проникновения в тему курсовой.
Также было просмотрено множество иллюстрированных альбомов по русской и мировой иконописи, в частности «Иконы частных собраний: Русская иконопись XIV – начало XV вв: Каталог выставки».
Целью данной курсовой работы было выявить способы цвето -, свето - и символопередачи в иконописи, рассматривая наиболее яркие и известные образцы.
Еще не так давно было принято считать, что самым верным признаком древности русской иконы является ее чернота. В настоящее время общеизвестно, что это представление в корне ошибочно. Оно сложилось в результате того, что большинство древних икон дошло до нас покрытыми вековой пылью и копотью. Между тем стараниями наших реставраторов иконы „раскрываются", с них снимаются темные наслоения, и тогда они предстают во всем блеске своей первоначальной красочности, красоты.
Современного человека так поражает превращение реставраторами „черных досок" в светозарную живопись, что он готов признать это превращение едва ли не самым главным признаком сказочной поэтичности икон.
Вместе с тем любители искусства и его знатоки нередко склонны примешивать к своему восторгу несколько снисходительное отношение к краскам икон, которые их создатели расточали с такой простодушной детской щедростью, на какую никогда не решится ни один взрослый художник, разве только Марк Шагал или Хуан Миро. Буйным разгулом своих красок древнерусская иконопись может напомнить раскрашенные и утыканные перьями экзотических птиц ритуальные маски африканцев или индейцев.
Действительно, если после картин мастеров XIX века, даже тех, которые отважно боролись с „чернотой", попадаешь в залы древнерусской живописи, кажется, что с глаз спадает пелена, испытываешь безотчетную радость, как на лужайке, усеянной яркими цветами. И хотя круг сюжетов иконописи довольно ограничен, чувствуешь, что у тебя открываются глаза на мир, не на тот, который окружает человека в повседневности, но на огромный многообразный мир красок, созданный воображением. Это первое впечатление вполне естественно и закономерно. Оно подкупает неподготовленного зрителя. Даже если сама иконопись оставляет его равнодушным, он должен будет признаться, что краски ее пленительны. Впрочем, сводить значение древней иконописи только к яркости, звонкости и чистоте красок - значит не понимать ее сущности. Икона это вовсе не детский размалеванный рисунок и не пестро раскрашенная маска. Это подлинное большое искусство, и потому современному человеку необходимо напрячь все свои духовные силы, для того чтобы войти в понимание древнерусской эстетики цвета.
Живописная техника иконы не очень сложна, но в высшей степени совершенна. Эта живопись красками, разведенными на яичном желтке и положенными на гипсовый левкасный , грунт, давала возможность древним мастерам создавать настоящие симфонии красок, не уступающие живописи нового времени. Техника эта допускала многослойность письма, множество оттенков и полутонов. Она имеет свои преимущества перед живописью масляными красками. Краски древних икон способны сохранять под позднейшими наслоениями всю свою первозданную силу. В большинстве раскрытых икон мы видим краски в том состоянии, в каком они были много веков тому назад.
В старинных руководствах, так называемых „Подлинниках", упоминаются краски, которыми писались древние иконы: вохра, багор, санкирь, лазорь, сурик, киноварь, празелень, индиго и другие. В руководствах даются указания, как смешивать краски, однако все это касается только техники, которая на протяжении веков не подвергалась существенным изменениям. Но старинные тексты почти не говорят о художественном значении красок, о колорите древнерусских икон. Видимо, в этом не было надобности. Краски и без того говорили уму и сердцу человека все, что имел сказать художник. Но нам, чтобы добраться до сущности древних красок, приходится прибегать к критическому анализу.
Древнерусский художник имел дело с людьми, наделенными большой чуткостью к цвету, любившими цвет, широко раскрытыми глазами ловившими все его оттенки, с людьми, способными прочесть в них все, что они содержали.
1. Символика света и цвета в русской иконописи
1.1 Роль цветовой символики в иконописи
Древнерусская литература дает представление об отзывчивости людей того времени к цвету. В „Слове о полку Игореве" поэт щедрой кистью наносит краски: в небе блещут синие молнии, Дон катит синие воды, горят красные зори, хмурятся черные тучи. Записывая сведения о небесных знамениях, древние летописцы испытывают страх, но любуются красочностью кругов и столбов на небесах. В русских былинах постоянно мелькают цветовые эпитеты. Самый любимый цвет—это алый, красный, который едва ли не больше всего жаловали и древне-русские иконописцы. Недаром позднее слово „красный" стало значить и „красный цвет" и „прекрасный". Все это отчасти объясняет то многокрасочное зрелище, которое на протяжении веков являет собой древняя икона.
Какое значение имел цвет в древнерусской иконописи? Как и вся она в целом со своими сюжетами и формами, цвет имел в ней несколько значений.
Прежде всего изобразительное, буквальное. Цвет позволял художникам донести до зрителя то, что в иконах изображалось, и этим поднять их изобразительное значение. Цвет— это дополнительная характеристика вещей, по которой можно узнать людей, животных, деревья, горы и здания. В этом отношении икона не отличается от живописи нового времени. Впрочем, в иконописи в отличие от живописи не ставилась задача достоверной и точной передачи цвета предметов или красочного впечатления от них.
Иконописцу достаточно того, что по цвету можно узнать предмет. По темно-вишневому плащу—Богоматерь, по светло-малиновому—апостола Павла, по охристому—апостола Петра, по ярко-красному плащу—мучеников Георгия или Дмитрия, по огненно-красному фону—Илью Пророка, который живым поднялся в небесный эфир, и по тому же красному цвету—вечный огонь в аду, в котором Сатана царствует над осужденными грешниками.
Цвет—это в известной степени наиболее бросающийся в глаза внешний признак отдельных предметов реального или воображаемого мира. Это опознавательный знак изображений. По узорчатым парчовым тканям в новгородской иконе „Бориса, Глеба и их отца Владимира" мы узнаем новгородских знатных купцов.
Не нужно думать, что иконописцы всегда придерживались этого подсобного значения цвета. Они не могли удержаться от того, чтобы не отступить от него. В иконах есть краски, которые воспроизводят то, что в мире существует. Но есть и такие, которых нигде не существует и которые делают предметы неузнаваемыми, хотя и прекрасными. Белоснежные церковные постройки похожи на новгородские храмы, которые и теперь еще можно видеть на берегах Волхова. Многоцветные, разноцветные, расцвеченные здания—таких никогда нигде не существовало. Это диковинный сказочный цвет, это краски незримого града Китежа. И такого диковинного цвета могут быть самые различные предметы: таковы разноцветные классические плащи и хитоны, фиолетовые горки, синие и розовые кони. Среди этого сказочного мира нет ничего странного и в ярко-алых херувимах, в красном свете свечи, в ярко-голубых отблесках, которые на горе Фавор падают от белоснежных риз Христа на одежды апостолов. В мире иконы все возможно. Этот мир радует ощущением свободы.
П. Муратов считал, что в композиции икон мастера свято следовали образцам. Творческую свободу обретали, только берясь за кисть и принимаясь за расцветку рисунка. Это было не совсем так: и в том и в другом были образцы и каноны, но была и возможность подвергнуть их изменению, перетолкованию. Во всяком случае цвет участвовал в перетолковании традиционного сюжета, которое художник осуществлял в композиции.
Современный человек не может не спросить себя: какое отношение имели краски древнерусской иконописи к реальности, которая окружала человека? Старые авторы ставили этот вопрос так: в какой степени древнерусский мастер способен был передать краски, которые он видел в мире? Вероятно, что-то из его зрительных впечатлений входило в его создания. В. Щепкин утверждал, что яркие краски новгородских икон—это отзвук полыхающих летних закатов в Северном крае. Вслед за Ю. Олсуфьевым многие авторы находили в гамме рублевской „Троицы" краски среднерусского летнего дня, синие васильки, нежно зеленеющие овсы, золотистые зреющие хлеба. Д. Онаш пошел еще дальше, решив, что Рублев писал свои иконы прямо в пленэре, но это уже совсем невероятно.
Все эти поэтические уподобления икон явлениям природы отчасти приоткрывают завесу над тайной иконописного творчества. Однако значение их не следует преувеличивать. Речь может идти только об отдаленных ассоциациях. Недаром и в русском языке обозначения различных оттенков красного взяты из мира природы: вишневый, малиновый, клюквенный. Но в искусстве, в частности в живописи, предметность цвета всегда снималась стремлением к чистому цвету.
Итак, изобразительная, образная, опознавательная роль цвета—это первое, но далеко не самое главное. Второе значение цвета можно назвать—моральным, душевным. В этом сказывается богословская основа иконописи. Действительно, еще Псевдо-Дионисий Ареопагит говорит о символическом значении отдельных красок: красного, напоминающего о мученической крови, наиболее активного цвета, синего—небесного, созерцательного, зеленого— как выражения юности и жизни, белого—причастного к „ божественному свету" и черного—цвета смерти, кромешной адской тьмы. Учение Ареопагита говорит о том, что мыслители угадывали в отдельных красках их „второе значение", но учение это не составило стройной системы, Недаром красный цвет означал не только мученическую кровь, но и огонь веры. Положения Ареопагита не стали обязательной догмой. Далеко не все древнерусские художники знали их и руководствовались ими.
Моральное значение цвета в иконах было в большей степени творчеством отдельных школ и мастеров и не ограничивалось только отдельными красками, но возникало из их взаимодействия, из цветового контекста, создаваемого художником. Нет никаких оснований недооценивать творческих возможностей древнерусских мастеров и считать их слепыми исполнителями предписаний ,богословов.
Чистота и яркость красок в иконописи понималась как выражение освобождения от мрака, от бескрасочности, от беспросветности, как высокая цель, к которой стремилась каждая благочестивая душа. Но достижение этой цели было не всегда легко. В „Успении" Донской Богоматери, исполненном в византийской традиции, лица апостолов исполнены величайшей горести, апостолы прощаются с Марией, плачут, рыдают об усопшей, и соответственно краски этой иконы темные, мрачные, облако за Христом темно-синее, даже алый серафим над , его головой не в состоянии рассеять мрак. В русском „Успении" плач превращается в поклонение, в прославление Марии, и соответственно этому в иконе больше света, покоя; кроткая с
голубизна разлита по всей поверхности иконы и придает ей легкость и прозрачность.
Краски в иконах выражают не столько отдельные состояния человека: радость или печаль, покой или возбуждение, они прежде всего выражают его духовный подъем. Нет ничего более чуждого древней русской иконописи, чем приглушенность красок, как, например, изысканное пьяниссимо в китайской живописи по шелку или в произведениях некоторых живописцев-романтиков XIX века.
Своими открытыми, незамутненными красками иконопись поднимала в человеке его нравственные силы, внушала ему веру, поддерживала в нем бодрость. Она звучит как призывный звук трубы, зажигает в сердцах душевный огонь. Вместе с тем она не выводит человека из равновесия, не рождает в нем исступления. Своими красками иконопись удовлетворяет с
человеческую потребность в равновесии и душевной гармонии, Краски иконописи, как хор женских голосов, уносящийся под высокие своды, вселяют в человека уверенность в том, что ему доступна та чистота чувств, которую в те времена называли ангельской.
Своими красками древнерусская икона служила нравственному воспитанию человека не в меньшей степени, чем нравоучительные повести или сказания о богатырях. В сущности, и современный человек перед красками Рублева, Дионисия и новгородских мастеров в состоянии испытывать духовное очищение, которого древние греки ждали от трагедий. Всеми этими свойствами краски древнерусской живописи обращены к человеку.
1.2 Цветовая насыщенность и её значениеНо есть еще одно, более высокое значение красок в древней иконописи. Независимо от сюжета, независимо от тех чувств, которые они способны выразить и пробудить, они составляют в каждой иконе особую целостность, которая, не имея прямого отношения к человеку, к его впечатлениям, представляет для него огромную ценность, привлекает его, захватывает, открывает ему глубинные пласты бытия. Вне зависимости от того, что они могли наблюдать в окружающей жизни, порой даже наперекор этому, мастера создавали в своих творениях в целостно-гармонический мир красок.
Современный человек готов назвать это декоративностью икон и положительно оценить это ее свойство, тем более что его не хватает живописи нового времени. Но латинское слово „йесогит" в своем первоначальном значении—приличия, украшения—имеет мало общего с тем, что присуще иконам. Для определения этой их особенности более уместно сказать, что каждая икона, на какую бы тему она ни была написана, своими красками приоткрывает завесу над тем блаженством, которое в то время связывалось с представлением о рае, человеческой невинности и праведности, дружественном согласии человека с земной тварью, райском саде со множеством зеленеющих лужаек и разбросанными по ним яркими цветами. „Беяше поле то все красно и светло вельми и муравно и цветно вельми часто"—так описывается рай в одном старинном тексте.
Что бы икона ни изображала—торжественное празднество или печальный обряд—в ее красках, в их выборе, в их распределении на доске художник заботился о том, чтобы они составляли нечто целое, гармоничное, восполняли друг друга, дружили друг с другом. Недаром нам слышится в иконах веселый перезвон красок. Краски подходят друг к другу, как цветы, составляющие красивый букет, оживляют поверхность иконной доски, нередко выделяя ее сердцевину наиболее ярким или светлым пятном. Если между холодными и теплыми достигнуто равновесие, то они покоят глаз зрителя, внушают ему представление о том, как благоустроен должен быть мир. Одной из самых высоких задач русской иконописи было создание красочной симфонии из чистых, беспримесных и ничем не замутненных красок. Художники знают, как трудно пользоваться одними чистыми спектральными красками и избегнуть пестроты. Между тем древне-русские мастера настойчиво добивались и достигали этой желанной цели.
Чистые цвета не только радуют глаз, давая ощущение предельно полнокровной красочности. Они еще дают уверенность, что представлены не такие предметы, которые каждый способен увидеть рядом с собой, но такие, о которых можно только мечтать, которые доступны только возвышенному созерцанию.
В северных иконах „Огненного вознесения Илии" ярко-алый круг—это сгусток всех представлений о небесном огне, о высших сферах бытия, и вместе с тем этот красный диск очень предметный, вещественный, недаром Елисей упирается в него коленом. В иконах более возвышенно-поэтического рода, как остроуховские „Снятие" и „Положение", такой же плотный чистый цвет, киноварь, темно-вишневый, зелень имеют более одухотворенный характер. Предметы находятся вне света и тени, без пробелов, они пребывают в световой среде, где раскрывается их истинная сущность. В „Троице" Рублева небесная лазурь плаща среднего ангела — это как бы сущность той небесной чистоты, которая сквозит и в его изящной фигуре. Может быть, этот „сущностный цвет" имелся ввиду в „Сказании о земном рае", в котором говорится о том, как на острове среди океана высился деисус, написанный „лазорем чудным".
Цветовую насыщенность древнерусских икон сравнивали с эмалью и смальто Но такое сравнение справедливо только отчасти. Главным для древнерусских мастеров было превращение плотной материи красок в чистый цвет, освобождение цвета от его плоти, раскрытие в нем его духовной силы. Вся красочная ткань древнерусской иконы обычно настолько насыщена, что даже белое и черное наравне с киноварью и голубцом воздействуют как цвет.
Древнерусские мастера нередко совсем близко подходили к идеалу „чистой живописи", к этому предмету мечты многих колористов нового времени. И тогда цвет значит только то, что он реально собой представляет. Художник не пытается навязать ему больше того, чем он на это способен по своей природе. Никакого насилия, никакого усилия, никаких натяжек. В таких случаях краски звучат во всю свою силу, чисто и ясно. Они тождественны самим себе. В живописи побеждает реальность красок.
Икона не только открывается глазам человека как особое красочное зрелище. Благодаря своей красочности она способна войти в реальный мир и обогатить его. Икона Спаса на высоком стяге над ратниками на поле боя не терялась среди ярких красок природы, ее краски только выигрывали на фоне небесной синевы. Современники постоянно говорят о том, что внесенная в помещение икона озаряла его блеском, как солнце. В полутемных древних храмах икона сверкала, как солнечный луч, пробившийся сквозь узкое окно.
Краски древней иконописи всегда более чистые, звонкие, чем белесоватые краски фрески. Сопоставление икон и фресок рождало как бы два слоя реальности: фрески окружали человека со всех сторон, превосходили его размерами, но они находились поодаль от него, немного растворялись в воздушной среде. Иконы меньших масштабов выигрывали благодаря насыщенности своих темперных красок и олифе. Даже небольшие, аналойные иконы, которые можно взять в руки, обладали способностью „держаться" в пространстве. Икона, как магический кристалл, помогала разглядеть самое существо вещей.
2. Колоритно – композиционная символика
2.1 Значение колорита
То, что принято называть колоритом древнерусской иконописи в его наиболее чистом и совершенном воплощении, создано было в период от середины XIV до середины XVI века. Колорит древнерусской иконописи—это историческое явление, имеющее свое начало, свой расцвет и свой конец. Изучая развитие колорита древнерусской иконописи, легче понять его внутреннюю закономерность и смысл того, к чему неустанно стремились русские мастера.
Древнейшие русские иконы XII—XIII веков по своим краскам близко примыкают к традициям византийской иконописи и мозаики. Русские художники долгое время ревностно следовали греческим учителям. От них они узнали основы античной живописной лепки, Недаром в колорите Владимирской Богоматери XII века живо сохранились черты мастерства фаюмских портретов первых веков нашей эры.
Для византийцев икона—это изображение живой человеческой плоти, озаренной отблеском небесной благодати. Сознание своей греховности, готовности предаться аскетизму рождают настроение печали и уныния. И это проявляется в преобладании приглушенных красок, пурпура, темно-синего, темно-зеленого, землисто-коричневого. Поверх плотных тонов ложатся светлые блики, пробела, рефлексы, и если даже где-то проглянет цветовое пятно, оно никогда не зазвучит во всю мощь, оно не в силах распространиться на всю поверхность иконной доски. Нередко цвет—это всего лишь подкладка для густой сети золотого ассиста. Скользящие отблески золота должны одухотворить материю цвета, усилить неуловимую переливчатость тонов. Обилие золота—характерная особенность византийской иконописи. В этом сказалось не только пристрастие к царственной роскоши, но и потребность преодолеть цветовую плоть краски таинственным мерцанием.
Русские художники уже в XII веке вносили в византийскую тональную гамму нотки чистых открытых цветов. В ярославском архангеле красочная парча его одежды сама излучает теплый свет, его блики ложатся на розовые щеки. В XIII—XIV веках в иконах-примитивах пробивается стихия чистого цвета, прежде всего ярко-красная киноварь. Византийцам это должно было казаться варварством. Мир византийских икон пребывает в таинственной мгле, из которой в силах его извлечь даже блеск золота. В русских иконах фигуры благодаря красному фону становятся осязаемыми. В Новгороде открытый цвет дается прямолинейно и даже грубовато. В московских и среднерусских иконах больше тональности. Во всяком случае русская икона выходит из полумрака и вступает в ясный земной мир. Вместе с тем она, приобретает способность озарять радостью человеческое существование.
Краски служат средством не только создать изображение, но расписать, разукрасить доску иконы или складня, как позднее расписывали крестьянские прялки.
2.2 Отношение русских иконографов к колористикеФеофан оставался верным традициям византийского колоризма. С особенным совершенством он владел басовыми тонами красочной палитры. В его иконах Благовещенского собора преобладают густые, плотные, насыщенные низкие тона.
Павел в малиново-красном плаще и на фоне его золотистый переплет книги с киноварным обрезом и смуглые кисти рук—такому созвучию могли бы позавидовать лучшие живописцы мира. Архангел Михаил Феофана окутан тенью, погружен в золотистую мглу, из которой едва вырываются темно-синие тона,—о таких тонах мечтал Врубель. В „Донской Богоматери" темно-вишневый плащ скрывает темно-синий платок на ее голове. Лицо погружено в золотистый полумрак, как бы скрывающий ласку матери.
Феофан владел редким даром сочетать сближенные, почти неотличимые друг от друга краски. Они перетекают одна в другую и никогда не нарушают единства целого. У Феофана приобретают огромное значение световые блики и рефлексы, которые падают на предметы, преображают их, оживляют тьму. Колорит Феофана с его световыми контрастами более напряженный, драматичный, страстный, чем у его византийских предшественников XII века.
Красочные гармонии Феофана произвели сильнейшее впечатление на русских мастеров, ; и в первую очередь на Рублева. Они открыли им неведомые ранее возможности живописи. Это не исключает того, что Рублев по-иному понимает цвет, чем его великий предшественник. Вместо аккордов в миноре он ищет и обретает аккорды в мажоре.
Различие между пониманием цвета у Феофана и Рублева—это коренное различие между русским и византийским искусством. У Феофана в его „Преображении" приглушенные землистые краски, на которые беспокойно падают голубые отсветы фаворского света. „Преображение"—это рассказ о прикованных к земной юдоли людях, взволнованных вспышками лазурного небесного света и трагически неспособных к нему приблизиться. Отсюда драматизм красок, дуализм, динамика, мучительное беспокойство художника-ясновидца.
В „Преображении" Рублева все трепетное и беспокойное обретает четкую форму, кристаллизуется. Бурная страстность уступает место светлому созерцанию. Противоречие между • светом и тьмою, бликами и тенями снимается. Все пронизано ясным светом дня. Сцена на Фаворе превращается в подобие райской лужайки с разбросанными на ней цветами: розовые, : изумрудные одежды апостолов, среди них—деревья. В соотношении теплых и холодных тонов художник обретает небесную гармонию.
В иконостасе Благовещенского собора Феофан дозволил одному из своих русских сотрудников, Рублеву или Прохору, представить одного ангела в ярко-красном плаще—в полном контрасте к собственному суровому мрачному ангелу. Но полнее всего Рублев выразил представление об алгелевсвоем архангеле Михаиле Звенигородского чина. О Феофана, от всей византийской школы идет здесь богатство оттенков, полутонов, вибрация красок, ощущение того, что фигура живет в пространстве, что икона овеяна светом и воздухом, что это прекрасное видение. И вместе с тем в ней нет ничего от феофановской приглушенности и мрачности красок, уныния и сознания своей греховности. Фигура Рублева не только овеяна светом, она светится, излучает свет, краски нежные—розовое, голубое и золотистое—поют, звучат, выражают радость, зовут к себе, как обещание небесного блаженства. Рублеву удалось здесь соединить изысканную утонченность цветового восприятия с поэтическим отношением к чистому цвету. Он преодолевает примитивное обоготворение краски в иконописи XIII— XIV веков, делает краску одухотворенной, возвышенной. В этой иконе нет ничего аскетического, она выглядит как осанна земной красоте.
Иконографы на основании текстов пытаются догадаться, кого из трех лиц божества Рублев имел в виду в каждом из ангелов своей „Троицы". При этом забывается, что великий мастер в самом размещении фигур, в красках иконы больше всего выразил свои представления. Его „Троица", как и „Преображение", это явление божества не в ослепительном свете, не в мощи, способной подавлять человека, а в сладостной гармонии форм и красок.
Небесная голубизна плаща среднего ангела лежит поверх тяжелой багряницы, и отзвуки этого аккорда звучат в боковых фигурах: голубое, розовое и в добавление к этому пятно зеленое. О том, что Рублева занимало больше всего соотношение красочных пятен, а не цвет предметов, говорит то, что рукав левого ангела у него не синий, каким он должен был быть, а розовый, как и его плащ.
Н. Пунин называл Рублева одинокой звездой на небосклоне Древней Руси. Позднейшие исследователи положили много труда на то, чтобы найти его предшественников, спутников и преемников. И все же в „Троице" Рублева, прежде всего в ее колорите, есть нечто исключительное, небывалое, неповторимое. Сколько творческого дерзания требовалось для того, чтобы похитить кусок небесной лазури и вопреки всем канонам и обычаям сделать этот цвет, по натуре своей созерцательный, трансцедентный, самым активным пятном композиции, превратить непременную принадлежность иконы—золото в аккомпанемент к ее краскам.
Несмотря на значительные утраты красочных слоев, особенно в одежде левого ангела, нарушающие первоначальное равновесие красок, в „Троице" Рублева еще доныне явственно различимы и прозрачные лессировкн, и легкие высветления, и соотношения между красками различной светосилы, и, наконец, воздушная прозрачность дали. В самих красках иконы выражено, что здесь представлено всего лишь светлое, как сон, видение, и вместе с тем в очертаниях, в чистоте их красок угадывается поэтическая сущность вещей, истинная реальность мира. ' Совсем иной характер имеет цзет в новгородской иконописи. Краски поют у Рублева, в новгородских иконах они звенят. Они привлекают своим открытым, звонким цветом, но им незнаком нежный, изысканный колоризм московской школы, как выражение тончайших душевных переживаний.
Икона „Георгия пешего" в известной степени представляет собой исключение. В ней, как и в Троице" Рублева, преобладает один цвет, но только не небесная лазурь, а огненная киноварь. Красный плащ задумчивого воина служит красочной доминантой, которой подчиняются остальные тона. Наоборот, в новгородской иконе с изображением царя Давида господствует типичный для Новгорода контраст между киноварью, белым, черным и охрой.
В новгородской иконе XV века первичным является обычно рисунок, очерченный четким темным контуром, нередки графические контрасты белого и черного. Ради обогащения рисунка поверх него накладываются яркие краски. Прежде всего яркая, бодрая киноварь, во вторую очередь изумрудная зелень, которая вступает с ней в соперничество, поднимает ее активность, хотя и никогда не одерживает победы.
Новгородские иконы выглядят не столько сотканными из разноцветных нитей, сколько расцвеченными, искусно раскрашенными. Цветовые пятна постоянно перебиваются в них белыми, а иногда и цветными пробелами, что несколько ослабляет их цветовое воздействие. Это заметно в изящной и нарядной новгородской иконе Фрола и Лавра.
В пристрастии новгородских мастеров к открытому, яркому цвету, видимо, сказалось с воздействие на них народного, крестьянского творчества. Недаром только в иконах монастырского происхождения преобладает аскетический, сдержанный и даже мрачный колорит, порою в них царит монохромность. Вместе с тем звонкий новгородский колорит, только отяжеленный, огрубленный, перешел в позднейшие северные иконы. Что-то от новгородской пестроты и расцветки сохранилось еще позднее в росписи крестьянских прялок. В конце XV века чистый цвет подменяется в Новгороде мелким цветным узором. В этом предвосхищается колорит русской живописи XVII века. Звонкость и яркость красок в новгородских иконах XV века делает их очень привлекательными в глазах современного зрителя. Действительно, нельзя не залюбоваться тем, как виртуозно распоряжались своей палитрой новгородские иконописцы, как находчиво и умело они оживляли красками поверхность иконной доски. Но их артистизму присуща известная сдержанность. Колорит новгородских икон в большей степени сделан, чем сотворен. Новгородским краскам не хватает лиризма. Они тешат глаз, как краски в иранской миниатюре, но не способны взволновать зрителя, захватить его, как лазурь Рублева.
Различие между Новгородом и Псковом можно заметить уже в самых ранних иконах. В новгородской иконе „ Иоанна Лествичника" фон плотно и ровно залит киноварью, ему противостоит фигура святого в темно-малиновом плаще. В псковском „Илье Выбутском", в оттенках красного и серо-сизого больше мягкости и теплоты, и соответственно этому образ старичка пророка не столь монолитен. В XIV—XV веках различие в колорите Новгорода и Пскова заметно усиливается
Псковские мастера уступают новгородским в живописной сноровке. Выполнение их икон несколько тяжеловато, неуклюже, красочные пятна кладутся густо и небрежно. Зато все согрето в них живым и даже страстным чувством. Плотные массы цвета живут и движутся, землистые и коричневые тона загораются и озаряют все жарким внутренним светом.
В иконе „Собор Богоматери" красные одежды и белые блики резко выделяются из темно-зеленой массы фона. Усилием воли художника, силой его душевного озарения цвет рождается из мрака и побеждает его. Горение красного (не чуть холодноватой новгородской киновари, а шафранно-красного) достигает в иконах „Рождество богоматери" и „Сошествие во ад" патетической силы выражения. Псковский мастер не стремится порадовать зрителя радужностью своего колорита. Он будоражит, пробуждает зрителя, потрясает его до глубины души. Красная одежда Христа рядом с красным плащом Евы—в этом страстно звучит их духовное единение. Фигура Христа выделена только белыми бликами на его плаще у
Существует множество прекрасных икон XV века, относительно которых до сих пор неизвестно, какой школе они принадлежат. Таковы две иконы из бывшего собрания Острухова „Снятие со креста" и „Положение во гроб". В своем предпочтении к киновари и к теплым тонам их создатель обнаруживает известную близость к Новгороду. Но он решительно отходит от понимания цвета как расцветки, раскраски рисунка. Киноварь не спорит у него с изумрудно-зеленым. Она властно подчиняет себе остальные цвета. Зеленый цвет у него очень теплого оттенка. Мастер достигает синтеза народной многоцветности и рублевской гармонии и тональности. Вместе с тем чистые, открытые, звучные краски обладают у него огромной цветовой силой. Темно-вишневый плащ Богоматери в „Снятии" выражает всю возвышенную сдержанность ее материнской скорби. Киноварный плащ женщины с воздетыми руками
В „Положении" звучит, как горестный вопль плакальщицы. Неведомый нам гениальный мастер остроуховских икон достиг в них еще более высокой ступени духовной силы и живописного мастерства, чем псковские иконописцы.
Одним из последних великих колористов древнерусской иконописи был Дионисий. Он унаследовал от Рублева тонкость тональных соотношений, и вместе с тем его привлекало богатство и разнообразие красочной гаммы новгородских икон. В его иконах митрополитов Алексия и Петра с житием исчезает противопоставление цвета предметов свету, который падает на них. Стихия света входит в стихию красок, сливается с ней и преображает спектральные краски. Утрачивая былую плотность и силу, краски Дионисия становятся прозрачными, как бы акварельными или витражными. Вместе с тем появляется множество полутонов, колорит становится изысканно-утонченным, но не теряет одухотворенности. Безукоризненно владея нежными тонами, полутонами, хочется сказать—четвертными тонами, Дионисий противопоставляет им темные, почти черные, и этот контраст еще усиливает прозрачность и воздушность цветовой атмосферы его икон.
А.Грищенко описал краски одного из клейм жития Алексия „Посвящение в митрополиты" простые отношения жизнерадостных красок дают впечатление торжественности праздничного момента посвящения. Все белые облачения рознятся только оттенком и характером крестчатого узора: свиток белый, подризники золотисто-желтые, драпировка престола киноварная; бледно-охряная стена и собор цвета желтого мрамора выдержаны в одном тоне (чтобы обобщить фон) и, наконец, крыша медянковато - зеленая. Замечательно усиливает основание композиции белая, совершенно прямая нижняя полоса митрополичьего подризника с одной стороны и темная кайма на стихаре архидьякона—с другой. Эллипсообразные черные просветы рукавов разбивают гладь стихаря, подчеркивая его белизну".
В колорите своего „Распятия" Дионисий отчасти следует Рублеву как создателю „Преображения". Он наполняет икону рассеянным светом, пронизывающим и объединяющим отдельные краски. Но в отличие от своего великого предшественника у него больше многокрасочности, особенно в одеждах женщин вокруг Богоматери. Вместе с тем нежно-розовые, бледно-оранжевые, голубые и изумрудные тона растворяются в свету, заливающем всю плоскость иконной доски. Благодаря нежности тонов из драматического сюжета исчезает все суровое и мрачное, побеждает праздничность, одухотворенность. Голгофский крест среди порхающих по небу ангелов превращается в сказочное священное дерево, усеянное цветами. В конце XV века в Москве рядом с Дионисием работают и другие превосходные мастера. В иконе „Шестоднев" шесть праздников выдержаны в обы
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Сказки и их значение
В отчете о деятельности Отделения этнографии и состоящих при нем комиссий Императорского Русского Географического общества за 1914 год
- Следы исчезнувших культур
Без достижений древних цивилизаций,наш мир немыслим ни в одном своем звене.В мире существует множество различных культур. Все они уника
- Собиратели русского фольклора
ВолгоградскийГосударственный институт искусств и культурыРЕФЕРАТПо предмету: «Этнография и фольклор»По теме: «Собиратели фольклора
- Совершенствование библиотечного дизайна Сибайского института Башкирского Государственного Университета (БГУ)
Хорошо известно, какое широкое развитие получило в нашей стране за последние годы дизайн интерьера. Именуемое то «художественно-констр
- Современное искусство
Современное искусство (англ. contemporaryart, в России 90х годов использовали перевод этого термина как актуа́льное иску́сство), – совокуп
- Современные отечественные библиотечные союзы и ассоциации
Сравнительно-историческое исследование сложного социального явления - библиотечных ассоциаций - показывает, что их развитие было дете
- Современный танец как средство внешней и внутренней гармонизации личности
СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ГАРМОНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИВведение Актуальность темы. Именно в двадцатом веке танец с
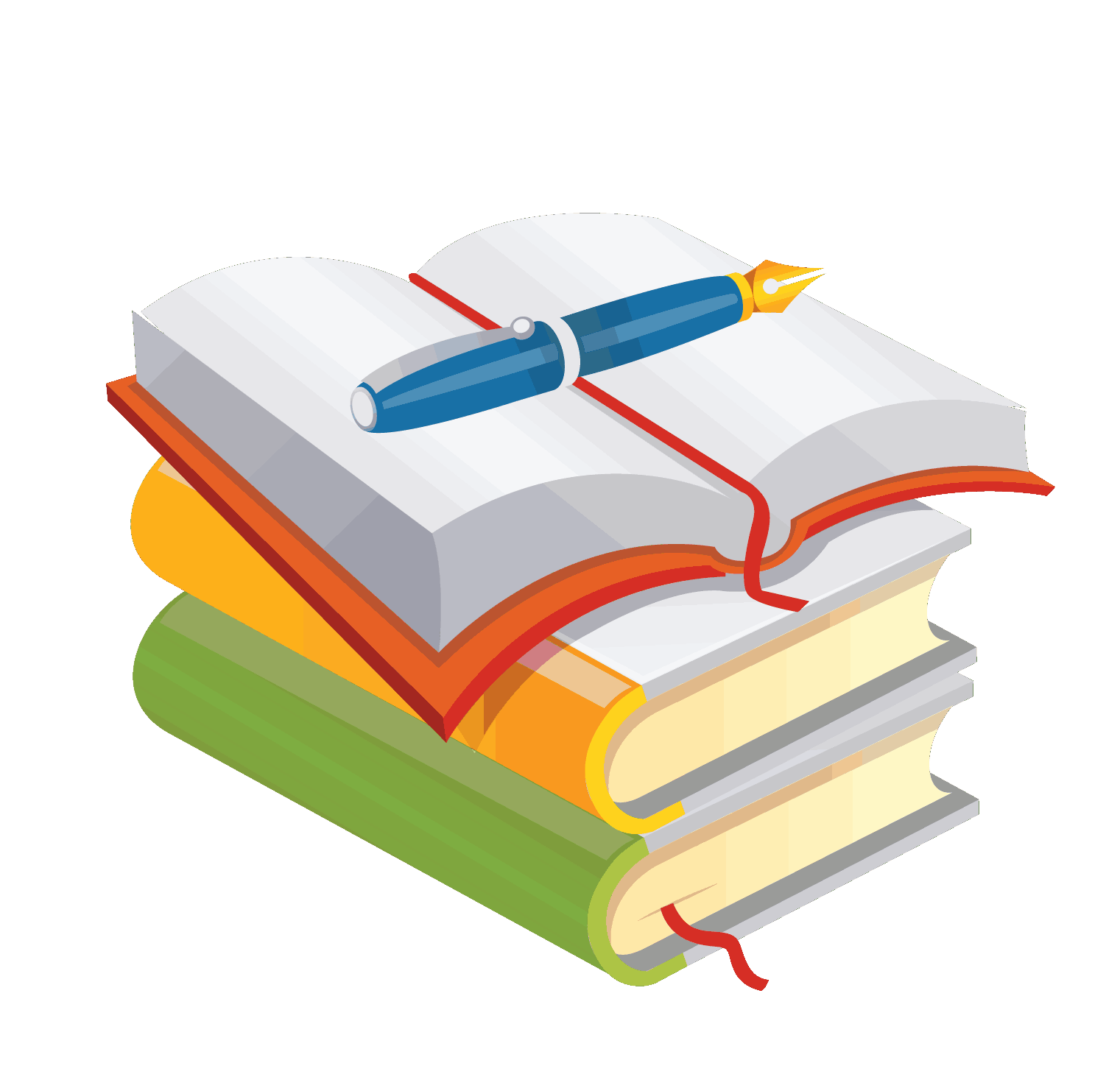 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.