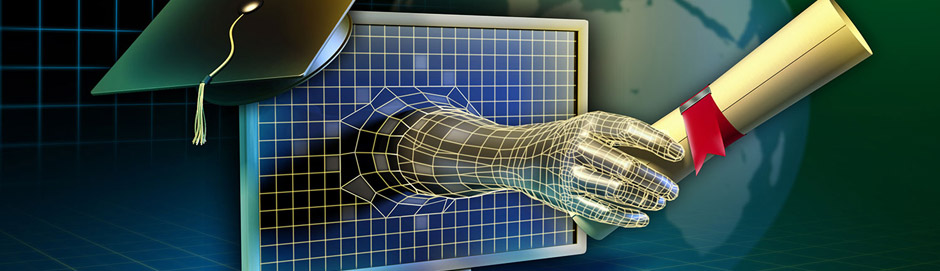Психология мифа
I. Иных уж нет, а тех долечат…
Четверть века назад, перед очередным юбилеем Пушкина, был объявлен конкурс на лучший памятник поэту. Третье место занял проект - стоит Пушкин и держит в руках томик «Малой земли» Брежнева. Второе место - стоит Брежнев и держит в руках томик Пушкина. Первое место - стоит Брежнев и держит в руках томик «Малой земли». Что-то кроме шуток объединяло в то время занудного маразматика Брежнева и великого Пушкина. Что же это было? Какова на самом деле высшая форма признания для гения? Непризнанных талантов море, но состоявшимся гений считается, лишь став классиком, т.е. попав в школьные программы(1) и став элементарно скучным для школьников. Английские школяры не любят Шекспира, испанские - Сервантеса; хорошо, что и нашим есть от кого зевать. Почему так происходит? Это проблема экзистенциала речи. Речь есть способ давания видеть. Ее можно использовать для открытия нового, для еще большего размыкания бытия, для расширения просвета, в котором стоит человек. А можно и просто бессмысленно переливать из пустого в порожнее, повторяя избитые трюизмы. Гений - это как раз человек, размыкающий новые горизонты бытия. За ним обычно следуют толпы эпигонов. Как справедливо заметил Норберт Винер, любой талантливый фильм, имеющий успех, мгновенно вызывает лавину низкопробных подражаний, разрабатывающих ту же тему теми же средствами. Талантливого поэта отличает свежий взгляд и оригинальные образы, тогда как графоманы используют клише, штампы, избитые сравнения и затасканные рифмы, т.е. уже многократно использованную информацию.(2) В этом и есть суть проблемы. Едва поэту удается расширить просвет бытия, как тут же толпы подражателей замусоливают все его открытия. Потому и не любят школьники Шекспира и Пушкина, что они уже навязли в зубах, их цитаты носятся в воздухе, они повсюду - и они уже сами стали штампами.(3) В гештальт-психологии есть понятия фигуры и фона - так вот, поэтические находки Пушкина из блистающих, резко выделяющихся на сером фоне фигур, сами уже стали фоном. Гений, трансформирующий язык целой нации, поднимает планку языкового стандарта - и платит за это утратой свежести и оригинальности. Сегодня за рифму кровь-любовь надо убивать на месте; но первый поэт, который свел эти понятия, был гением. И так во всем. Открытия Пушкина, оплаченные страданием и напряжением, давно стали банальными элементами занюханной обыденности. Русский историк Василий Ключевский, говоря о своем восприятии Пушкина, особо подчеркивал, что в пору его ученичества Пушкин еще не был хрестоматийным классиком.(4) Но те времена давно минули. Россия давно уж переварила Пушкина, во всяком случае, весь корпус, входящий в школьную программу. Поэтому филологи и любят заниматься письмами, черновиками и прочими малоизвестными текстами; но мы должны рассматривать именно общеизвестные хрестоматийные вещи, которые и так всем давно уже понятны. Потому что мы знаем, что общепонятность - это не более чем вульгарное искажение. Слава есть полное непонимание, если не хуже, - писал Борхес. Попробуем же заново понять очевидное, само собой разумеющееся.
Рассмотрим текст не просто общеизвестный, но известный всем с самого раннего детства - «Сказку о царе Салтане». Она написана Пушкиным в год его женитьбы, в 1831, после бурного всплеска творческой активности, известного как Болдинская Осень. Мы можем предположить, чем была эта осень для Пушкина. Свадьба с Гончаровой, назначенная на октябрь 1830, не смогла состояться. Карантин запер Пушкина в Болдино на три месяца. Это была его предсвадебная горячка, протекавшая на фоне всеобщей эпидемии. Иными словами, судьба не дала Пушкину броситься в брак очертя голову, но предоставила ему время и уединение для подготовки себя к этому шагу. Женитьба - один из немногих переломных моментов в жизни человека, меняющих всю его жизнь - его социальный статус, его образ жизни, его мировоззрение. В добрые старые времена у всех народов в такие критические моменты общество поддерживало человека, насильственно втягивая его в определенные формализованные ритуалы перехода, призванные оторвать его мысли и привязанности от старого образа жизни и направить их к новым целям и объектам. Но если в обществе социальные ритуалы перестают выполнять свою роль, то необходимые для осуществления перехода образы будут продуцироваться бессознательным - в сновиденьях и фантазиях, в творческих озарениях или в симптомах психических расстройств. Мы будем рассматривать «Сказку о царе Салтане» именно как такую творческую проекцию. Реакция бессознательного на тревогу, вызванную необходимостью изменить свою жизнь, отразилась в спонтанном выстраивании обряда перехода по классическому образцу универсального мономифа. Кстати, термин мономиф, ключевое понятие прикладного анализа, был взят из «Поминок по Финнегану» Джеймса Джойса, автора знаменитого «Улисса». Интересно, что из того же художественного произведения был взят и другой термин - кварк, ставший фундаментальным элементом современной физики.
На то, что фрустрация, запускающая бессознательный процесс, связана именно с предстоящей женитьбой, указывает и само название текста: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Оно поразительно напоминает название известной сказки из «1001 ночи» - «Повесть о царе Шахрамане, сыне его Камар аз-Замане и царевне Будур» (и мы тут же вспоминаем одно из заклинаний царевны Лебедь: «Будь же, князь, ты комаром!»). Так вот, этот Камар (аз-Заман) три года подряд упорно отказывался жениться. В конце концов, его отец, разгневавшись, заточил принца в старую башню с заброшенным колодцем. И принц сидел там, как Пушкин в Болдино, вызывая сочувствие и понимание у читателей-мужчин - страх перед женщиной порождает желание отказаться от перехода. К счастью, в разрушенном колодце башни жила крылатая джинния, которая и нашла принцу лучшую в мире жену («что не можно глаз отвесть»). Принц просто пассивно принял судьбу, выстроенную для него волшебной Помощницей. Более того, он и по отношению к царевне вел себя пассивно. Джинния поспорила с другим джинном, кто красивей - Камар аз-Заман или Будур. Критерий был один - кто от кого больше возбудится. Спящую царевну перенесли в башню к спящему принцу, и там их по очереди будили. Джинн обернулся блохой и укусил Камар аз-Замана за руку. Принц проснулся и, конечно, тут же влюбился - но он был сдержан, так как думал, что девушку привел его отец, который сейчас наблюдает за ним. А джинния, обратившись блохой, коварно ужалила царевну в то самое место, которое у женщин склонно к воспламенению. Будур думала, что это сон, и ни в чем себе не отказывала. Это вполне типичная предсвадебная фантазия - оказаться в пассивной соблазненной роли, спихнув на партнера ответственность за важнейшее решение.
Итак, мы имеем дело с зовом, с необходимостью перемены жизни, на которую бессознательное отреагировало продуцированием фантастической истории. Мы знаем, что и здесь возможны вариации - история может быть детской волшебной сказкой или общезначимым мифом. В нашем тексте эти линии переплелись самым причудливым образом. Мягкая и щадящая пряжа сказки соседствует в ней с режущей кромкой архаического мифа, тревожащего грозные бессознательные силы.
Сюжет волшебной сказки прост и прозрачен. Полностью зависимый ребенок, который и править-то начал «с разрешения царицы», должен стать как отец и занять место отца, закрепив эту победу женитьбой на матери. Сильнейшая инцестуозная тревожность отчасти снимается тем, что для Гвидона образ матери расщепился на два полюса - реальная мать (царица) и идеализированная мать (Лебедь), мгновенно и безотказно выполняющая все прихоти ребенка. Таким образом, женитьба на прекрасной царевне становится уже не преступлением, а подвигом, заключительным этапом героического пути. Нам прекрасно известна эта славная стезя отцеборства. Но идущий по ней Герой-инфант всегда отравлен ядом вины - за влечение к матери и за враждебность к отцу. Эта вина - необходимое условие формирования социального Супер-Эго. Зато взрослый, ретроспективно переживающий эдипальный переход, может защититься от вины - прикрыв мать идеализированной царевной и переведя враждебность к отцу в безобидную область престижного соперничества.
Для совершения великого подвига отцеборства мальчик-инфант должен пройти определенные стадии героического возмужания, фазы сексуального развития. Едва родившись (т.е. выйдя из бочки), князь тут же приступает к выполнению своей миссии. Его первое испытание, соответствующее оральной фазе - это испытание голодом. Ребенок овладевает процессом приема пищи, переводит его из инстинктивной сферы в сферу волевого регулирования, что включает в себя и возможность отказа от еды. Убив коршуна, князь потерял единственную стрелу, и идеализированная мать - Лебедь - утешает его:
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня,
Что стрела пропала в море;
Это горе - всё не горе.(5)
Смирив оральные влечения, князь попадает в сферу анальных желаний. Его мечтой становится обладание белкой-затейницей, продуктом жизнедеятельности которой будут изумрудные ядра и золотые скорлупки (из которых можно лить монету). Анальная символика этого стремления к золоту вполне очевидна даже без дополнительного подкрепления типично анальной терминологией: «кучки равные кладет». Научившись управлять сфинктером, князь вдоволь повеселился - он выстроил для белки хрустальный дом (так как золото лучше производить в уединении) и организовал строгий счет золотым скорлупкам. Все в полном соответствии с известной нам триадой анального характера.
Но эти анальные игры естественны и безобидны, если не фиксироваться на них чрезмерно, а развиваться дальше. На следующем этапе инфанта ждет фаллическая стадия со своим набором желаний и со своей символикой. Тут появляется интерес к колющему и режущему оружию, к военной атрибутике. Уретальная компонента формирует честолюбие, желание прославиться - лучше всего в качестве властелина непобедимой армии. Объектом желания князя становятся воины, тридцать три богатыря.
То, что речь здесь идет о развитии ребенка-инфанта, совершенно очевидно. Ведь для осуществления своих желаний князю не нужно прикладывать даже минимальных усилий - достаточно лишь вслух заявить о своем желании. Достаточно лишь попросить о чем-то мать - и можно спокойно ложиться спать. Подвиг его заключается именно в отказе от любимой игрушки и переходе на новый объект. А в настоящем мифе и за самую малость Герой должен сражаться - с риском для жизни и на пределе возможностей.
На следующей, генитальной стадии(6) объектом желания князя становится прекрасная женщина. Это желание, как и все предыдущие, должна выполнить мать - что вполне естественно для ребенка. Сексуальное развитие Гвидона должно завершиться инфантильно-фантазийным образом: мать должна предоставить ему себя в качестве сексуального объекта. Эти фантазии также довольно типичны и описаны еще Фрейдом.
Итак, женитьба на прекрасной царевне знаменует победу над отцом и обладание матерью. Но ведь реальная царица-мать, которую Гвидон по эдипальной традиции некогда увел у своего отца - ведь она никуда не делась! Это ей бухается в ноги князь со словами:
Государыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе.
…
Ты детей благослови
Жить в совете и любви.
В бочке безымянная царица билась, плакала и вопила - а сын, не обращая на нее внимания, командовал волнами. На острове она спала или удивленно ахала. Совсем мало глаголов нашлось для нее у Пушкина - и не самых почтительных. И вдруг - «государыня», «дочь», «дети». Может быть, эти слова (особенно «дочь»!) и нужны именно для того, чтобы незаметно сдвинуть царицу с роли реальной матери (т.е. объекта влечений) князя на роль всеобщей прародительницы, великой бабушки (ведь если Лебедь будет дочерью царицы, то царица станет матерью идеализированной матери князя, т.е. его бабушкой!).(7) Ну и заодно такая подмена позволит прояснить старую загадку - откуда же появился город на прежде безлюдном острове? От кого же народился целый народ?
Это тоже известная эдипальная фантазия - овладеть матерью, а отца умиротворить бабушкой - пусть отыгрывает на ней свою инцестуозность. После такого трюка Гвидон решается, наконец, пригласить на свой остров отца, который до этого был надежно отстранен от идиллической жизни сына с матерью. Но, видимо, какая-то ревность все же остается - и в результате царь Салтан после долгого воздержания так и не может проявить своих мужских качеств. Вместо этого он по русскому обычаю напивается, и его, как бревно, укладывают спать. Естественно, одного. Пушкин подчеркивает здесь пассивную роль отца - не он ложится, но его укладывают. Грозный отец, таким образом, символически убит - т.е. кастрирован (лишен своих креативных способностей). Царевич же появляется на этом фоне в роли жениха со всем вытекающим отсюда набором ассоциаций. Превосходство над отцом доказано; тут и сказочке конец. Импотенция Салтана в результате алкогольной интоксикации продолжает тему возрастной импотенции Черномора из «Руслана и Людмилы»; через три года эта тема приведет Пушкина к фигуре совсем уж необратимого скопца-звездочета, которого другой Герой должен будет убить, и на сей раз совсем не символически.
Наверно, все же не совсем понятно, как можно мечтать иметь мать в качестве жены, и одновременно ее же отдать отцу в качестве бабушки. Ведь это один и тот же человек, единый и цельный (т.е. неделимый)! Говоря о расщеплении (реальная мать - идеализированная мать),(8) мы осуществляем редукцию к самому раннему детству - и рассматриваем образовавшиеся полюса, как некие остаточные явления младенческого процесса интеграции единого образа матери. Чем менее успешно он проходил, тем более яркими и более противостоящими будут фантазийные (а для поэта - поэтические) образы Матерей. Неудача на этом пути создает реальные предпосылки для психоза (шизофрении), о чем мы подробно будем говорить в четвертой части данной работы.
Каждый человек носит в душе эти образы (архетипы) хорошей (идеализированной) и плохой (страшной) матери. Проблемы начинаются, когда архетип становится избыточно значимым, навязывающим свои правила восприятия и реагирования. Если мужчина, например, проецирует на своих потенциальных избранниц образ идеализированной матери, то мы говорим - он ищет спутницу по опорному типу.
И главное - не следует забывать, что сказка - это не дневниковая запись ребенка-инфанта, а ретроспективное обращение взрослого автора к переживаниям раннего детства, которые он более или менее успешно интегрирует с общенациональным фольклорным материалом. По сути, искусство есть персонификация смутно ощущаемых фантазийных образов. Общезначимое искусство персонифицирует универсальные архетипы. При этом: бездарное искусство оперирует с образами сознания (и называется - пропаганда); гениальное же объективирует образы бессознательного. Степень гениальности при этом пропорциональна степени бессознательности оживляемых архетипов.
Вот почему мы можем встретить в сказке сразу (одновременно) несколько образов матери, каждый из которых наделен узнаваемыми индивидуальными чертами. Более того, по самой своей природе персонификации могут быть враждебны друг другу (например, идеализированная мать - страшная мать), причем эта враждебность может доходить вплоть до прямого убийства.
Как известно, в отличие от Фрейда, Юнг трактовал влечение к матери символически - как мечту о возврате в материнское лоно для повторного рождения:(9) «Одним из наипростейших путей было бы оплодотворение матери и торжественное порождение себя самого. Но преградою к тому является кровосмесительный запрет; поэтому солнечные мифы и мифы возрождения так и кишат всевозможными предположениями, как бы обойти кровосмешение. Одним из очень откровенных окольных путей является превращение матери в какое-либо другое существо, или же возвращение ей молодости (Ранк показал это на прекрасных примерах в мифе о Деве-Лебеде), но с тем, чтобы после совершившегося рождения она исчезла, то есть приняла прежний облик».(10) Интересно, что в данном случае для подтверждения своей теории Юнг использует древнюю кельтскую легенду о «лебедином рыцаре» Лоэнгрине и Деве-Лебедь, ведущей его по воде (chevalier au cigne).
В волшебной сказке такого типа, согласно эдипальному раскладу, царь Салтан должен быть Антагонистом, т.е. всячески преследовать сына и препятствовать его женитьбе. Мы же видим в пушкинском тексте совершенно обратную картину. Объяснить это противоречие можно обратившись к сказке братьев Гримм «Три волоска черта», где зеркально отражена ситуация и с бочкой, и с подменным письмом. Король-Антагонист, отец Невесты, предлагает родителям Героя взять их сына на воспитание, а сам кладет его в ларец и бросает в реку. Ларец, естественно, выносит на берег, где его находит мельник, который и воспитывает Героя. Король, узнав о том, что Герой выжил и вырос, приказывает ему доставить письмо королеве. В письме приказ - убить посланца. Но в лесу Героя грабят разбойники, которые, прочитав письмо и пожалев юношу, заменяют царскую грамоту. Теперь в ней приказ - обвенчать посланца с принцессой. Эта ситуация кажется более реальной. Разумеется, в бочку князя посадил сам царь, но в дальнейшем эта часть сюжета подверглась обращению в свою противоположность - приему, хорошо известному нам по работе сновидений.
Откуда же такая лютая ненависть отца к сыну, неизменно повторяющаяся в пространстве мифа? Еще Отто Ранк в работе «Миф о рождении героя» писал, что эдипальная неприязнь мальчика к отцу в результате проекции создает фигуру враждебного, преследующего отца. При этом, разумеется, подыскивается и подходящее рационализированное обоснование отцовской враждебности. Царь Салтан уезжает на войну прямо из брачной постели, почти сразу после свадьбы. Мы знаем, что царица, «дела вдаль не отлагая», зачала сына с первой брачной ночи и, судя по всему, относила его полный срок, девять месяцев. Но отцовство вообще вещь сомнительная; а у Салтана, видимо, был повод подозревать, что его жена могла зачать и после его отъезда. Весть о том, что царица родила «не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку», стала прямым доказательством ее измены - она свидетельствовала о передаче приплоду наследственных признаков неизвестного родителя. Тот же сюжет мы можем найти и в «Немецких преданиях» братьев Гримм, где Беатрикс, супруга короля Фландрии, рожает семерых мальчиков в отсутствии мужа. Злая мать короля приказывает слуге убить детей, а на их место положить семерых щенков; слуга бросает принцев на произвол судьбы. Мать короля рассказывает вернувшемуся сыну, что знает даже того пса, с которым Беатрикс вступила в порочную связь - и король приговаривает жену к казни. Таким образом, у Салтана были все основания сомневаться в своем отцовстве и казнить неверную супругу.
Здесь мы вновь видим, как механизм проекции приписал отцу чувства и мысли сына. Эдипальная враждебность сына создала образ злобного преследующего отца. Одновременно стремление возвыситься породило непременную фантазию двух семей. Мечтательная мысль ребенка, что его «истинная» семья более высокородна, чем семья реальная, также проективно передалась враждебному отцу в форме сомнения в истинности отцовства. Разумеется, механизм возникновения типической фантазии двух семей не ограничивается стремлением возвыситься. В его основе лежат смутные инфантильные воспоминания ребенка о другой семье - семье доэдипального периода, оставленном рае, еще не знающем эдипальной враждебности. Но этот рай безвозвратно потерян - и, значит, мифический отец по определению не может быть добрым и справедливым. Если отец Героя все же дружественен, то он - лишь результат расщепления отцовского образа, и вторую, темную его половину следует искать в фигуре преследующего деда, дяди (брата матери) или короля.
Очень часто в сказках и мифах Антагонистом является дед, отец матери Героя (и он же обычно тиран, жестоко правящий страной, которую Герою предстоит унаследовать). В этом случае мы можем говорить о том, что произошло расщепление образа отца во времени, что сказочный отец Героя - это доброжелательный отец доэдипального периода, а преследующий дед - это отец, как грозный соперник маленького Эдипа. В этом варианте мифа отец Героя обычно или умирает задолго до возмужания сына (не может оказать ему помощь в борьбе с Антагонистом), или вообще отсутствует (его заменяет бог, причем часто в каком-то совсем неосязаемом облике - вроде ветра (духа) или солнечного света). Антагонист, услышав пророчество о том, что внук свергнет его с престола, прикладывает такие усилия для сохранения девственности своей дочери, что Герою нередко приходится рождаться от непорочной девы. Но, как и в других подобных историях, несмотря на очень типичные враждебные действия отца, князю Гвидону все же удается выжить и вырасти богатырем.
Фазы сексуального развития Гвидона отделены друг от друга четкими границами. На этих фазовых переходах князь теряет свою самоидентичность, превращаясь в нечто совершенно чуждое человеку - в крылатое насекомое. В этом образе он и посещает дворец отца, где поочередно жалит в глаз своих теток - ткачиху и повариху. Бабариху же, смиряя свои порывы, князь жалит в нос. Учитывая очевидную вагинальную символику глаза,(11) мы можем предположить, что именно постоянная инцестуозная тревожность Гвидона не позволила ему и в этот раз совершить свой привычный маленький подвиг:
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей
Старой бабушки своей.
Ведь баба Бабариха - настоящая бабушка Гвидона, выполняющая материнские функции по отношению к его матери и ее сестрам. Причем ткачиха и повариха в этой семье - родные дочери, а несчастная царица - падчерица, Золушка, не допускаемая мачехой на праздник жизни. Но это уже совсем другая линия.
Так вот с кем остался жить некогда грозный царь! Вот кого оставил Гвидон своему отцу! Что ж, нечего было Салтану где-то «далёко биться долго и жестоко». Если отец отсутствует, то эдипальной фантазией может быть: «я победил и устранил его». А с побежденными особо не церемонятся. Младенец Гвидон, как мы помним, рос «не по дням, а по часам». Возможно, между свадьбой Салтана и свадьбой Гвидона не прошло и года - но это уже совершенно разные поколения. Динамика сказки просто потрясающая - все в ней происходит практически мгновенно. Необходимые процессы (рост, физическое возмужание) максимально форсированы, сжаты в считанные часы. Кажется даже, что безжалостный цензор просто вырезал из сюжета некоторые (излишние с точки зрения ребенка) стадии. Ничто не должно мешать этой сверхзадаче инфанта - стать взрослым (а значит: захватить власть над миром) - прямо сейчас и любой ценой.
В сказке отсутствуют даже намеки на латентный период - создается впечатление, что первая стадия сексуального развития плавно переходит во вторую, а фаллическая фаза перетекает прямо в генитальную. На самом деле ни до латентного периода, ни до генитальной фазы дело так и не доходит. Просто в сказке символика фаллической фазы порой выглядят как псевдогенитальная. Причины такой кажимости очевидны. Мы знаем, что в реальной жизни влечения фаллической фазы принципиально неудовлетворимы; они должны быть отложены (по объекту - навсегда, по функции - на время латентного периода). Но в сказке вновь просыпается детская надежда на быстрое и полное удовлетворение инфантильных желаний. Здесь предельно обнажается обычно скрытая тенденция искусства, гениально вскрытая Фрейдом: «В качестве конвенционально дозволенной реальности… искусство образует промежуточную область между отказывающей желаниям реальностью и исполняющим желания миром фантазии, областью, в которой пребывают в силе стремления к всемогуществу примитивного человека».(12)
Итак, князь сумел осуществить великую детскую мечту - мгновенно стать взрослым и занять место отца. Теперь молодой еще царь-отец, практически сверстник Гвидона, должен стать дедушкой и удовлетвориться бабушкой - сперва Бабарихой, а потом, по мере смещения реальной матери (царицы) на роль бабушки - царицей. Это остроумное и бескровное устранение отца. Также находчиво решает проблему устранения братьев и сестер, конкурирующих с ним за любовь матери, другой эдипальный пушкинский герой - Балда. Отца-попа ему все же приходится устранить физически, хотя тоже не до смерти. Зато сестру-поповну можно, как и мать-попадью, взять в жены - в детской фантазии она уже «о Балде лишь и печалится». А младшего брата-попенка, женившись на матери, можно усыновить - в фантазиях он уже «зовет его тятей».
Балда - редчайшее исключение из общего правила, что Герой - всегда младший брат. Нередко при этом старшие братья, по праву первородства узурпировавшие наследство отца, становятся врагами и соперниками Героя. В нашей терминологии они или Ложные Герои, или настоящие Антагонисты, замещающие враждебного отца. Отто Ранк считал, что такая замена отца братом отразила великую победу примитивной культуры - соперник, прежде столь неравный, стал гораздо более сопоставим с Героем, у которого, наконец, появились реальные шансы на победу.
Старшие дети уже выстрадали горькое знание - любовь матери не принадлежит им всецело. Ее внимание и забота сосредоточены на младшем, самом беспомощном. А он купается в волнах непуганного нарцизма, чувствуя себя центром мира и средоточием всеобщей любви. То, что Герой является младшим в семье, подчеркивает нетравмированность его нарцизма, его самоценность и самодостаточность. Все это ему предстоит потерять при обновлении - и слушатель мифа должен не сомневаться: Герою действительно есть что терять.
Тема опекаемого младшего брата часто встречается в сказках для девочек. Но в древних мифах мы иногда видим совсем иное разрешение проблемы сиблингового соперничества. Медея, убегающая с Ясоном и Золотым руном, пригласила на корабль своего младшего брата. Когда флот ее отца стал настигать Арго, она спокойно посоветовала Ясону разрубить своего братика на части и разбросать их по морю. Тогда отец вынужден будет собрать все части, а затем вернуться и похоронить их. Ясон так и сделал - и смог избежать встречи со страшным мужчиной кавказкой национальности.
Вернемся к сексуальному развитию Гвидона. Проблему его фазовых переходов стоит рассмотреть подробнее. Как летающее насекомое, князь вполне мог сам долететь до дворца своего отца; во всяком случае, обратный путь никогда не вызывал у него затруднений. Тем не менее, он забивается в щель на корабле и терпит все тяготы долгого и скучного морского путешествия. Это ни что иное, как затворничество, изоляция - т.е. первый этап классического ритуала инициации. Он должен оторвать все помыслы и привычки совершающего переход человека от прежней жизни, оставляемой в прошлом. Ограниченное пространство изоляции - это склеп, могила, где хоронится прежняя жизнь. Но по мере угасания старых идентификаций, могила становится материнской утробой, в которой зарождается жизнь новая. Джозеф Кэмпбелл так описал смысл обряда перехода: человек должен умереть для прошлого, чтобы возродиться для будущего. Вторым этапом обряда является отдых после испытаний первой фазы. Во время этого отдыха иницианта в ритуальной форме знакомят с его новыми обязанностями, новым образом мыслей и самоощущений, новыми паттернами поведения. Для Гвидона это ознакомление идет через подслушивание бабских сплетен. Привычку подслушивать женщин он, видимо, унаследовал от отца; этому он обязан и своим появлением на свет. Показательно, что все остальные «гости умные молчат, с бабой спорить не хотят». Они уже прошли эти ступени; им это не интересно. Но князь буквально загорается желанием следующей фазы сексуального развития. Манифестной мотивацией этого желания является стремление заслужить одобрение отца, доказать ему свою ценность.
Идентификация с Героем мифа помогает человеку преодолеть возрастной кризис, совершить очередной переход. Иными словами, миф служит для символического сопровождения совершающейся психической трансформации. Как в дописьменных обществах зародыш мифа - сценарий мистического действа, придающий ему смысл, служил для сопровождения проводимого ритуала. Сценарий в данном случае есть не просто описание порядка действий, но описание символизируемого ими смысла. Т.е. не «иницианта запирают в избушке», но «инициант (Герой) проглатывается змеем». Не случайно помещения для инициации обладают подчеркнуто зооморфными чертами. И в русской волшебной сказке сторожевой пост Стража Порога (Бабы Яги) стоит на птичьих (курьих) ножках. Это настолько привычно нам, что даже не кажется странным.
В дописьменных обществах все мальчики, достигшие определенного возраста, должны были участвовать в коллективных формализованных обрядах перехода, в которых в символической форме отображалось ритуальное умерщвление и воскрешение в новом качестве. Типичный обряд перехода состоял из двух частей. Хочется вернуться к этому еще раз, поскольку странствия Гвидона-насекомого - всего лишь смягченная и сокращенная вариация классического ритуала. А чтобы говорить о вариациях, надо, как минимум, представлять их общие истоки.
На первом этапе - изоляции - инициантов подвергали изощренным истязаниям, таким как вырезание со спины ремней из кожи, втирание в раны едкого перца, подвешивание на веревках, продетых под ключицами и т.п. Выживания при этом никто не гарантировал. Часто при инициации юношей членовредительство символически обыгрывало мотивы кастрации - при выбивании зуба или (известнейший сказочный мотив) отрубании мизинца. Обрезание крайней плоти самым недвусмысленным образом указывало на символизируемое этим обрядом действие. Иногда пытки и издевательства сопровождались голодом и жаждой или применением сильнодействующих галюциногенов. Кульминацией этих испытаний становилось длительное затворничество, символизирующее погребение. Из иницианта в буквальном смысле «выбивали мозги»; часто он забывал не только свою прежнюю жизнь и своих родных, но даже свое имя.
На втором этапе перехода новорожденному человеку объясняли, кто же он теперь, давали новое имя, знакомили с его новым мировоззрением, с новым образом жизни. Из могилы умершего ребенка выходил охотник и воин. Иногда юноши, прошедшие инициацию, до вступления в брак жили в общем холостяцком доме, причем зачастую в жесткой конфронтации со своими прежними семьями. Изоляция (вплоть до табу на общение) старой семьи подчеркивала рубеж, отделивший безмятежное дитя от члена общества, принимающего на себя ответственность. Конечно, такие жестокие методы применялись исключительно для обеспечения самого трудного перехода - инициации мальчиков-подростков; но и любой другой обряд возрастной трансформации был труден и горек.
Здесь мы незаметно покинули территорию сказки и перешли в пространство мифа. Таким образом, мы закончили рассмотрение одной из линий рассматриваемого текста - сказки о сексуальном развитии ребенка-инфанта. Если мы можем трактовать, например, «Скупого рыцаря», как арену борьбы анальной эротики с фаллоуретальной, то в «Сказке о царе Салтане» дан самый масштабный и всеохватывающий обзор судьбы инфантильных влечений. Но это еще не миф, а именно волшебная сказка - по всем известным нам признакам. Отсутствие предмета желаний мучает конкретно Гвидона, но абсолютно некритично для мира, в котором он живет. Его достижения, связанные с удовлетворением желаний - это его личные победы семейного масштаба, также безразличные островному народу; они никого не спасают и не устраняют никаких угроз. В итоге сказки он побеждает своих семейных недругов - теток и бабушку, которые глубоко безразличны всем, кроме него. Враги, желания, победы - все очень инфантильно; наиболее заметное отличие сказки от мифа заключается именно в масштабе. Сказка - это фантастическая история о свершениях ребенка. Мальчика, но не мужа.
Мы знаем, что зов, призыв к переходу, к смене образа жизни должен продуцировать у поэта образы мономифа, соответствующие жестоким архаическим ритуалам. Откуда же в тексте взялась линия детской волшебной сказки? Мне кажется, дело вот в чем. Известно, что любое жизненное испытание, любая фрустрация ведет к активизации той разновидности либидо, которую мы связываем с инфантильными фиксациями. Может быть, корректнее описывать эту ситуацию несколько иначе. Столкнувшись с какими-либо трудностями, ставящими перед выбором, человек ищет решение в прошлом опыте, «прокручивая» всю историю своего развития.(13) При этом нефиксированные фазы «проскакиваются» практически незаметно; зато на фиксациях, которые единственно и бросаются в глаза, человек «застревает». Особенно отчетливо «пробегание» всех фаз сексуального развития различимо в начале пубертата; но оно имеет место при любом испытании, в том числе и при смене социального статуса. Пушкин, как мы уже говорили, в Болдино тщательно прорабатывал свой переход; т.е. наряду с мономифом он должен был получить и инфантильный ряд волшебной сказки.
Грань между сказкой и мифом весьма условна. Можно сказать, что миф призван помочь человеку в прохождении ключевых возрастных кризисов - пубертатного, создания семьи, материнства / отцовства и т.д. А сказка помогает проработать менее заметные, но не менее значимые для человека возрастные кризисы, соответствующие смене фаз сексуального развития. Очевидно, что действие мифа более социально. Если в сказке речь идет о простых первичных влечениях и их вытеснении, то миф говорит о разрушении высоко организованного, стабильного образа жизни и замене его другим, не менее устойчивым. По сути, функция мифа - это выполнение социального заказа на формирование различных типов мировоззрения у людей разных возрастных групп. Казалось бы, отсюда должно следовать, что миф работает на более осознаваемом уровне, нежели волшебная сказка. На самом же деле, все наоборот. Ребенок готов верить во что угодно, он хочет верить в чудеса. Другое дело - самодостаточный, самостоятельно мыслящий человек, не верящий во всякую чушь. Он врос в свое мировоззрение, в свой строй жизни - и убедить его в необходимости измениться невозможно. Ему нужно именно тотальное разрушение, ломка стереотипов, что символически означает - исход, смерть. Сильный человек жестко держится за свою жизнь, и чтобы сломать ее, необходима еще более мощная сила. Сказка часто пугает ребенка вытесненным материалом - нельзя возвращаться, пути назад отрезаны. А миф отражает глубинные психические процессы, далекие от поверхности с ее играми: осознание - вытеснение. Часто человек и сам еще не понимает, что определенный этап жизни уже изжит им. Но где-то в глубине включается древняя программа метаморфоза, и Герой попадает в пространство универсального мономифа. Рассказанный миф всегда несет колорит своей эпохи. Так, вспоминая сновидение, мы практически создаем его заново. Или забываем - ведь нам свойственно вычеркивать переживания, выпадающие из взаимосвязанной картины мира. Но через все забывания и искажения проступает: все мы (и все они) были там - в одном и том же месте.
Итак, сказочный сюжет мы разобрали; перед тем, как перейти к мифическому ряду, необходимо сделать небольшое отступление в общую теорию мифотворчества. В чем смысл спонтанного выстраивания и переживания универсального мономифа? Мы знаем, что это происходит, когда человек сталкивается с трудностями, справиться с которыми он не может. Изменившаяся ситуация предъявляет к нему новые требования, и все его качества, способности, контролируемые разумом и волей, оказываются бессильным
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Теория риторики
- Архитектурное наследие русского зарубежья: храмы-памятники Николаю II
Левошко С.С. Архитектурное наследие огромный и ценнейший пласт культуры русского зарубежья. Если вспомнить известное выражение И. Граб
- Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке
первой трети ХХ в. Левошко С.С. …всюду, куда бы не закинуло русских наше безвременье, они сохраняют верность своей религии. И по всему ли
- Искусство и историческая наука
Петр Алексеевич НиколаевИмея в виду сказанное об относительной самостоятельности искусства, можно было бы предположить, что его закон
- Культура эллинистического мира
- Основные достижения культуры Древнего Китая
Культура Китая восходит к очень глубокой древности и отличается не только богатством своих материальных и духовных ценностей, но и огр
- Свадебные обряды
Взволновалась Волга-матушка.Уносила три карабличка.Ды как и первый-та карапь унесло,С сандукам са дубовымиКак второй карапь унеслоДы
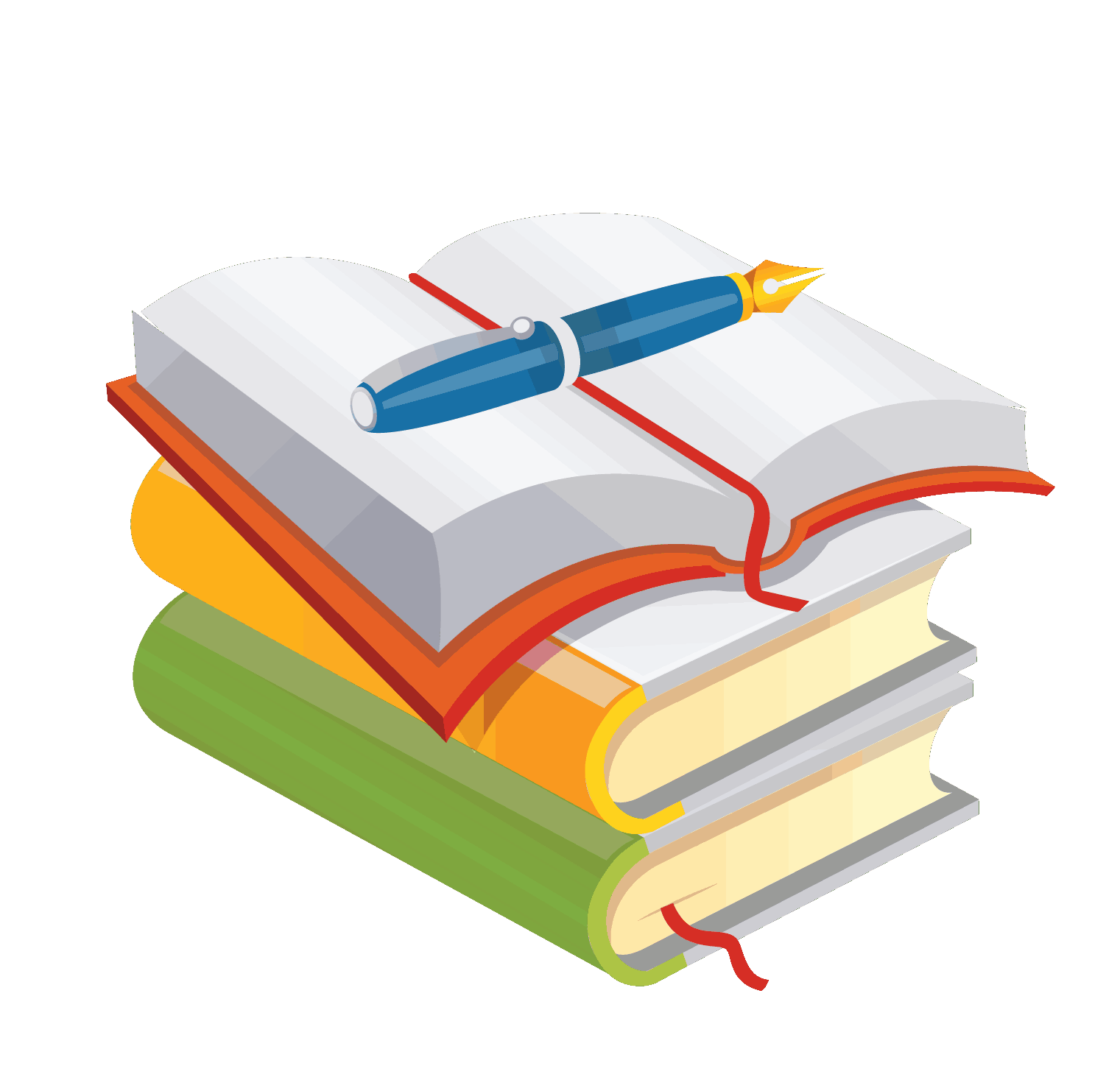 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.