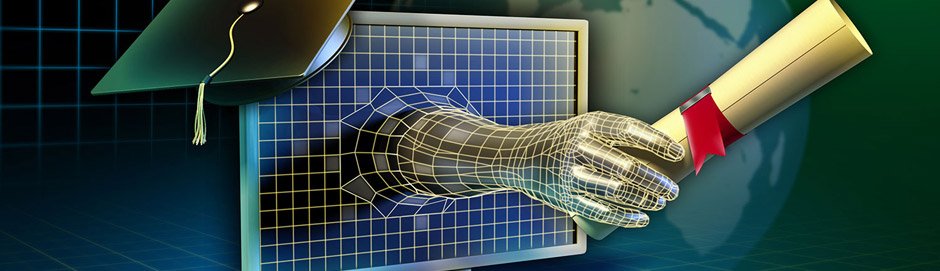Противление злу смехом. Н.Тэффи
Вспоминая об отъезде в эмиграцию Н.Тэффи писала: «Дрожит пароход, бьет винтом белую пену, стелет по берегу черный дым. И тихо, тихо отходит земля. Не надо смотреть на нее. Надо смотреть вперед, на синий широкий, свободный простор... Но голова сама поворачивается, и широко раскрываются глаза, и смотрят, смотрят... И все молчат. Только с нижней палубы доносится женский плач, упорный долгий, с причитаниями. <...> Страшный черный бесслезный плач. Последний. По всей России, по всей России... Вези!
Дрожит пароход, стелет черный дым. Глазами, до холода в них раскрытыми, смотрю. И не отойду. Нарушила свой запрет и оглянулась. И вот, как жена Лота, застыла, остолбенела навеки, и веки видеть буду, как тихо, тихо уходит от меня моя земля»1. Во всей литературе русского зарубежья нет строк, более пронзительных, окрашенных такой жгучей болью расставания с Россией. В те последние часы на новороссийской набережной у парохода «Великий князь Александр Михайлович» Тэффи еще верила, что к весне 1920 года, через несколько месяцев, вернется на родину, а на палубе вдруг почувствовала, что не увидит Россию никогда. Там осталась большая половина жизни, уютная московская квартира, близкие и друзья, всероссийская слава.
Казалось бы, у Тэффи не было причин так остро переживать разлуку с родиной. От большевиков ее уже отделила струйка крови, текущая у ворот комиссариата, через которую она не смогла перешагнуть. В Париже многие годы жил ее брат, генерал Н.А.Лохвицкий, командующий Экспедиционным корпусом во Франции во время первой мировой войны. Но глаза смотрели не на «синий широкий, свободный простор», который открывался впереди, а на родную землю. На корабле «Шилка» Тэффи написала стихотворение, ставшее широко известным как «Песня о родине» в исполнении А.Вертинского:
К мысу радости, к скалам печали ли,
К островам ли сиреневых птиц,
Все равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять мне тяжелых ресниц.
Жизнь Тэффи в эмиграции внешне сложилась благополучно: она до смерти жила в Париже, окруженная такой же любовью и почитанием, как в России, много писала, печаталась в лучших эмигрантских изданиях. Но что-то умерло в ней безвозвратно, словно увезла с собой «черный бесслезный плач», который слышала в час отъезда. Так и жила, с душой, «обращенной на восток». Страстоцвет — цветок, символизирующий страдание, стал центральным образом книги ее стихов «Passiflora» (1923) Смех Тэффи — явление уникальное не только в русской, но и в мировой литературе. А.Куприн называл ее «единственной, оригинальной, чудесной», прибавляя, что ее любят все без исключения2. Саша Черный писал: «Прежние писательницы приучили нас ухмыляться при виде женщины, берущейся за перо, но Аполлон сжалился и послал нам в награду Тэффи, не «женщину-писательницу», а писателя большого, глубокого и своеобразного»3. М. Каллаш впервые заговорила о всемирном значении ее творчества: «Тэффи в нашей литературе (и только ли в нашей!) — явление единственное и едва ли повторимое. Многоликая, независимая, сама по себе, ни на кого не похожая Тэффи»4.
Настоящее имя писательницы — Надежда Александровна Лохвицкая (по мужу Бучинская). Биографические сведения, которые она сообщала о себе, в том числе дата рождения, были не лишены элементов художественного вымысла5. Незадолго до смерти в «Автобиографической исповеди» она призналась: «Не знаю, что именно интересно в моем «жизнеописании». День рождения? Браки и разводы? Думаю, что интересно только литературное»6. Наиболее достоверные сведения о себе Тэффи сообщила в приложении к письму А. Н. Сальникову7, где говорится, что первым ее произведением было стихотворение «Мне снился сон, безумный и прекрасный» («Север», 1901, № 35), навеянное творчеством Чехова. Однако на умалчивает, что почти одновременно с этим была опубликована ее пародия «Покаянный день». Драматическая сцена в одном акте («Театр и искусство», 1901. № 51), впервые подписанная псевдонимом Тэффи.
О происхождении псевдонима существует несколько версий созданных самой писательницей8. Из них хотелось бы отдать предпочтение той, которая вошла в литературоведческий обиход: чтобы отличаться от старшей сестры, известной поэтессы Мирры Лохвицкой, она взяла в качестве псевдонима имя маленькой своевольной девочки из рассказа Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». Действительно, в каждом произведении Тэффи — от первых ученических стихотворений до философски окрашенных новелл последних лет — бьется мятежное страдающее сердце маленькой девочки и весело звучит ее смех.
Первые стихи, собранные в книге «Семь огней» (1910), не принесли Тэффи успеха. Салонная манерность сочеталась в них с мотивами смерти, жаждой несбыточного и пряной восточной эротикой. Гораздо больше нравились публике ее революционные стихи, печатавшиеся в большевистской газете «Новая жизнь» в 1905 г. Впоследствии Тэффи иронизировала, что в них было «все, что полагалось для свержения царизма: и «красное солнце свободы», и «Мы ждем, не пробьет ли тревога, не стукнет ли жданный сигнал у порога...» и прочие молнии революционной грозы»9. Одно из стихотворений кто-то послал в Женеву Ленину, и оно было напечатано. Когда вождь большевиков приехал в Россию, Тэффи ему представили как автора, колебавшего «устои царизма». Впрочем, в революционность Тэффи всерьез верила только ее мать, называвшая ее социалисткой.
Всероссийская известность пришла к Тэффи после выхода Двухтомника «Юмористических рассказов» (1910). Тонкая ирония, скрытый психологизм, поистине чеховское изящество языка выделяли ее рассказы из огромного потока юмористической литературы, обрушившейся на Россию в «дни свобод» и последующие годы. Большая часть дореволюционного творческого пути писательницы связана с сатирическим еженедельником «Сатирикон», где популярная фельетонистка из «Биржевых' ведомостей» нашла свои главные темы, своих героев и свой голос. В центре внимания Тэффи — каждодневная жизнь обывателя, задавленного кошмаром российской действительности. Высмеивая царство всеобъемлющей глупости, она делит все население на людей и человекообразных, девятиглазых гадов с чуткими усиками и перепончатыми лапами. «Человекообразные» символизируют многоликое, вездесущее, нахрапистое мещанство, которое побеждает людей и грозит завладеть всей землей. Его облики могут быть разными: от вице-губернатора, не имеющего собственного мнения, до гимназистки Манечки Куксиной, срезавшейся на экзамене из-за лени. Торжество пошлости ужасает Тэффи, мир начинает казаться ей царством всеобъемлющей Глупости. Она едко иронизирует над слабостями «человекообразных», отсутствием логики в их поведении, тщетными попытками пробраться в «человеки». Смех — единственное средство определить, с кем имеешь дело: ведь даже в ответ на шутку раздается два взрыва хохота, сначала смеются люди, потом — человекообразные. Со временем смех самой Тэффи становится все более грустным, сближаясь с гоголевским и чеховским. В сборниках «И стало так» (1912), «Карусель» (1913), «Дым без огня» (1914), «Житье-бытье» (1916), «Неживой зверь» (1916) комическое тесно сплетается с трагическим, мягкий добрый юмор сменяется горькой иронией и сарказмом. Раскрывая трагедию тусклого обывательского существования без идеалов и надежд, Тэффи обнажает ложь, пустоту, мелочность, фальшь, скрытые за красивым фасадом благопристойного мира, Она создает цикл иронических сатир о человеческих пороках, являющихся, по выражению писательницы, «сокровищем земли»: лени, глупости, жадности, подлости. Блистательно остроумен рассказ «Дураки», в котором Тэффи классифицирует основные разновидности героев, деля их на дураков круглых и набитых — тех, кто всю жизнь учится, но так и не может ничему научиться. Дураки, особенно набитые, хорошо устраиваются в жизни, руководствуясь во всем тремя аксиомами. «Здоровье дороже всего», «Были бы деньги», «С какой стати?» И постулатом: «Так уж надо!» Обыгрывая понятие «круглый» (круглый дурак — круглые мысли — круглая жизнь) она подводит читателя к выводу, который звучит как отчаянный крик. «О, как жутко! О, как кругла стала жизнь!»10. «О, как жутко!» — подтекст большинства предреволюционных произведении Тэффи, внешне забавных, внутренне глубок трагичных. Ей даже приходилось объясняться с читателем, по привычке ожидавшем от нее развлекательного чтения. В предисловии к книге «Неживой зверь» писательница заметила: «Цель этого предисловия — предупредить читателя: в этой книге много невеселого»11. От Гоголя и Чехова Тэффи все чаще уходит к Достоевскому и Ф.Сологубу, размышляя о беспросветном трагизме человеческого существования вообще. Лучшая книга дореволюционных рассказов — «Неживой зверь» (1916) — вся пронизана ощущением неблагополучия жизни. Во многих рассказах Тэффи достигает высот подлинного искусства, повествуя о трагизме двух крайних точек человеческого бытия: детства и старости. В этом сборнике явственно проступает гуманистический положительный идеал Тэффи, общий для многих сатириконцев: дети — звери — природа — народ. Она рисует колоритные фигуры людей из народа: баба Матрена, пожалевшая подстреленного зайца и потерявшая вместе с ним все свои деньги, старая Явдоха, у которой убили сына на фронте, кухарка Федосья, чья индивидуальность властно подчинила себе барыню, и та, возмущаясь федосьиной некультурностью, сама стала говорить: «нонеча», «давеча», «окромя» и «приголандриться». Можно только удивляться, как смогла Тэффи, утонченная петербургская дама, воспитанная бонной-француженкой, так вжиться в психологию простого человека, мастерски передавая его склад ума, народный говор, бытовое просторечие. Без преувеличения можно сказать, что ее няньки, прачки, кучера и кухарки гораздо более реалистичны, чем босяки М.Горького.
В годы революции Тэффи вновь, как в дни юности, обратилась к злободневной политической сатире. Ее фельетоны, опубликованные в газете «Русское слово» в марте-июле 1917 года, свидетельствуют о критическом отношении к Временному правительству и полном неприятии политики большевиков. Она создает колоритные портреты деятелей, «заведующих паникой», иронизирует по поводу приезда «бабушки русской революции» Е.К.Брешко-Брешковской, посмеивается над А.Ф.Керенским, в которого «влюблена русская революция». Ее симпатии на стороне безымянных героев и героинь, которые, в самом деле, создают историю («Они ждут»).
Рисуя встречу Е.К.Брешко-Брешковской с ее верным учеником А.Ф.Керенским, Тэффи иронизирует: «Это будет момент, когда правительство России залепечет старым щегловитовским языком: — Потому что все граждане не могут быть уравнены в правах, сейчас не такое время. Мы должны сначала водворить порядок и спокойствие, а когда водворим, тогда тоже будет не такое время, потому что нельзя будет нарушать порядок и спокойствие». И добавляет от себя: «Милый порочный круг, старая петля самодержавия!»12. Не питая никаких иллюзий насчет демократических преобразований, обещанных Временным правительством, она уверяет, что Керенский никогда не позволит революционерам принять участие в строительстве новой государственности13.
Считается, что Тэффи оказалась в эмиграции чуть ли случайно: неведомо откуда налетевший ураган событий подхватил ее вместе со многими русскими писателями и понес сначала на гастроли в Киев, а оттуда все южнее и южнее до самого синего моря, пока случайный попутчик не посадил ее на корабль «Шилка», отплывший из Одессы в Новороссийск Сама писательница в «Воспоминаниях», вышедших в Париже в 1931 г., развивала именно эту версию, рисуя образ наивной сентиментальной петербургской барыни, которой незачем было бежать от большевиков, ибо за ней не числилось никаких грехов. Разве что стойкая идиосинкразия к насилию и крови с которыми постоянно сталкивалась при новом режиме. Но стоит обратиться к фельетонам Тэффи, напечатанным в «Русском слове» в июне-июле 1917 г., чтобы перед нами предстала писательница, которая не только прекрасно разбиралась в сумятице политических событий, захлестнувших Россию, но и имела свое собственное мнение о них, отстаивала свою позицию.
Это касается прежде всего негативного отношения к все усиливающемуся влиянию большевиков накануне октябрьского переворота. В фельетоне «Песье время», написанном в июле 1917 г., Тэффи заявила, что Земля вступила в созвездие «Большого Пса», следовательно наступает Песье время. Напомним, что после 4 июля 1917 г., когда войска по приказу Временного правительства расстреляли многотысячную демонстрацию солдат, рабочих и матросов, кончился мирный период развития русской буржуазно-демократической революции. В июле разразился второй, после Февраля, политический кризис в России, положивший конец двоевластию, оживилась деятельность черносотенцев и реакционеров всех мастей и, соответственно, активизировалась работа большевиков. Характеризуя июльские события, Ленин писал 10 (23) июля 1917 г.: «Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно. Объективное положение: либо победа военной диктатуры до конца, либо победа вооруженного восстания рабочих...»14.
В июне-июле 1917 г. Тэффи пишет фельетоны «Немножко о Ленине», «Мы верим», «Дождались», «Дезертиры» и др., в которых наряду с пророческим предчувствием грядущего большевистского переворота значительное место занимает фигура Ленина. С «твердокаменными» марксистами и их вождем писательница познакомилась еще в 1905 г., работая в газете «Новая жизнь». Впоследствии она подробно расскажет о встречах с ними в воспоминаниях «45 лет» и «Он и они», написанных в 1950 г. И хотя оценка, данная деятельности большевиков в посдние годы её жизни, несет на себе печать времени, она не многим отличается от соответствующих страниц ее ранних фельетонов. Большевики по-человечески не интересны Тэффи, ибо кажутся фанатиками идеи, поглощенными мелкими партийными «делами» и дрязгами, разговорами о съездах, кооптациях и резолюциях, о 10 франках, которые Ленин «зажулил» у меньшевиков. «Все эти беседы для постороннего человека были неинтересны и уважения к беседующим не вызывали. Они никогда не говорили о судьбах России, никогда не волновало их то, что мучило старых революционеров, за что люди шли на смерть», — пишет Тэффи в воспоминаниях «45 лет»15. Та же мысль в фельетоне «Немножко о Ленине», где она рассказывает, как «в сказочном запломбированном вагоне прибыл в Россию Ленин, так называемый «теща русской революции»»16. Достаточно вспомнить, что означал образ тещи в сатирической литературе конца XIX-начала XX века, чтобы понять всю силу неприязни писательницы к этому чуждому России человеку, варягу. Но, размышляет она, ведь «варяги с ворягами всегда дружно жили»17. Значит, можно объяснить «бестолковым» российским гражданам, почему власти не арестовали Ленина сразу после его приезда, а позволили занять особняк Кшесинской и начать активную пропаганду большевистских идей.
Эта пропаганда в сатирической интерпретации Тэффи сводится к одному нехитрому лозунгу: «Жранье явное и равное». Популярность большевистских идей при этом очевидна: «Любая лошадь поднимется под таким лозунгом и пойдет за хозяином, провозгласившим его»18. Тэффи убеждена, что за ленинцами идет самая отсталая, безграмотная часть народа: солдат, который, услышав слово «аннексия», думает, что это женское имя («Опять бабу садить! Долой ее, к черту!»), старуха, от души пожалевшая низвергаемую на митингах «хидру реакции» («Дай ей бог, сердешной, пошли ей...»). А еще те, кто пользуется смутным временем, чтобы прикарманить чужое имущество: взломщики, громилы, просто жулики. Она задает вопрос: «Разве не дискредитировано теперь слово «большевик» навсегда и бесповоротно? Каждый карманник, вытянувший кошелек у зазевавшегося прохожего говорит, что он — ленинец»19.
Все происходящее после 4 июля Тэффи рассматривает, как «великое триумфальное шествие безграмотных дураков и сознательных преступников»20. Она не щадит Временного правительства, рисуя полный развал армии, хаос в промышленности, отвратительную работу транспорта и почт. Среди объектов ее сатиры и министр Церетели, возмечтавший о сильной власти («Россия завтракает»), и министр народного просвещения («В созвездии Пса»), и товарищ Рошаль, у которого уголовное прошлое («Мы верим»). Последний, представляя власть рабочих и солдатских депутатов, пугает Тэффи более всего. Сардонический смех вызывает у нее резолюция пехотного полка постановившего передать всю власть Советам. «После этого солдаты К. полка согласны защищать добитую (так написано!) ими свободу»21. Безграмотность и бескультурье в глазах Тэффи столь же страшны, как жестокость и революционный фанатизм. Она убеждена: если большевики придут к власти, воцарятся произвол, насилие, хамство, а в Сенате вместе с ними будут заседать лошади. «Ленин, рассказывая о заседании, на котором были Зиновьев, Каменев и пять лошадей, будет говорить: — Было нас восьмеро»22.
Герой фельетона «Немножко о Ленине» — тупой догматик, который лишен всякой политической интуиции и не может предвидеть поворотов истории. Рисуя его портрет, Тэффи пишет: «Лоб нехороший: очень выпуклый, упрямый, тяжелый, не вдохновенный, не ищущий, не творческий, набитый лоб»23. Последнее определение заставляет вспомнить ее рассказ о «дураках набитых», которые всю жизнь учатся и учат других. Пытаясь увидеть в Ленине честного проповедника религии социализма, она тут же разочаровывает читателя: «Увы! На этого апостола не сошел огненный язык дара Святого Духа, нет у него вдохновения, нет взлета и нет огня»24. Пристрастность Тэффи и ее злую иронию можно объяснить только тем, что все ленинцы, анархисты, громилы, провокаторы сливаются для нее в одно собирательное лицо, выступающее с балкона Кшесинской. И она, верившая в идеи социальной справедливости в годы первой русской революции, теперь восклицает: «Какая огромная работа — снова поднять и очистить от всего этого мусора великую идею социализма!»25.
Фельетоны Тэффи созвучны «Несвоевременным мыслям» М.Горького и «Окаянным дням» И.Бунина. В них — та же тревога за Россию, боль при виде происходящего, сходные раздумья о народе и интеллигенции, о необходимости культурной революции в стране. Ей, как большинству русских писателей, пришлось очень быстро разочароваться в свободе, которую принесла с собой Февральская революция. В июне 1917 г. Тэффи еще не смущали беспорядки в стране, бесконечные митинги и сходки, необработанные поля, бесчинства на железных дорогах. Она писала: «...чем хуже и страшнее, и противнее все это, что мы видим, тем более мы должны радоваться, что свершилась наконец, революция, что теперь открыт путь к свободной борьбе со злом»26. Тэффи верила, что революция была исторически необходима и совершилась в стране, когда Россия «уже умирала. Все равно она уже умирала»27. Поэтому она призывала каждого честного человека «быть действующей единицей в толпе созидающих новую жизнь», вбивать камешки «в широкую мостовую нашего великого пути»28.
Однако в июле она ощутила, что праздничный период русской истории кончился и надвигается нечто тревожно непонятное. По улицам несли плакаты «Долой десять министров-капиталистов!», «Через Циммервальд — к Интернационалу!», и Тэффи, разочаровавшись в Керенском, загрустила о сильной власти. «Правительство должно править — знать твердо дорогу, сдерживать, поворачивать, останавливать и гнать», — писала она29. Ни «правительство увещевания», ни «правительство спасения» не могли справиться с разбушевавшейся народной стихией, но в отличие от многих, Тэффи трезво оценивала обстановку. Подобно Горькому, она вела прямой разговор с так называемой либеральной интеллигенцией, которая долгие годы призывала к революции, а теперь стала кричать, что русский народ оказался недостоин свободы и преподнес ей неожиданный сюрприз. Тэффи иронизирует:
«В глубине души каждому представлялось, что революция это нечто вроде карнавала в Ницце. Только, может быть, более величественное и побольше красного цвета — флаги, фригийские колпачки.
— Aux armes, citoyens!» (К оружию, граждане!)
А потом все должно войти в норму и порядок. Дамы будут заказывать соответственные переживаемому моменту шляпки, мужчины, сидя в департаменте, мирно покуривать и рассказывать анекдоты из жизни Распутина, рабочие будут усиленно работать, солдатики усиленно воевать, а мужики усиленно доставлять на всю кампанию хлебца»30. Освобожденный народ оказался далеко не таким, как в книгах писателей-народников, каким его видела либеральная интеллигенция. И Тэффи призывает опомниться, не рубить сук, на котором держится государство, не давать воли ненависти. Ее рассуждения о русском народе в фельетоне «Дезертиры» близки горьковским XXVII и XXVIII статьям «Несвоевременных мыслей», печатавшимся в газете «Новая жизнь» летом 1917 г. Горький осуждает деятельность людей, которые «заболели воспалением темных инстинктов», и призывает к единению «разумных революционных сил», к строительству культуры, которая одна способна просветить народ и направить его на созидание новой жизни. Как Горький, Тэффи тоже убеждена, что дикость и невежество русского народа — порождение векового гнета, тяготевшего над ним. Ведь Николай II, по ее меткому выражению, не был «сторонником распространения политико-экономических знаний среди крестьянской молодежи»31. Задача интеллигенции не в том, чтобы кричать о недостатках народа и упрекать его в крушении собственных иллюзий, а в просвещении и воспитании «меньшого брата».
Полемизируя с людьми, потерявшими веру в народ, Горький писал: «Мы очень легко веруем: народники расписали нам деревенского мужика, точно пряник, и мы охотно поверили — хорош у нас мужик, настоящий китаец, куда до него европейскому мужику. Было очень удобно верить в исключительные качества души наших Каратаевых — не просто мужики, а всечеловеки!»32. Он спрашивает «неверующих», разве раньше они не замечали Степанов Разиных и Емельянов Пугачевых? Ведь все, что теперь отталкивает интеллигенцию от народа, было в нем и раньше, проявляясь в картофельных и холерных бунтах, в еврейских погромах и прочих бесчинствах. И заключает: «Верить, это удобно, но гораздо лучше иметь хорошо развитое чувство собственного достоинства и не стонать по поводу того, в чем мы все одинаково виноваты»33.
Тэффи не испытывает никаких иллюзий по поводу «всечеловеков». Более того, русский человек образца 1917 г. кажется ей настолько ошалевшим и отупевшим от всего происходящего, что его можно сравнить с психически больным. В фельетоне «Семечки» она иронизирует, что какая-то часть народа превратилась в семеедов, заплевавших всю Россию шелухой от семечек. Тупое равнодушие сменяется у них буйным бешенством, во время которого толпа «семеедов» способна на любые эксцессы. Писательница тоже осуждает ту часть интеллигенции, которая, разуверившись в народе, собирается «уехать, чтобы глаза не глядели». Дезертиры для нее — не темные солдатские массы, которые бегут с фронта, а господа интеллигенты, готовые бросить Россию в годы разрухи. Горький предупреждает об опасности разрыва между народом и интеллигенцией: «Оставаясь без руководителей, в атмосфере буйной демагогии, масса еще более нелепо начнет искать различия между рабочими и социалистами и общности между «буржуазией» и трудовой интеллигенцией»34. Тэффи прямо призывает: «Иди в толпу, в почву земли!» И резюмирует, что «никаких горьких сюрпризов и разочарований не ожидается тем, кто знал, что делало старое правительство...»35. Обращаясь к российской интеллигенции, она пишет: «Любовь не ищет своего», — как говорил апостол Павел. Если любишь родину, не ищи и ты своего, хотя бы даже в выгодной позе перед народом <...>. И если рухнет все, и вместо триумфальной колесницы повезут по нашему великому пути только черные трупы, — пусть бы каждый из нас мог сказать: «В этом падении моего толчка не было. Слабы мои силы и малы, но я отдал их все целиком. Я был простым рядовым работником, простым солдатом, защищающим свободу, как мог и чем мог»»36. Так вот откуда та безмерная горечь расставания с родиной, которая поглотила Тэффи, когда она взошла на палубу парохода. Вот откуда образ черного бесслезного плача: ведь от нее самой остался только черный труп, когда она катилась вниз по карте, «по огромной зеленой карте, на которой наискось было напечатано «Российская империя»37. Как и Аверченко, она пыталась защищать свободу хотя бы малыми силами, и уехала не случайно, а вполне сознательно, поняв, что больше ничего сделать не может.
Крестный путь в эмиграцию Тэффи подробно описала в своих «Воспоминаниях». Сопоставляя их с материалами архивов Аверченко и Тэффи, можно легко узнать города и людей, с которыми встречалась писательница на этом пути: Гомель; через него, минуя карантин, установленный немцами, Тэффи добралась до Киева; шумная, веселящаяся Одесса, Екатеринодар, Ростов-на-Дону, Кисловодск, встретивший ее «идиллической картиной»: зеленые холмы, мирно пасущиеся стада и черная виселица на горе. Тэффи взобралась на эту гору, постояла под виселицей, раздумывая, как может сложиться ее дальнейшая судьба. Друзья твердили, что большевики ее непременно повесят... Не здесь ли, под виселицей, сложилось окончательное решение — уехать. Впрочем, сама Тэффи уверяет, что это было решено еще в Одессе, когда она увидела струйку крови у ворот комиссариата. А может быть, еще раньше, в Киеве, где она опубликовала рассказ «Петербург», в котором упоминала «узенькую струйку крови, протянувшуюся из-под закрытых ворот38. В аллегорическом рассказе «На скале Гергесинской», написанном в Одессе в начале 1919 г., она призналась, что для таких россиян, как она, «кротких и испуганных», невозможно было принять мир, где «нет религии, нет закона, нет обычая и определенного (хотя бы тюремного, каторжного) уклада», а люди обращены в «рычаги, ремни, винты, колеса и приводы великой машины»39. Этого мира не принял и Бунин, написавший под Одессой дневник революционных лет «Окаянные дни». Вскоре они встретились в Париже и дружили до самой смерти.
В эмиграции голос Тэффи зазвучал грустно и тревожно. Герой ее знаменитого рассказа «Ке фер?» — русский генерал-беженец, в котором узнается старший брат писательницы, — выйдя на площадь Согласия, задал вопрос, который звучал и в ее душе: «Ке фер? (от франц. Que faire? — Что делать?). Она тут же переиначивает его на русский лад: «Фер-то ке?» Эта смешная и грустная присказка сопровождала Тэффи в первые годы ее эмигрантской жизни. Она ощутимо присутствует в большинстве ее произведений 1920-х гг. В этот период вышли две книги стихов Тэффи («Passiflora», Берлин, 1923 и «Шамрам», Берлин, 1923), сборники рассказов «Восток» (Шанхай 1920), «Тихая заводь» (Париж, 1921), «Стамбул и солнце» (Берлин, 1921), «Черный ирис» (Стокгольм, 1921), «Так жили» (Стокгольм, 1922), «Вечерний день» (Прага, 1924). Воспоминания о прошлом, картины былой жизни соседствуют в них с зарисовками первых революционных лет и константинопольского житья-бытья. Для мироощущения Тэффи характерен рассказ «Гильотина», посвященный Троцкому. Сравнивая русскую и французскую революции, Тэффи рисует картины жизни красного Петрограда: бесконечные очереди за продовольствием, забастовки, голод и холод, бессудные казни. Огромный хвост «законопослушных» граждан выстраивается на Дворцовой площади, когда большевики объявляют декрет о «всеобщем равном праве» на гильотинирование. Дамы прихорашиваются и приобретают парики a la Marie Antoinette, мужчины ревностно следят, чтобы никто не проскочил на тот свет без очереди. Едкая насмешка над бывшими сливками петербургского общества сочетается в этом рассказе с горестным раздумьем о русском народе, который ко всему притерпелся и даже принял французскую форму казни. «Русский народ так быстро свыкся и сроднился с гильотиной, что даже странно думать, что ее когда-то не было», — саркастически замечает Тэффи40. Впрочем, и здесь не обходится без чисто русской бестолковщины: палачи, которые рубят сразу по 500 голов, объявляют экономическую забастовку, а граждане возмущаются этим и пытаются взять «гильотинное довольствие» в свои руки.
«В публике ропот и возмущение. Налоги дерут, а ничего толком устроить не могут. Туда же, подумаешь, — сильная власть. Дураку сила — самому на погибель»41. Так в рассказе возникает образ страны дураков России, которая, как гоголевская героиня, способна сама себя высечь и только возмущается, что ждать на морозе нужно долго. Никому не приходит в голову попытаться спастись от смерти: законопослушным гражданам даже льстят расклеенные на заборах воззвания Троцкого, в которых говорится, что наблюдение за порядком поручается самим гильотинирующимся. Черный смех и сатирическая фантастика в этом рассказе сродни гоголевским. А. Амфитеатров, анализируя рассказы Тэффи 1920-х гг. писал:
«Лучшая изящнейшая юмористка нашей современности, Тэффи своим смехом продолжает традицию великого Гоголя»42.
Черный цвет преобладает не только в сатире Тэффи этого периода, но и в лирике. Символика цвета всегда была для нее одним из способов выражения собственного мироощущения. В первой книге стихов «Семь огней» (1910) красное — либо символ огня, сжигающего страстную душу героини, либо цвет алого полотнища Свободы. В соответствии с канонами модернизма, которых придерживалась поэтесса, красное — это кровь и страсть, желтое — свет солнца, царственная пышность Востока, синее — цвет воздуха и чистоты. После Октября красное лишается для Тэффи своего эзотерического смысла, превращаясь в реальный образ крови, пролитой большевиками. Алые полотнища и флаги напоминают не о Свободе, а о той струйке у ворот комиссариата, которая «перерезывает дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через нее нельзя. Идти дальше нельзя. Можно повернуться и бежать»43. Пурпурная кайма становится символом Смерти:
Он ночью приплывет на черных парусах
Серебряный корабль с пурпурною каймою,
...
Но люди не поймут, что он приплыл за мною,
И скажут: «Вот она сегодня умерла».
Бегство в эмиграцию лишило цветовую палитру Тэффи ярких красок. В сборнике «Passiflora» доминируют не красный и желтый, а белый и черный цвета: черный карлик, горбун, который погасил солнце, белый лебедь, плачущий о северных озерах, лунный бред, черное запястье, серебряный корабль смерти. Тэффи чувствует себя одинокой и потерянной («Северное», «Как я скажу, что плохо мне на свете», «Меня любила ночь»). Страстоцвет, цветок страдания, — центральный образ книги. Тэффи оплакивает свой крестный путь, добрый смех покидает ее, улыбка превращается в гримасу боли, символические образы скрывают тоску и растерянность:
Вот завела я песенку,
А спеть ее — нет сил.
Полез горбун на лесенку
И солнце погасил...
По темным переулочкам
Ходил вчера Христос,
Он всех о ком-то спрашивал,
Кому-то что-то нес.
В окно взглянуть не смела я —
Увидят, забранят.
Я черноносых лапчатых
Качаю горбунят...
Обилие неопределенных местоимений (кто-то, что-то, кому-то), мрачная фантастика (горбун, черноносые горбунята), образ Христа, которому не смеет показаться героиня, передают тревожное состояние души Тэффи, одолеваемой сомнениями и страдающей от чувства вины. Вины перед лазоревым краем, где цветут синие тюльпаны. Из светлых красок в палитре поэтессы остается только синяя, символизирующая теперь покинутую родину. Былая жизнь кажется Тэффи голубым сном. Образ России то и дело ассоциируется с синими озерами, ласковой лазурью голубого неба, волшебным голубым садом, («Я нездешняя, я издалека». «Я синеглаза, светлокудра». «Весеннее» и др.) Обе книги эмигрантских стихов Тэффи («Passiflora» и «Шамрам») звучат как плач по покинутой родине и былой жизни. Россия порой выступает в облике седой старухи, потерявшей своих детей. В стихотворении «Русь» Тэффи создает трагический образ матери, отпевающей сына, повешенного на той самой веревке, которую она сплела собственной рукой.
Долгие зимы я пряжу пряла,
Вольные песни в ту пряжу вплела,
Терпкой слезою смочила кудель.
Вышла на славу петля из петель.
Крепкой рукою скрученный канат
Ветер качает и крутит назад.
Север и запад! И юг и восток!
Все посмотрите, каков мой сынок.
Образ такой же трагической силы можно найти разве в стихотворении Волошина «Со дна преисподней», написанном в 1921 г. после смерти А. Блока и расстрела Н.Гумилева. Горькая «сыноубийца» Русь казнит одного за другим своих лучших сыновей, погибающих в пламени гражданской войны. Трагедия России неотделима для Тэффи от трагедии русской интеллигенции, стремившейся к свободе, а получившей петлю. Вольные песни, которым поверили революционеры, привели их к гибели.
Первые книги прозы Тэффи, вышедшие в эмиграции, являются, фактически, завершением предреволюционного периода ее творчества: здесь и рассказы о днях первой мировой войны («Ваня Щеголек»), и воспоминания о поездке на Соловки, на память о которой у нее остался кипарисовый крестик («Соловки»), о путешествии на Монте-Маджиоре («Экскурсия», «Рулетка», «Море и солнце»), и повествование о судьбе «маленького человека», захотевшего стать героем в годы гражданской войны («Поручик Каспар»). Сборники «Тихая заводь» и «Черный ирис» почти целиком составлены из произведений, печатавшихся ранее в книгах «Дым без огня», «Карусель» и «Неживой зверь». Однако Тэффи выбирает из них то, что созвучно ее душе сегодня, поэтому рассказ «Тоска по родине», написанный во время путешествия во Флоренцию, напоминает не столько Италию, сколько родные березки и клюкву. В «Острой болезни» дается диагноз хронической российской болезни — глупости. Ее герой «до такой степени похож на барана, что даже собаки лаяли на него как-то особенно, не так, как они лают на человека, — со страхом и озлоблением»44. Казалось бы, перед нами облик одного из человекообразных, созданный Тэффи со свойственным ей мастерством сатирического портрета. Но теперь она не просто разоблачает глупость, как один из человеческих пороков. Острой болезни подвержены те бараны, которые вслед за свиньями бросились, по библейскому преданию, с Гергесинской скалы в море, те обыватели, что превратились в Октябре в бешеное неуправляемое стадо.
В сборнике «Стамбул и солнце» Тэффи рисует сонный Босфор, на берегах которого суетятся русские беженцы. «Прищурив золотые ресницы, смотрит сонный Босфор на чужую суету жизни» 45. В их жизни нет больше солнца. Яркие краски, которыми всегда пользовалась Тэффи, рисуя Восток, теперь померкли, стали тусклыми. Константинопольский зверинец, изображенный Аверченко с таким ядовитым сарказмом, не похож на Стамбул Тэффи. В ее описаниях нет ни злобы, ни горечи, ни раздражения. Быть может, потому что у писательницы никогда не было характерной для Аверченко обиды белогвардейца на историю, обманувшую его ожидания. «Тэффи, — заметил один из советских критиков, — разочарована не столько в неудаче белого движения, сколько в том человеческом материале, который должен был составить штурмовые колонны контрреволюции» 46. Действительно, в отличие от Аверченко, Тэффи больше внимания уделяет раскрытию внутреннего мира человека, постоянно разочаровываясь в «баранах» — и тех, что остались на родине, и тех, кто оказался в эмиграции. Не удивительно, что ее произведения, особенно «Ке фер?», понравились Ленину, и, по его рекомендации, были перепечатаны в 1920 г. газетой «Правда».
Тэффи обладала удивительно острым взглядом, позволявшим замечать смешное во всех жизненных ситуациях и видеть человека с комической стороны. Из рассказов Аверченко мы узнаем, главным образом, как вести себя в Константинополе, чтобы тебя не обманули многочисленные жулики. Тэффи даже в константинопольском торговце видит человека, одуревшего от громкого крика, которым он зазывает покупателя: «Уже к полудню торговцы так обалдевают от собственного крика, что если вы остановите одного из них, чтобы что-нибудь купить, он отмахнется от вас рукой и будет орать дальше» 47. Тэффи как будто рисует с натуры бытовые сценки, но ее творческая манера далека от натурализма. Стержнем большинства маленьких рассказов является психологический подтекст. Говоря об особенностях юмора писательницы, Ю. Терапиано заметил:
«Умение схватить правду жизни — в
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Основные даты и события в истории Восточной Римской Империи
395.01.17 Смерть Феодосия I, императора Римской империи 395.01 Римская империя поделена на две части. Аркадий Флавий стал императором Восточной
- Партизанское движение в Отечественной войне 1812 года
- Россия в первой половине ХIХ века
1. Социально-экономическое развитие Основным содержанием экономического развития России в первой половине XIX в. было углубляющееся разл
- Майя
- Жизнь и творчество Булата Окуджавы
Доклад по литературе Данилова Павла Я думаю, что все слышали имя Булат Окуджава. Я спрошу: «Кто он был?». Кто-то мне ответит: «поэт». Кто-то:
- Генрих Гейне
Реферат Цареградского ЕвгенияМЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕСАКиев 1999Генрих Гейне (1797-1856
- Альтернативы российским реформам "сверху": общественное движение в россии XIX в.
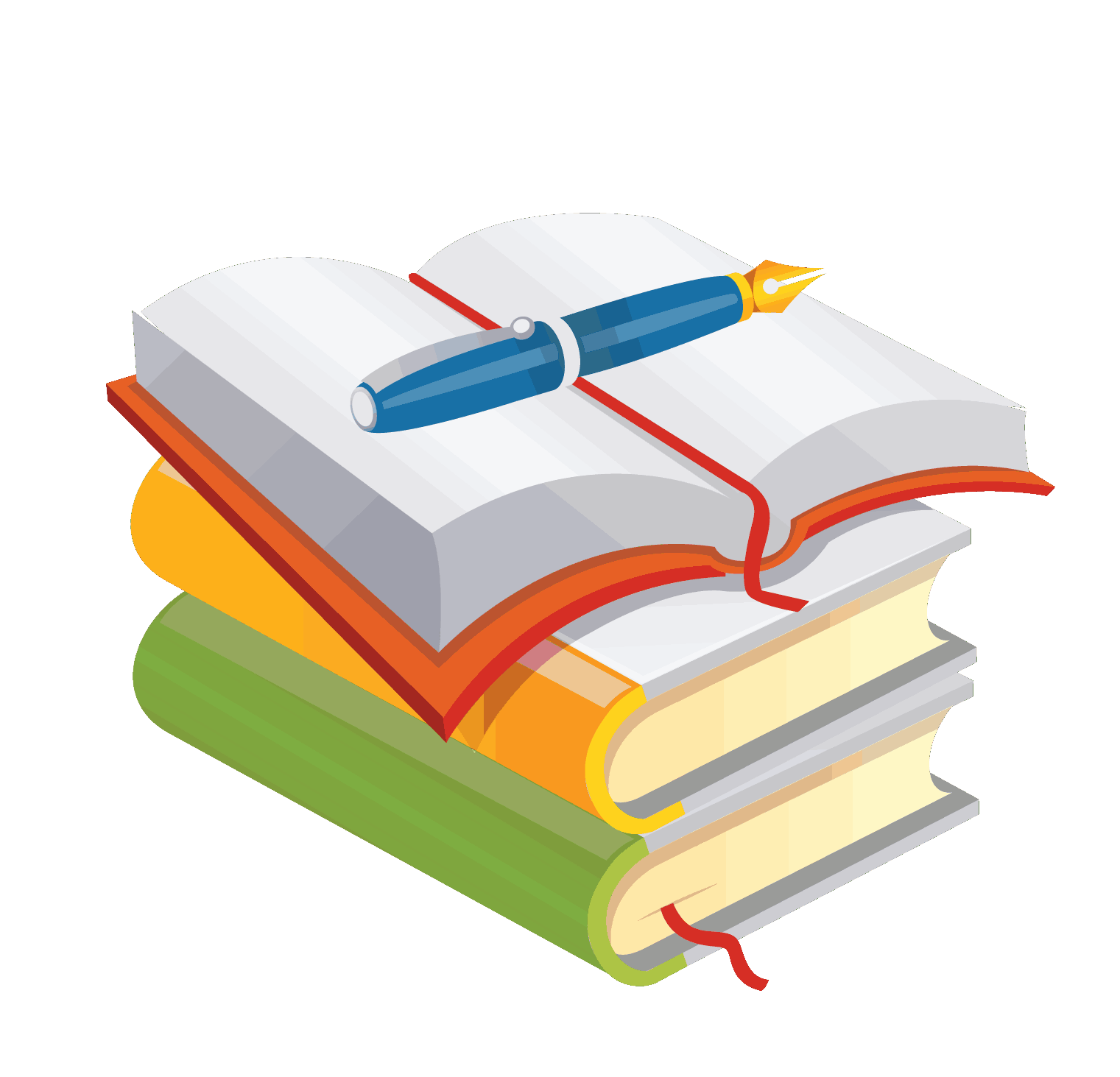 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.