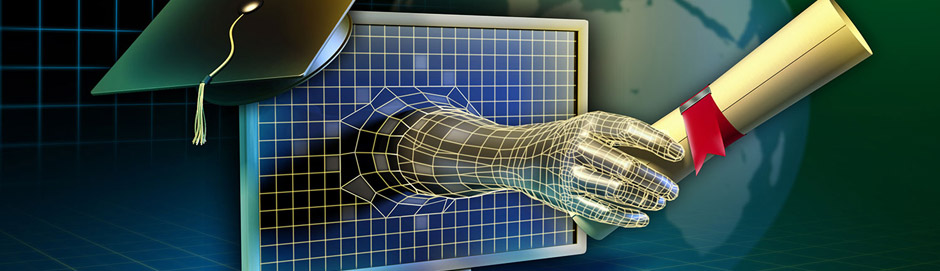Политическая философия Томаса Гоббса
Андрей Тесля
Осторожно!
Ты уже, вероятно, что-то слышал о великом Левиафане и тебя тянет почитать эту книгу? Осторожно, любезнейший! Это совершенно эзотерическая книга, и ее имманентная эзотерика увеличивается по мере того, как ты в нее вчитываешься.
Карл Шмитт, Предисловие к немецкому переизданию «Левиафана», 1938
Когда весь мир окажется перенаселенным, тогда останется как самое последнее средство – война, которая заботится о всяком человеке, давая ему победу или смерть.
Томас Гоббс, «Левиафан», XXX
Сочинения Гоббса – довольно странный предмет среди изучаемых историей философии права. С одной стороны, нет ни одного курса, сколь бы краток он ни был, автор которого счел бы возможным обойти этого мыслителя. С другой – специальных работ, посвященных анализу воззрений Гоббса, довольно мало, а в отечественной литературе они отсутствуют практически вовсе. Любопытно, что даже в том случае, когда специалист обращается к анализу сочинений Гоббса – например, когда почтенный отечественный историк философии В.В. Соколов (1) создает обширную вступительную статью к двухтомнику, почти исключительно состоящему из политических трактатов автора, то и тогда исследователь обстоятелен и любопытен только находясь на почве привычного – рассуждая об особенностях теории познания, онтологии или общей антропологии Гоббса – и, напротив, становится лишь аннотатором, обращаясь к суждениям английского философа о власти и праве.
О Гоббсе трудно писать и еще сложнее его комментировать. Препятствием здесь, отчасти, являются сами достоинства автора. Его логика чеканна, изложение отчетливо и последовательно – и тем самым исчезает обычное занятие историка, заключающееся в расшифровке спутанной авторской мысли, в умении дописать или совместить противоречивые авторские фрагменты. По большому счету трактаты Гоббса если и нуждаются в чем-либо, так во внимательном ненавязчивом комментарии, восстанавливающем ушедший сугубо ситуативный контекст. При этом даже отсутствие подобного комментатора не способно сколько-нибудь затруднить восприятие текста Гоббса. Да, несколько абзацев останутся не совсем ясными, останется непонятным, почему столько внимания уделено именно этому частному уточнению общей мысли – но большая часть трактата пребывает в ином, не мелко-историческом контексте, обращаясь скорее к фундаментальной проблематике власти. Гоббс дает на эти ключевые вопросы ответы, исходя, разумеется, из ситуации своего времени, но верность или неверность их не может быть оспорена исходя из примеров или конкретных затруднений политической практики XVII века. Историчными у Гоббса оказываются поводы и конкретные формулировки его положений, тогда как существо мысли обращено к сфере рационального – к пространству разума, лишенному времени.
Итак, текст Гоббса – сама прозрачность. Но ясность Гоббса родственна ясности Макиавелли, мысль которого, при всей «понятности» и внешней «доступности», по словам Исайи Берлина, вызывает «глубокое, непреходящее беспокойство» (2), потребность в новом вычитывании и попытках аутентичного понимания. Но если Макиавелли притягивает интерпретаторов, то Гоббс отталкивает. Он столь чеканен, что его незачем прояснять, он уводит нас в суть феномена политического, где традиционная система координат перестает срабатывать – и слишком требователен к последовательности и отчетливости мысли, чтобы позволить комментатору безнаказанно скрыться в глубокомыслии или предаться изяществу реторики.
Для современников и ближайших потомков Гоббса его трактат представлялся столь исключительным – не похожим ни на одно другое произведение подобной тематики – что полемика с ним была едва ли не исключительно внутренним делом сторонников монархии. Становящаяся либеральная мысль (Э. Сидней, Дж. Локк) по существу проигнорировала его (3) – не будучи способна воспринять самый стержень его философско-политических построений. Он не укладывался ни в одну классификационную ячейку – объявленный сторонником абсолютной монархии, официально состоял на службе республики; половину трактата посвятив толкованию Писания, объявлял религию внутренним делом государства, устанавливаемой законом; утверждая неограниченность государственной воли, одновременно формулировал базовые положения ново-европейской концепции естественного права, попутно детально оговаривая те или иные юридические права и обязанности. Гоббса было проще обойти, воспринять ряд положений, отвергнув иные, аргументируя подобный выбор средствами убеждения, но не доказательства. Вступать с ним в спор – последовательный и строгий, противопоставляя не тезис тезису, но внимая и следуя логике автора, опираясь на изъяны концепции, а не на силу собственных убеждений – для современников и для большинства потомков оказалось невозможно. Удобнее и общепонятно было заклеймить Гоббса как мизантропа, убежденного в изначально злой природе человека, фанатика государственной власти – со странной судьбой отщепенца, очутившегося вне лагерей и вызывающего уважение, основанное на страхе и непонимании, но чувстве чего-то, скрывающегося за чеканными формулировками.
Традиционно взгляды Гоббса увязывают с его страхом перед гражданской войной в Англии (4). Однако вряд ли возможно столь всеобъемлющий и столь внутренне страшный взгляд на мир объяснить исключительно из событий гражданской войны. Войны, конфликты, вооруженные партийные столкновения были едва ли не нормой того времени. Уже ранее, во время своего визита во Францию в составе посольства, Гоббс мог видеть страну, раздираемую открытым религиозным конфликтом, где правительство вело полноценную войну против части общества. Большая часть его жизни, предшествовавшая и современная написанию основных политико-философских трактатов, прошла во времена Тридцатилетней войны, еще долго после своего официального завершения Вестфальским трактатом дотлевавшей в Европе. Из этой ситуации – типичной для второй половины XVI и первой половины XVII вв. – невозможно объяснить все своеобразие трактата Гоббса, оно увязано с внутренним разладом, постигшим самые основы европейской жизни в период Реформации и последовавших за ней событий, однако никак не может быть увязано в простую причинную связь.
Есть, однако, и возражение фактического порядка против такого рода сопоставления теоретических воззрений Гоббса с событиями Английской революции. Хотя основной трактат Гоббса – «Левиафан» – был опубликован в 1651 г., но сочинение «О гражданине», представляющее собой уже вполне законченное аутентичное позднему Гоббсу произведение, вышло из печати первым изданием в 1642 г., а еще двумя годами ранее был написан очерк «О политическом теле», содержащем основные положения учения о государственной власти. Иными словами, к началу революции теоретические взгляды Гоббса в своей основе уже сложились и их дальнейшая судьба по преимуществу сводится к последовательному уточнению и поиску наилучших формулировок и наиболее убедительных способов аргументации, при остающихся в неприкосновенности основных положениях доктрины.
Гражданская война стала для Гоббса тем, что можно, пользуясь понятиями современной философии, назвать экзистенциальной ситуацией – ситуацией, в которой для него обнажилась подпочва социального бытия, опытом, окончательно убедившим его в верности своего понимания природы общества. Сосуществование людей, скрепляющие их правила и традиции открылись Гоббсу во всей их ненадежности – как тонкие нити, связывающие феномен совсем иного рода. Общественность человека увиделась ему не как природа, но как образование, надстроенное над природным индивидуализмом человека. Потому-то, в отличие от тезиса Аристотеля об общественной природе человека (II, 131 – 132) (5), Гоббс утверждает, что если общежитие иных живых существ – пчел или муравьев, приводимых в пример Аристотелем, «обусловлено природой», то человеческое общество основывается «соглашением, являющимся чем-то искусственным»:
«Вот почему нет ничего удивительного в том, что, для того, чтобы сделать это согласие постоянным и длительным, требуется еще кое-что (кроме соглашения), а именно общая власть, держащая людей в страхе и направляющая их действия к общему благу» (II, 132).
Именно потому, что государство (общество) мыслится Гоббсу исключительно как искусственное образование – именно потому для него все установления человеческого общежития, все нормы гражданского общества представляются столь хрупкими. Любое несогласие, любое неосторожное движение способно разрушить эту конструкцию. Именно из этого ощущения ненадежности, необеспеченности гражданского существования человека рождается тотальное государство Гоббса, абсолютное в своих пределах.
***
1. Метод Гоббса. Метод, используемый Гоббсом, есть метод априорно-дедуктивный, построенный на извлечении всех мыслимых логических следствий из самоочевидных понятий. Последние, однако, не возникают сами собой, но требуют критической проработки и очистки, дабы, во-первых, мы могли быть уверены в их самоочевидности, т.е. в том, что они в действительности не основываются на каком-либо более общем понятии; во-вторых, в том, чтобы мы ясно отдавали себе отчет в избранных нами изначальных (априорных) положениях, дабы они не смешивались (под влиянием иных идей) в нашем уме и не переходили в иные или даже противоположные себе понятия. Этой цели служат первые тринадцать глав «Левиафана» – критическое приуготовление ума читателя, отучение его от пользования непроясненными терминами, наставление в том, чтобы каждый раз, употребляя тот или иной термин (тем более с целью убедить другого) ясно отдавать себе отчет в том, для обозначения какого понятия он в данном случае используется. Итак, читатель, стремящийся проникнуть в суть текста, должен начать с интеллектуальной аскезы, отучая себя от принятого в обыденной речи смешения смысла слов и стремясь с «геометрической» ясности (6).
2. Естественное состояние. Изучение природы государственного состояния человека должно начинаться с простейшего элемента, а таковым, несомненно, является отдельный человек, причем взятый в своей непосредственности и сам по себе. Таким образом, исходной точкой рассмотрения должен стать естественный человек. В естественном же состоянии все люди равны, ибо «природа создала людей равными в отношении физических и умственных способностей» (II, 93). Гоббс, разумеется, предвидит возражение о неравенстве людей в присущих им силе или уме, однако отводит его по двум основаниям. Первое, относящееся собственно к естественному состоянию, состоит в том, что люди практически в равной степени способны причинить вред друг другу – там, где один будет действовать посредством личной силы, там другой возьмет преимущество хитростью, а третий сможет объединиться с несколькими другими в своей слабости и посредством этого стать сильнее того, кто ранее превосходил его своими физическими способностями. Человек равен человеку в самом главном:
«Даже те, кто способен на самое большее – убить другого, могут лишь то, что равно могут и другие» (I, 288).
Второй довод относится уже не непосредственно к естественному состоянию, но к тому моменту, когда люди пожелают составить общественный договор. В этом случае они будут вынуждены признать равенство всех людей, поскольку «если природа… сделала людей равными, то это равенство должно быть признано; если же природа сделала людей неравными, то равенство все же должно быть допущено, так как люди считают себя равными и вступят в мирный договор не иначе как на равных условиях» (II, 119).
Итак, люди равны друг другу, но именно это изначальное равенство является истоком всеобщей вражды. Если люди равны, то они в равной степени могут притязать на одни те же блага, если они равны, то нет естественных оснований для того, чтобы отдать преимущество одному или другому. Таким образом, три основных причины изначальной вражды заложены в природе человека – соперничество, недоверие и жажда славы (II, 95). Следовательно, естественным состоянием будет состояние войны всех против всех, «ибо война есть не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течении которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения» (II, 95), ведь «понятие войны состоит не происходящих боях, а в явной устремленности к ним (выд. нами – А.Т.) в течение всего того времени, пока нет уверенности в противном» (II, 96).
Естественное состояние вражды не является, однако, свидетельством злой природы человека (I, 279). Напротив, основная мысль Гоббса в том, что естественное состояние именно как среда человеческого существования такова, что каждый человек – вне зависимости от того, добр он или зол – если только он стремится сохранить свое физическое существование, не говоря уже о свободе, должен вести себя так, как если бы был врагом по отношению ко всем иным, поскольку все остальные должны презюмироваться им в качестве врагов:
«…Поскольку мы не в состоянии отличить хороших от дурных, то даже и перед людьми хорошими и скромными постоянно стоит необходимость не доверять другому, быть осторожным, предвосхищая действия другого, подчинять его себе, защищаться любым способом» (I, 279).
То, «какова была бы жизнь людей при отсутствии общей власти, внушающей страх, можно видеть из того образа жизни, до которого люди, жившие ранее под властью мирного правительства, обыкновенно опускаются во время гражданской войны» (II, 97) и это же естественное состояние вражды, прекращенное в государствах посредством установления верховной власти, сохраняется в отношениях между государями, где «короли и лица, обличенные верховной властью, вследствие своей независимости всегда находятся в состоянии непрерывной зависти и в состоянии и положении гладиаторов, направляющих оружие друг на друга и зорко следящих друг за другом» (II, 97).
Однако Гоббс не полагает, что описываемое им естественное состояние «когда-либо существовало как общее правило по всему миру» (II, 97). Оно может подтверждаться примерами первобытных обществ (Гоббс ссылается на пример индейцев Северной Америки – II, 97) или тем состоянием, что наблюдается во время гражданской войны, но и в том случае, если бы естественное состояние никогда бы не наблюдалось в чистом виде, это не могло бы служить достаточным аргументом против излагаемой теории, поскольку речь идет о том, во что обращается человек, не имеющий никаких сдержек над собой и могущий опираться исключительно на свою силу. Но поскольку в естественном состоянии нет никакой власти над человеком и он пребывает в состоянии абсолютной свободы, в естественном состоянии нет и несправедливости, ведь «справедливость и несправедли-вость есть качества людей, живущих в обществе, а не в одиночестве» (II, 97).
На основании вышесказанного естественное право определяется Гоббсом как «свобода всякого человека использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, т.е. собственной жизни, и, следовательно, свобода делать все то, что, по его суждению, является наиболее подходящим для этого» (II, 98).
3. Естественное право и естественный закон. «Каждый от природы ищет собственного блага» (I, 313), однако те же естественные силы, а именно «страх смерти, желание вещей, необходимых для хорошей жизни, и надежда приобрести их своим трудолюбием» (II, 98), подталкивают людей к тому, чтобы достигнуть мира, а тем самым – ибо это непременное условие мира – вынуждают к справедливости (I, 313). Естественное состояние лишено справедливости, однако оно не лишено естественных законов – т.е. предписаний разума, которыми «человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что лишает его средств к существованию, и пренебрегать тем, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни» (II, 98). Тем самым, естественные законы есть не нормативные явления, относящиеся к сфере непреложно должного, но правила разума, вытекающие из здравых соображений и являющиеся как предписаниями, так и предметом стремлений человека. Они, как и вообще все выводы разума, не достаются сами собой, но требуют определенных условий и усилий со стороны самого человека, которые, однако, вполне посильны каждому:
«…Надежда, страх, гнев, честолюбие, корыстолюбие, тщеславие и прочие душевные аффекты мешают каждому познать законы природы до тех пор, пока эти страсти господствуют в его душе. Но нет такого человека, душа которого когда-нибудь наконец не успокаивалась. А это и есть самое удобное время для познания (закона) любым человеком, сколь бы необразован и темен он ни был» (I, 315).
Приведенное суждение заимствовано из трактата «О гражданине». В «Левиафане», вышедшем спустя девять лет после опубликования первого сочинения, Гоббс, не отказываясь от критерия очевидности и общей принципиальной доступности естественных законов, высказывается куда более скептично о возможности для большинства людей познать их:
«…Хотя неписаный естественный закон легко доступен пониманию тех, кто беспрестанно пользуется своим естественным разумом, и потому этот закон не допускает никакого оправдания для его нарушителей, однако так как имеется очень мало людей или, может быть, даже нет никого, кто в некоторых случаях не был бы ослеплен себялюбием или другой страстью, то естественный закон стал теперь самым темным из всех законов и потому больше всего нуждается в способных толкователях» (II, 213 – 214).
Как бы то ни было, руководствуясь своим разумом, человек может вывести естественные законы, из которых два являются основными. Первый гласит:
«Всякий человек должен добиваться мира, если у него есть надежда достигнуть его; если же он не может его достигнуть, то он может использовать любые средства, дающие преимущества на войне» (II, 99).
Из этого следует, во-первых, что следует искать мира и стремиться к нему; во-вторых – право защищать себя любыми (всеми возможными) средствами.
Второй закон, вытекающий из самой природы разума, формулируется следующим образом:
«В случае согласия на то других человек должен согласиться отказаться от права на все вещи в той мере, в какой это необходимо в интересах мира и самозащиты, и довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другим людям, которую он допустил бы у других людей по отношению к себе» (II, 99).
Иными словами, здесь на основании теорий естественного права и общественного договора формулируется т.н. «золотое правило» морали, причем, учитывая негативную формулировку свободы (7), данное правило должно также приобрести негативную форму: quod tibi fieri non vis, alteri ne faceris, т.е. «не делай другому того, чего себе не желаешь» (8).
Далее Гоббс формулирует еще семнадцать законов естественного права (законы справедливости, благодарности, взаимной уступчивости, беспристрастности и т.д.), указывая, что к ним могли быть добавлены еще иные, направленные против всяких стремлений, ведущих «к гибели отдельных людей» (II, 121), однако считает такую подробность излишней, поскольку эти законы носят либо излишне ситуативный характер, либо самоочевидны для всякого.
Важным является уточнение Гоббса, касающееся силы естественных законов – они «обязывают желать их осуществления, но они не всегда обязывают… к проведению их в жизнь. Ибо тот, кто был бы скромен и мягок и выполнял бы все свои обещания в такое время и в таком месте, когда и где никто другой этого не делает, лишь отдал бы себя на разграбление другим и уготовил бы себе первую гибель, что идет вразрез с основами всех естественных законов, требующих сохранения жизни» (II, 122). Иными словами, в естественном состоянии основное положение естественного права – свобода делать все для сохранения своей собственной жизни – препятствует соблюдению иных естественных законов, «обязывающих совесть» (II, 122), но остающихся неэффективными без надежной гарантии их соблюдения (9). Тем самым в большинстве случаев в естественном состоянии большинство естественных законов обречены оставаться бездействующими, поскольку их применение оказывается приостановленным в силу второй части первого естественного закона, дающего право «использовать любые средства, дающие преимущества на войне» (II, 99).
4. Левиафан. Итак, естественные законы сами по себе бессильны перед действием страстей, поскольку люди «от природы любят свободу и господство над другими» (II, 129). Для защиты «от вторжения чужеземцев и от несправедливостей, причиняемых друг другу» возможен только один путь, а именно сосредоточение «всей власти и силы в одном человеке или в собрании людей, которое большинством голосов могло бы свести все воли граждан в единую волю» (II, 132). Для установления общей власти необходимо, «чтобы каждый человек считал себя доверителем в отношении всего, что носитель общего лица будет делать сам или заставит делать других в целях сохранения общего мира и безопасности, и признал себя ответственным за это; чтобы каждый подчинил свою волю и суждение воле и суждению носителя общего лица. Это больше, чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения (выд. нами – А.Т.)» (II, 132 – 133):
«Таково рождение того великого Левиафана или, вернее (выражаясь более почтительно), того смертного Бога, которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны своим миром и своей защитой. Ибо благодаря полномочиям, отданным ему каждым отдельным человеком в государстве, указанный человек или собрание лиц пользуется такой огромной сосредоточенной в нем силой и властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает этого человека или это собрание лиц способными направлять волю всех людей к внутреннему миру и к взаимной помощи против внешних врагов» (II, 133).
Самый стиль Гоббса, говорящего о возникновении государства, решительно меняется, обретая вместо обычной логической чеканности патетические краски и усваивая библейский стиль шести дней творения – с показательным риторическим повторением:
Суверен «пользуется сосредоточенной в нем силой и властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает… способным направлять волю всех людей…».
«Сила и власть» Левиафана, возникающего из состояния естественной вражды (первоначального хаоса), есть единственное, что способно упорядочить человеческий мир – то, что утвердившись, несет мир и покой – «субботний отдых», даруемый здесь как награда за повиновение, как готовность пожертвовать свободой, в естественном состоянии являющейся единственно свободой страстей. И как война рождается из свободы, так мир порождается страхом, непременным спутником «силы и власти», страх единственный способен породить сотрудничество, единственный может обеспечить осуществление естественных законов «взаимной уступчивости» и «легкого прощения обид» (II, 117).
Но Левиафан есть только смертный Бог и «хотя верховная власть, согласно положению ее учредителей, должна быть бессмертной, однако по своей природе она не только подвержена насильственной смерти в результате внешней войны, но в силу невежества людей и их страстей она носит в себе с момента своего учреждения семена естественной смерти или семена распада от внутренних распрей» (II, 172).
Уподобление Левиафана естественному организму имеет свои границы – и границы эти явственнее всего в состоянии кризиса и распада государства. В «естественном теле» все члены находятся «во взаимной зависимости» (II, 443). Так же верно и то, что в государстве все члены «взаимно связаны между собой, но зависят они только от суверена, который является душой государства. И стоит только этой душе исчезнуть, как государство так распадается в огне гражданской войны, что прекращается всякая взаимная связь между людьми в силу отсутствия общей зависимости от известного суверена, точно так же как члены естественного тела распадаются в земле вследствие отсутствия связывающей их души» (II, 443).
5. Суверен. Единственной скрепой государства является верховная власть – суверен, который есть «носитель лица» (в смысле латинского термина persona) государства, лицо, «ответственным за действия которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и защиты» (II, 133).
Соответственно, права суверена и есть права государства – он единственный, кто может называться народом, тогда как то, к чему обычно применяется данный термин, есть собственно «масса – простое собрание индивидов (или, в государственном состоянии – граждан), которые от своей многочисленности не способны приобрести больше прав, чем каждый из них обладает по отдельности (I, 333 – 334).
Не суть важно, кто именно является сувереном – им может быть либо отдельное лицо, либо собрание. В первом случае государственное правление получит форму монархии, во втором – аристократии или демократии, в зависимости от того, будут ли участниками собрания-суверена только некоторые граждане или же каждый гражданин будет иметь право участвовать в собрании.
В «Левиафане» Гоббс фактически уклоняется от обсуждения вопроса о преимуществах той или иной из форм правления, поскольку существенным для него является отстаиваемый тезис о неограниченности власти суверена, тогда как конкретная форма, какую обретет суверен, зависит от частных обстоятельств и никоим образом не влияет на общее учение о государстве. В «Гражданине», написанном на девять лет ранее, Гоббс, однако, довольно подробно останавливается на этом вопросе, отдавая все преимущества монархии (впрочем, подобный вывод без столь подробной аргументации есть и в «Левиафане» – II, 145 – 151). В первую очередь Гоббс отказывается от традиционного со времен Аристотеля выделения наряду с тремя названными («истин-ными») формами правления еще трех – «порочных» или «испорченных» – анархии, олигархии и тирании, поскольку, на взгляд Гоббса, между первыми и вторыми тремя разница состоит исключительно в чувствах людей, о них говорящих (I, 350; II, 522).
Очевидным преимуществом монархии Гоббс считает то обстоятельство, что здесь власть сосредоточена в одном лице, способном быстро и эффективно, не будучи стеснен ни процедурой, ни возможностью – как для народного собрания или аристократического совета – сойтись в одном месте:
«Очевиднейшим признаком, что самая абсолютная монархия есть наилучшая из всех государственных форм, является то, что не только цари, но и государства, управляемые народом или оптиматами, всю власть во время войны передают только одному человеку…» (I, 384).
Из этого следует, что монархия есть наилучшая форма государства в военном отношении, «а чем иным являются многочисленные государства, как не военными лагерями, укрепленными и вооруженными друг против друга» (I, 384). Монархия, тем самым, обладает по меньшей мере одним существенным преимуществом, тогда как недостатки, ей свойственные, в равной или даже в большей степени присущи и двум остальным формам правления.
Демократия же обладает, среди прочих, и теми недостатками, что в ней как правило, у власти стоят не наиболее достойные, а наиболее красноречивые люди или же те, кто потакает страстям простого народа. Более того, поскольку и сами страсти изменчивы, да и состав народного собрания может быстро меняться, так как не все, пришедшие на одно собрание, придут и на следующее, то возникает надежда, сговариваясь и убеждая своих единомышленников в как можно большем числе прийти на следующее собрание в том случае, когда уже состоявшееся приняло решение, им нежелательное, и тем самым отменить ранее принятый закон и принять новый. Тем самым, в демократическом государстве «законы… носятся туда и сюда, как на волнах» (I, 382). Такой характер правления побуждает составлять партии, «а партии приводят к мятежу и гражданской войне» (I, 381). Кроме того, в наиболее важных случаях – при обсуждении дел войны и мира, при заключении международных соглашений, т.е. при всех тех действиях, которые более всего нуждаются в тайне – демократия действует публично и такого рода решения «становятся известны врагам еще раньше, чем они могут быть приведены в исполнение, и враги не хуже самого принимающего решение народа знают, что он может, чего не может, чего хочет, а чего не хочет» (I, 382 – 383).
Что же касается аристократии, то «характер ее правления намного ближе к монархическому, чем к демократическому» (I, 384 – 385) и, следуя логике предшествующего изложения, данная форма правления должна быть оценена как средняя по своей предпочтительности.
Однако, недостатки демократического правления не носят абсолютного характера и в некоторых случаях эта форма правления может быть сочтена столь же предпочтительной, как и монархия:
Это возможно в том случае, «если бы в демократическом государстве народ пожелал бы доверить обсуждение вопросов войны и мира и создание законов только одному человеку или очень немногим, довольствуясь лишь правом назначения магистратов и других должностных лиц, то есть властью без ее исполнения» (I, 383).
В последнем случае, т.е. фактически при представительной форме правления, «придется признать, что демократия и монархия ничем не отличаются друг от друга» (I, 383).
6. Права суверена. Оговорив те формы, которые может принимать суверен, Гоббс приступает к анализу прав суверенной власти, причем здесь использует уже исключительно формально-юридические процедуры. Иными словами, с момента основания государства право, ранее бывшее только голосом разума, теперь становится силой, пронизывающей самое существо «смертного Бога». Основные права, перечисляемые Гоббсом, суть следующие:
Форма правления не может быть изменена по решению подданных:
«…Те, кто уже установил государство и таким образом обязался соглашением признавать как свои действия и суждения одного, неправомерны без его разрешения заключать между собой новое соглашение, в силу которого они были бы обязаны подчиняться в чем-либо иному человеку. Поэтому подданные монарха не могут без его разрешения свергнуть монархию и вернутся к хаосу разобщенной толпы или перевести свои полномочия с того, кто является их представителем, на другого человека или другое собрание людей, ибо они обязались каждый перед каждым признавать именно его действия своими и считать себя ответственными за все, что их суверен будет или сочтет уместным делать» (II, 134).
Если же они откажутся от ранее сделанного соглашения без согласия опять же всех – т.е. в их числе и суверена – то их действие будет несправедливо, во-первых, потому что мнение хотя бы одного было проигнорировано, во-вторых, потому, что верховная власть была отдана одному и принадлежит ему праву, следовательно, лишение его ее будет несправедливым.
Верховная власть не может быть потеряна. Поскольку соглашение было заключено «лишь друг с другом, а не сувереном с кем-нибудь из участников, то не может иметь место нарушение соглашения со стороны суверена, и, следовательно, никто из его подданных не может быть освобожден от подданства под предлогом того, что суверен нарушил какие-либо обязательства» (II, 135).
Второй тезис Гоббса выглядит наиболее слабым с собственно юридической точки зрения. Его аргументация исходит из того, что Левиафан возникает только с избрания (или какого-либо иного обретения власти) сувереном – до появления суверена государства не существует и, стало быть, не может существовать и вообще «юридических институтов», каких-либо «искусственных тел». Однако такого рода аргументация противоречит собственному положению Гоббса, согласно которому возникает именно государство, тогда как суверен есть собственно только «носитель общего лица» (II, 132). Таким образом, хотя конкретный человек или группа лиц, наделенные правами суверена, действительно, согласно исходным посылкам Гоббса, не могут выступать в качестве обязанной стороны, но предположение о том, что таковые обязанности могут быть возложены на сам институт, гоббсовской гипотезе не противоречат, тем более что само государство как целое мыслится имеющим если и не обязанности, то во всяком случае функцию, оправдывающую и дающую основание его существованию – а именно защиту внешнего и внутреннего мира.
Дальнейшее развитие данного тезиса, однако, выводит дискуссию на новый уровень. Гоббс выдвигает гипотетическую ситуацию, в которой «один или несколько че-ловек утверждают, что суверен нарушил договор, заключенный ими при установлении государства, а другие… утверждают, что никакого нарушения не было» (II, 135 – 136):
«…В этом случае не имеется судьи для решения этого спора, и мы вновь отброшены к праву меча, и каждый человек снова получает право защищать себя собственной физической силой, что противоречит цели, поставленной людьми при установлении государства» (II, 136).
Таким образом, Гоббс указывает, что такого рода конфликт не имеет решения в сфере юридического – он не может быть рассмотрен как казус, ибо для него отсутствует как инстанция, так и норма, могущая разрешить столкновение позиций – «тщетна поэтому попытка предоставить кому-либо верховную власть на основе предварительного соглашения» (II, 136). Здесь имеет место предельный случай – утверждения самой власти и полем его разрешения может быть только сопоставление двух сил – проявление власти в чистом виде, вне юридического:
«Мнение, будто какой-либо монарх получает свою власть на основе соглашения, т.е. на известных условиях, вытекает из непонимания той простой истины, что соглашения являются лишь словами и сотрясанием воздуха и обладают силой обязать, сдерживать, ограничить и защитить человека лишь постольку, поскольку им приходит на помощь меч государства, т.е. несвязанные руки того человека или собрания людей, которые обладают верховной властью и действия которых санкционированы всеми подданными и исполнены силой всех подданных, объединенных в лице суверена» (II, 136).
Иными словами, здесь Гоббс впервые формулирует – правда, не эксплицируя и не развивая его в дальнейшем, но имплицитно проводя через всю свою теорию – позицию, в XX веке явным образом сформулированную Карлом Шмиттом – «суверен есть тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении» (10). Суверен есть тот, чья власть зримым образом проявляется в экстраординарной ситуации. В нормальном положении есть существующие органы власти, установленный порядок и процедуры (11). Здесь есть возможность спорить о разграничении полномочий и тому подобных вопросах. Но в чрезвычайной, экстраординарной ситуации собственно правовые вопросы снимаются – это именно потому экстраординарная ситуация, что для нее нет установленных правил, нет нормативного порядка. И в этой ситуации – выходящей за пределы права, являющейся собственно политической – проявляется существо суверена, того, кто может принимать решение, когда ни у кого нет такового права – он тот, кто может действовать за пределами права, иными словами, обнажая свою сущность – чистую власть.
Таким образом, основной вопрос в доктрине суверена, развиваемой Гоббсом, заключается в том, кто имеет право выйти за пределы права, кто имеет право принять внеправовое решение, при этом не оказываясь сам выкинут за пределы правового универсума. И этот вопрос имеет силу в любом государстве – вне зависимости от того, характеризуется оно как тоталитарное, авторитарное или демократическое. Это вопрос о том, кто имеет право на действие, выходящее за пределы всего, обозримого и укладываемого в правовые пределы – и если суверен, т.е. лицо, имеющее право на бес-правие, не определен или его статус затемнен в соответствующем государстве, то тем самым оно ничуть не ближе к идеалу правового существования – напротив, именно по Гоббсу, в случае ситуации предела, ситуации, взламывающей рамки права, оно обречено – если только не решится на акт обнажения суверенна в его сущности – обречено на сваливание в хаос естественного состояния.
Гоббс в своей трактовке власти окончательно вырывается за пределы античного и средневекового мышления, построенного на нормативно организованном космосе, включающем в свой состав и человека, предполагающего этические основания политического, переход морально должного в правовое веление, силу, координированную с мировым порядком. У Гоббса такая координация возможна только как соупорядочивание двух сил – как тот предел, который одна фактическ
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Социология Макса Вебера
Осипов Г. Макс Вебер (1864—1920) является одним из наиболее крупных социологов конца XIX — начала XX в., оказавшим большое влияние на развитие э
- Особенности формирования и реализации политики занятости в современных мегаполисах
- Огюст Конт и возникновение позитивистской социологии
Осипов Г. 1. Конт и его времяРодоначальник позитивизма в философии и социологии Огюст Конт родился в Монпелье в 1798 г. в семье чиновника. Пе
- Педагогика и методика начального образования. Шпаргалки по социологии
- Традиции и новаторство в творчестве символистов, акмеистов, футуристов
Тема: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ СИМВОЛИСТОВ , АКМЕИСТОВ , ФУТУРИСТОВ. В науке нет единого мнения о начальном периоде Р. Многие и
- Шпаргалка по философии
- Специфические законы социальной организации
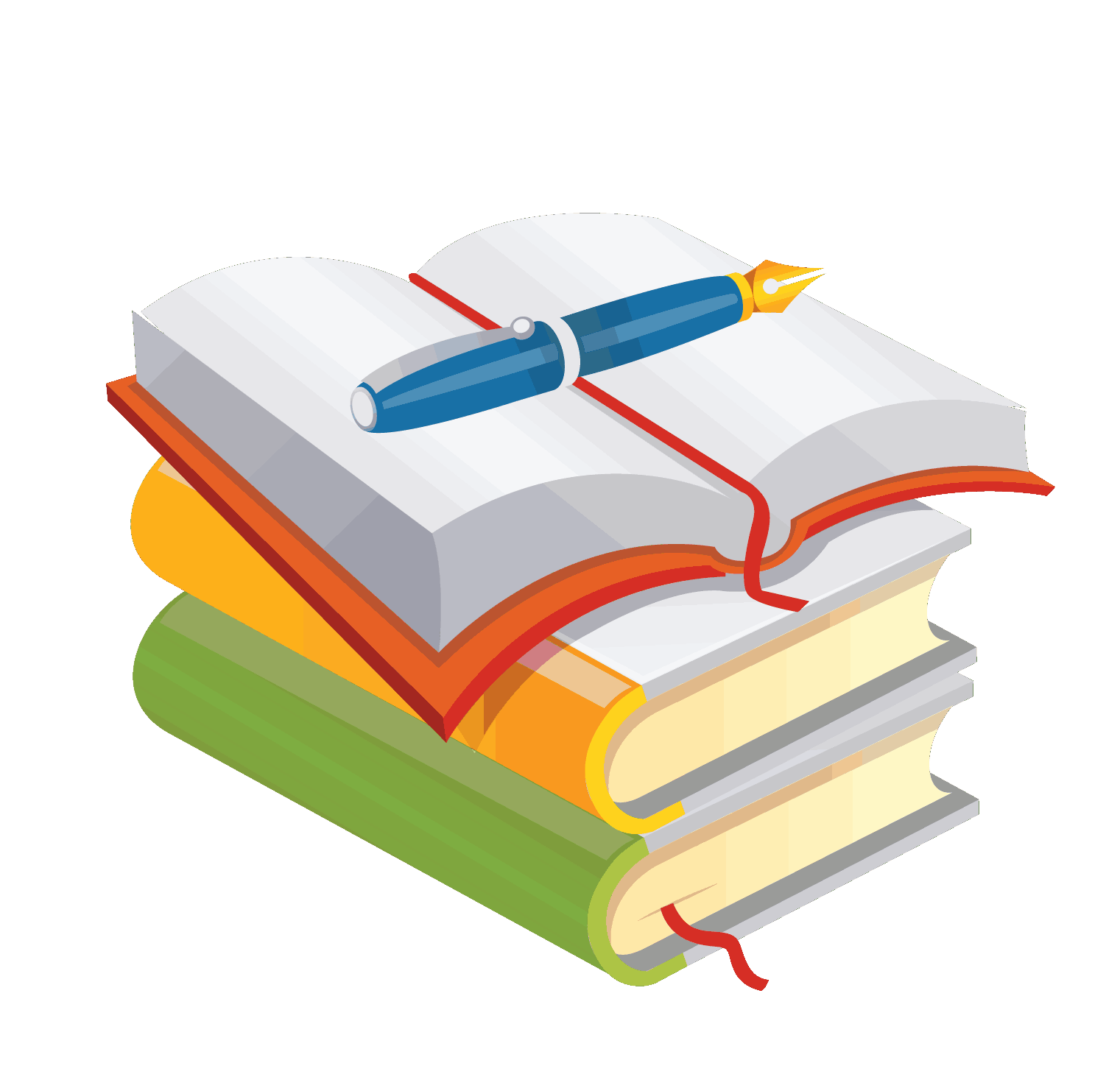 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.