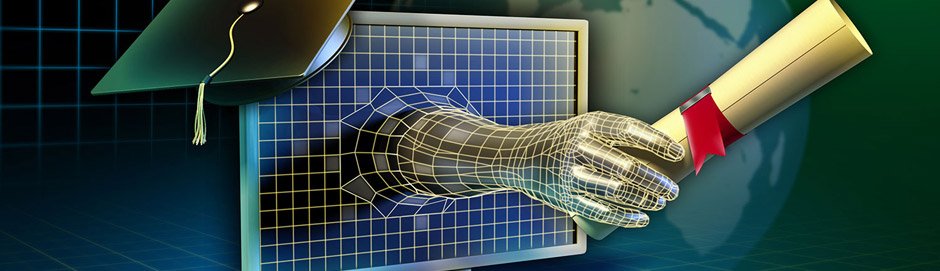Особенности французского менталитета
Саратовский Государственный Университет
Особенности французского менталитета
Выполнил: студент 429 французской группы
Федотов Е. С.
Саратов 1999
La douce France — «сладкая Франция» так она называется еще в «Песне о Роланде», средневековом эпосе — сладкая страна, женщина, возлюбленная и супруга.
Геополитическая ситуация — Запад континента Евразии, где он лицом к Атлантическому океану. Однако французы — не нация моряков, в отличие от англичан, их соседа на севере, соперника по владению Новым светом. Правда, в Канаде и в южных штатах США: Луизиане, Виргинии, Каролине, Новом Орлеане есть следы присутствия Франции; но не случайно французы отказались, сдали эти территории. Франция — в высшей степени самоцентрированное, центростремительное государство и занимается преимущественно сама собой. В своей столице — Париже французы развили дифференцированное пространство разнообразных интересов, так что не только обитатели провинций влекутся в Париж, словно некоей центростремительной силой, но этот город претендовал и претендует быть идеологической и культурной столицей мира.
Если же бывали периоды экспансии в истории Франции, как в эпоху наполеоновских войн, то это происходило в силу внутреннего воспламенения Французской революцией, когда в стране заработал вулкан и принялся извергать свою лаву на окружающие страны. Ведь не от магнетического притяжения вторгались в эти страны французы, но от собственного избытка энергии: распираемы, а не влекомы. Не могло быть (и не было) никакого жизненного интереса у Франции к белоснежной России, чтобы зашвырнуть и туда свои легионы. Но только избыток и прилив воспламененной крови в организме страны и народа имел нужду в том, чтобы успокоиться и охладиться. Так что не как практически полезная акция истории, но, скорее, как незаинтересованная и эстетическая затеялась война 1812 года между Францией и Россией.
Кровопускание как универсальное медицинское средство не случайно было очень распространено именно во Франции — вспомним «Мнимого больного» Мольера и проч. И о Декарте традиция повествует: когда он простудился и смертельно заболел в Швеции, а местный врач приступил к нему с предложением пустить кровь, философ из последних сил приподнялся на одре и воскликнул патриотически: «Не смейте проливать французскую кровь!» — подобно какому-нибудь шевалье иль мушкетеру.
Во французской истории и ментальности наблюдаемо особо интимное отношение к этому субстанциональному элементу — крови. Это первоэлемент не Бытия, но Жизни — витальной (а не абстрактной) субстанции. И «витализм» как философско-научное течение и якобы объяснение многих феноменов наиболее развился во Франции XIX века. Однако еще римский историк Тацит повествовал о жрецах древней Галлии, друидах, которые учиняли ритуальные кровавые жертвоприношения под священным дубом. И симптоматично, что женщина могла быть жрицей у галлов. Этот обычай нам донесен также оперой Беллини «Норма»: ее героиня — жрица друидов. Ни в одной стране национальный гимн не столько кровожаден, как «Марсельеза»:
Contre nous de la tyrranie д’йtendart sanglatant est levй («Против нас поднят кровавый штандарт тирании»). А враги намереваются egorger nos fils et nos compagnes («перерезать горло нашим сыновьям и подругам»). И патриоты восклицают в энтузиазме отмщения: Qu’un sang impur abbreuve nos sillons («Пусть нечистая кровь обагрит наши борозды!»).
Страна сакральной жажды — вот Франция. Здесь живет Пантагрюэль — герой эпоса Франсуа Рабле. А имя его означает по-гречески — «Всежаждущий». Его отец, Гаргантюа получил свое имя от возгласа удивления родители своему только что рожденному дитяти: «Какая большая у тебя глотка!». Персонажи этой книги затеяли путешествие к Оракулу Божественной Бутылки за вопросом о смысле жизни и что в ней делать. И ответ Оракула был: «Пей!» Анатоль Франс озаглавил свой роман из эпохи Французской «Боги жаждут». И действительно: тогда друидоподобные кровавые жертвоприношения осуществлялись не таинственно и героически, но публично-демократически, как национальные фестивали, на Гревской площади. И был изобретен даже ненасытный механический Рот — машина доктора Гильотена — для этой цели.
Но что есть кровь, если ее перевести на язык стихии? Очевидно это вода. Но вода, смешанная с огнем. Другая ипостась огненной воды — вино и семя. Недаром вино — кровь христова и причащение в католичестве вином и хлебом. И Франция всемирно известна и почитаема как законодатель в этих областях и отношениях: вино и Эрос.
Оба варианта «огненной воды» (кровь и семя) совмещены во Франции маркизом де Садом («садизм») и Синей Бородой, легендарным аристократом средневековья, который любил и убивал своих жен в собственном замке. Вино, с другой стороны, выступает как метафора Знания — духовное вино, духовная жажда. И у раблезианских гигантов не только неимоверные глотки и животы, но они — обладатели просвещенных умов, их черепа наполнены энциклопедическими знаниями.
Французский дух сконцентрировался на Кровь, Эрос, Женщину. В Римской империи земля нынешней Франции называлась Галлия, слово созвучное с gallina — курица. И пословичный символ здесь — «Галльский петух», этот фанфарон-задира, пастух стада кур в своем дворе, подобно наибольшему Петуху — Королю Франции, пасущему гарем своих любовниц (мадам де Помпадур, де Монтеспан, де Лавальер, де Ментенон...).
Петух — птица, связанная с огнем («пустить петуха» — учинить пожар) и с солнцем: крик петуха означает конец ночи, приход утра, восход солнца. И самый славный король Франции — Людовик XIV — был прозван «Король-солнце». И это не просто метафора, но имеет прямое отношение к структуре социума во Франции и даже к его администрации. Она устроена наподобие солнечной системы с планетами-провинциями (Нормандия, Гасконь, Шампань, Прованс...), вращающимися вокруг столицы — Парижа, или Версаля (от глагола verser = крутиться, отсюда — Versaille, центр вращения в обществе, в «свете» лучей Короля-солнца). И эта централизация совершилась во Франции уже в XV веке, в отличие от других стран Европы: Англии, Германии, Италии, в которых единение произошло гораздо позже.
Между прочим, в «Трех мушкетерах» Дюма Д'Артаньян — это типичный «галльский петух», легко возбудимый, драчливый, женолюб. Он огонь, легко воспламеняющийся южанин, гасконец. Популярность этой книги обязана, в частности, тому, что ее четыре главных персонажа четко распределены по четырем темпераментам. Д'Артаньян — сангвиник («кровяной»), если буквально перевести с латинского и не случайно он наиболее ярко выражает галльскую душу. Аналогичен ему потом Жюльен Сорель у Стендаля. Атос — холерик по темпераменту; Арамис сентиментален, меланхолик; Портос массивен, флегматик. И все они — как планеты, вращающиеся вокруг солнца короля и луны королевы центростремительным тяготением чести; социум во Франции важнее личности: страсти общественно-политические сильнее интеллектуально-духовных идей и убеждений.
Вращение — самый всеобщий тип движения во Французском социуме и психике, и это — в согласии с первоэлементом крови в организме, в субстанции страны: кровообращение предполагает центр — сердце, средоточие и узкий круг — двор, где людям подобает бегать-обращаться в Версаль и вращаться там в разговорах, быть ловкими.
Рене Декарт предложил такое видение Вселенной, согласно которому она состоит из множества вихрей, вращающихся вокруг своих звезд-солнц как центров. Каждый вихрь вращается между соседними, и среди них развивается соперничество: одолеть друг друга и пленить звезду соседа — подобно тому, как рыцари состязаются на турнирах (от tourner — вращаться) в присутствии прекрасной дамы, которая созерцает дуэль своих возлюбленных.
В Декартовом вихре, на центрифуге его вращения, совершается сепарация, образование разного типа частиц-элементов-индивидуумов — личностей а заодно их распределение и классификация. Самые большие, грубые, неуклюжие, неотесанные получают свое естественное место на периферии вихря — социума. Декарт назвал их «частицами третьего элемента», который практически совпадает со стихией земли. Самые малые, тонкие, мобильные, ловкие, гибкие и остроумные частицы естественно собираются вокруг центра, образуя солнце и двор. А между периферией и центром вращаются оставшиеся частицы, которые образуют «небо» каждого вихря.
Три элемента Декартовой физики абсолютно подобны трем сословиям французского общества: третье сословие — буржуазия, второе — духовенство и первое — дворянство. И разница в занятиях между ними соответственная. Третье сословие занимается материей, веществом (грубые частицы «третьего элемента»). Второе сословие, духовенство, занимается спиритуальными, нематериальными субстанциями, соотнесенными со стихиями воды (Любовь — сострадание, милосердие) и воздуха (Дух, Слово...). Первое же сословие, аристократия, призвано быть воинством, рыцарством, проливая и жертвуя кровь — «огненную воду».
Между прочим, у Декарта «первый элемент» представляется жидким (не сухим), родом тонкой огненной жидкости, проникающей повсюду, в том числе и между частицами третьего и второго элементов. У Декарта — панический страх пустоты и в этом Декартово, французское видение Бытия сходно с эллинским, Платоновым и неоплатоническим, да и гностическим, по которому бытие — полнота.
Бытие видится и Жаном-Полем Сартром как непрерывный континуум, где вязнет дух — таков атрибут Бытия в его философии. Сартр — атеист в традиции французского либертена, вольнодумца. Но и у Тейяра де Шардена, католического мыслителя, в трактате «Божественная Среда» основная интуиция такова: человек плавает в Боге как в Океане, в непрерывности Бытия. Бог всепроникающ извне и изнутри, божественные энергия и милость окружают и пропитывают нас, как огненно-жидкая субстанция «первого элемента» в небесном океане Декарта. И вот материя у Сартра, дух у Тейяра видятся в одном образе, который как бы врожден французскому сознанию.
Внутренняя жизнь французского общества представляется в виде социального рондо, где все индивидуумы-частицы вращаются в тесном соприкосновении (прославленная и пресловутая коммуникабельность французов!) и в ходе общения полируют (politesse — вежливость, социальная воспитанность!) острые грани друг друга, формируя из себя граждан. Механизм этого процесса хорошо описан в «Общественном договоре» Руссо, там он применяет следующий образ: как речной поток полирует и обтачивает угловатые камешки в гальку, таким же манером общество воспитывает граждан из простолюдинов. Но подобным же образом Декартов жидкостный вихрь своим вращением обтачивает частицы трех элементов, формируя из них порядочных членов соответствующих сословий общества.
Декарт даже луч света уподобляет палке — трубке, в которой кишат мельчайшие частицы первого элемента и если нам кажется, что вот она — пустота, вакуум, то мы заблуждаемся: просто наши чувства и приборы не улавливают населенности этого места еще более мелкими частичками и энергиями. Любой интервал полон частиц, которые движут более грубые куски вещества и так повсюду разливается и передается единое движение вихря в целом.
Так работает среда — важнейшая идея во французском мировоззрении: она — активный перводеятель, в отношении которого частицы и индивиды — объекты приложения сил и энергий среды: они — пассивнее ее.
Национальный образ движения — эта проблема стоит теперь перед нами. Ньютон в Англии, постулируя абсолютное пространство и время, предполагая наличие абсолютной пустоты и отвлекаясь от механизма действия сил всемирного тяготения может брать два или несколько изолированных тел и высчитывать прилагаемые к ним силы и их траектории в уравнениях, усматривая причины и импульсы в самих телах, их движения как бы «самостоятельные», как и англосакс-джентльмен. В Декартовой картине Вселенной такое невозможно: существует одно тотальное общее движение внутри данного вихря, а уж частицы передают его друг другу, трогая соседа. Декарт определяет движение как смену соседства, ближайшего окружения, а не по шкале расстояния, дистанции. Его космос — близкодействие, тогда как дальнодействие в космосах Англии (Ньютон) и Италии (Галилей) предполагает пустоту и дискретность, диалог твердых тел (или математических точек) в вакууме, как свободных атомов (индивидуумов), независимых ни от чего. Как кот, который ходит сам по себе. Француз же — не атомарный человек, индивидуалист, стоящий вертикально, но прежде всего социальный человек, не вертикальный, но приклоненный туда или сюда: к даме в реверансе или к цели. И мышление его — не абстрактное, но ориентированное. Французский сознание — ситуационное, векторное, считающееся с обстоятельствами. Именно во французских социологических теориях, столь влиятельных в европейском гуманистическом XIX веке, человек объясняется как функция обстоятельств, продукт окружающих условий и воспитания. В таком же направлении работал и французский реалистический роман (Бальзак, Золя...), описывая обстановку, условия и быт, землю и природу как предопределяющие поведение персонажа субстанции и силы, с чем он сцеплен и чем пропитан, так что по обстановке жилища можно прочитать характер человека. В этом плане Стендаль более налегает на свободу воли и индивидуализм личности, которая мотивируется своими страстями и пытается влиять на обстоятельства сам (Жюльен Сорель в «Красном и черном», Фабрицио в «Пармской обители».
Социализм, взгляд на человека прежде всего как на члена общества, — продукт французского мышления: Руссо, Сен-Симон, Фурье, Конт и проч.
Предопределение и свобода воли — постоянная тема и проблема ума во Франции, начиная со споров схоластов в средневековой Сорбонне, продолжая янсенизмом в XVII веке в монастыре Пор-Рояль, в «Письмах к провинциалу» и в «Мыслях» Блеза Паскаля и т. д.. Семя проблемы посеяно еще Августином в трактате «О Государстве Божием».
Итак, двойственность начал: или все предопределено волей и разумом Бога, или все во мне, я — источник. Французская душа не выносит взаимоисключаемости («крайности — сходятся» — французский девиз!), и ей нужны баланс, равновесие, симметрия противоположностей. Везде это видно: в приятии как и предопределения Бога, так и свободной воли человека, в дуализме субстанций Декарта (протяжение и мышление), в его же «психофизическом параллелизме» — между душой и телом: в сенсуализме и рационализме в его же философии; в симметрии как эстетическом принципе французского классицизма, в статических антитезах Гюго: Гуинплэн («Человек, который смеется») безобразен лицом, но ангел душой; монах-демон Клод Фролло и цыганка Эсмеральда («Собор Парижской Богоматери») и т.п.
Однако баланс принципов и подходов осуществляется во французской истории и культуре не только статически — так что всегда все уравновешено, — но и динамически: в непрерывных колебаниях и биениях, в осцилляции маятника и кренах то в одну, то в другую сторону между полюсами. Во вращении социального рондо должны быть равномощны и направление-сила центростремительная, и вектор-сила центробежная. И перекос в одну сторону тут же мобильно и динамично компенсируется перевесом в другую. Хорошо тут работает обратная связь: смена моды, течений и вкусов в искусстве...
Детерминизм и свобода — в таком виде предопределение и свобода воли предстают во французской философии с рационалистической эпохи Просвещения по не менее рационалистический экзистенциализм, который настаивает на принципе «первичного выбора»: он делается человеком свободно (как первородный грех), но затем уже предопределяет всю цепь поступков и жизнь. Абсолютный детерминизм исповедовал из материалистов XVIII века барон Гольбах, один из авторов «Энциклопедии». Такое воззрение перекликается с фатализмом ислама. И у Франции в истории ее культуры недаром наблюдается «влеченье, род недуга» — к Ближнему Востоку, к миру ислама и взаимопонимание с ним. «Персидские письма» Монтескье, «Магомет» и философские повести Вольтера, в которых действие — на территории условного Востока; Алжир у Доде («Тартарен из Тараскона») и у Альбера Камю. Французские ориенталисты наиболее освоили именно Ближний и Средний Восток, начиная с Шамполиона.
Лаплас, великий математик и физик, выдвинул идею Мирового Интеграла, который если вычислить, то можно узнать все будущие события в истории человечества и поступки людей, то есть Причинность овладеет всей Возможностью, и случай и свобода будут изгнаны из Бытия. Рассказывают, что, когда Наполеон на одном из приемов выразил Лапласу недоумение, что в его системе мира не нашлось места для Бога, ученый ответил: «Ваше величество, у меня не было нужды в этой гипотезе», — знаменитое изречение, острое слово. И для француза — дело чести произнести некое остроумное словцо, которое, в силу тесного взаимного прилегания вращающихся индивидов в социальном рондо салонов зациркулировало бы по среде и вошло бы в субстанцию и память Франции.
Во французской душе нет того гордого самочувствия изолированной личности, которое может иметь германец в глубине своего внутреннего мира и содержать в доме своего «я», и в силу чего его самосознание способно к самообоснованию и самоопределению в существовании. Для француза существовать — значит: существовать в глазах соседа; впечатление, производимое на ближнего, рефлективно приносит доказательство моего бытия.
Близость и конфликт между быть и казаться образуют сюжет знаменитой трагикомедии Ростана «Сирано де Бержерак». В Роксане, женской ипостаси французского идеала две эти субстанции совмещены: высокий интеллект и красота, творчество и грация. В мужской же ипостаси француза дуализм субстанций — проблема и здесь они разведены до предельной антитезы. Сирано — гениальный интеллектуал и красноречивый поэт — безобразен наружностью (его пресловутый нос!), а юный Кристиан — херувим внешностью, но бездарен на слово. Сирано одержим страстью к Роксане, своей кузине, но та очарована Кристианом; однако тот на свидании не может выдавить из себя и двух слов. И вот между мужскими персонажами совершается своего рода симбиоз: Сирано жертвует собой Кристиану и пишет для него любовные письма Роксане, исполненные огня и красноречия, от которых ее целостность (взыскующая от предмета своей любви того же тождества ума и красоты, духа и тела, что и в ней самой) тает, внимая Сирано и взирая на Кристиана. Таким образом Сирано становится душой Кристиана, его духовной субстанцией, его мышлением, его сутью. В этом симбиозе они образуют одно существо, функционирующее наподобие Декартова «психофизического параллелизма».
Превосходство «казаться» над «быть» во Франции сказывается в том, что французская душа склонна к тщеславию, тогда как германская склонна к гордыне. Различие между этими двумя из грехов духа в системе семи смертных грехов — в том, что тщеславие есть род служения ближнему: тщеславный и честолюбивый выбивается из сил, чтобы его полюбили и почитали люди, он обращен к ним, зависит от них и в их зеркале видит подтверждение своему существованию, ценности его, в чем он сам не уверен. И это — более легкий грех, нежели гордость, которая более эгоистична, самоцентрична, сатанинска. Тут человек самоуверен и самодостаточен, и самозамкнут. Сверхчеловек (Ницше), Супермен — идеал германства; французский же идеал — Сверх-общество, Суперсоциум — вот чего домогаются французские мыслители: Руссо, Монтескье, Сен-Симон, Фурье, Конт, Тейяр де Шарден — мечтатели о социуме, о коммуне в Боге.
Французский мыслитель нуждается в отклике, желает чувствовать свое влияние на умы, на дух века, слыть «властителем дум», как Вольтер, Руссо, Гюго, Сартр... По крайней мере — блистать в каком-нибудь салоне, где он развивает мысль в обществе прекрасных дам, чьи восторженные глаза питают его дух своим восхищением. Вольтер, Руссо, Дидро — все имели просвещенных женщин-друзей, поклонниц их таланта. И это было французское изобретение в культуре — салоны мадам Ролан, Рекамье, де Сталь... — как территории, более благоприятные для развития философии, чем кафедры. Даже Декарт вел обширную корреспонденцию с принцессой Елизаветой и не устоял перед приглашением Христины, королевы Швеции, приехать к ней и лично излагать ей свою философию. И он поехал зимой в эту ледяную страну Снежной королевы — он, теплокровный француз из Турени, схватил простуду и умер там в возрасте 53 лет.
О, это требует чрезвычайного усилия от французского духа — прорваться через кажущееся существование к подлинному бытию. Этот прорыв, брешь сквозь среду — обволакивающее нас пространство смутных ощущений, чувств, эмоций, образов, что окружает и пленяет наш разум, — к чистому бытию проделал Рене Декарт, когда он пришел к формуле «я мыслю — следовательно, я существую». Этот принцип лег в основание философии Нового времени, его развил Кант в своем «априоризме» и т.д.
Подобный же прорыв сквозь среду к свободе, к «Я», проделал в нашем веке Жан-Поль Сартр — в трактате «Бытие и Ничто». Он ощущал бытие как липкую, клейкую массу, тесто — хороший образ для материи, ее континуума, для среды, для Декартова «протяжения» — без просвета вакуума, где бы в порах бытия могла обитать свобода. И чтобы освободить дух и «я» от этого заключения, надо настроиться на небытие: оно становится субстанцией, основанием для существования «ради себя». Этим усилием создается пространство свободы. Но требуется долгий процесс «феноменологической редукции», чтобы победить клейкость бытия и снова выйти к Декартову «Я».
Эта тенденция к чистому разуму, рационализм, находится во французской культуре в балансе с противоположной тенденцией: сенсуализм, чувственность радостно открыты навстречу среде, ее объятиям и проникновению в меня. Природа — блага, «человек от природы добр» — тезис Руссо, тогда как Кант напишет «о радикальном зле в человеческой природе» Дух законов зависит от климата — в социологической теории Монтескье, а Ипполит Тэн объясняет особенности искусства во Франции и Англии влиянием местного климата, географической среды.
И, конечно, в искусстве Франции сенсуализм, приветливость к окружающей среде жизни многообразно проявились. «Местный колорит» в романтизме, натурализм, импрессионизм. А там — живопись на природе: не в дому между стен «я», но отдаваясь целиком флюидам и радиации среды, — вот открытие французов и воздух на многое здесь накладывает свою «печать»: развита акварель, письмо пятнами («ташизм»).
В кухне французы — гурманы и гедонисты, их кухня в разработанности уступает разве греческой. Вкус поднят во французском мироощущении из сферы потребления блюд и дегустации вин и соусов ввысь: он стал категорией эстетического «суждения вкуса» — в искусстве, литературе. И даже германец Кант воспринял это изобретение французского мышления и впустил этот термин в свою «Критику способности суждения». Утонченность вкуса, рафинированность чувственной сферы — качество, присущее французам, и оттуда, как и «вкус», вошло в обиход мировой цивилизации.
Атеизм во Франции — скорее просто бытовой, нечувствительность, равнодушие к Богу, а не воинственное ополчение человеческого «Я» на Бога. Просто француз слишком утопает в радостях жизни и в сюжетах и битвах внутри социального рондо, своего социума, чтобы оставались силы души и духа на богоборчество.
Уместно рассмотреть иерархию частей суток. Полдень, ночь, вечер, утро — такова здешняя шкала ценностей, исходя из общества и культуры (но не из жизни земледельца, для которого естественно ценить иначе: утро, полдень, вечер, ночь). Полдень — предельное расширение существа, вскипание крови, солнце в зените. Ночь — излияние избытка в Эросе или в творчестве: Бальзак и Пруст творили ночью; вечер — пространство-время жизни в социальном рондо общения и вращения в «свете».
Музыка во Франции, наклонена не к личности, но к социальности и публичности: трубадуры Прованса, шансонье — от Франсуа Вийона через Беранже до Эдит Пиаф и Ива Монтана — у всех социально ориентированные песни, исполняемые не камерно, но публично, на ярмарках, на турнирах, на стадионах, электризуя слушателей на политические акции. Так родилась и «Марсельеза» Руже де Лиля, песня сочиненная для марша отряда марсельцев на Париж, ставшая гимном Франции.
Жест, декламация, патетика, наружный эффект — отличают и симфонизм Гектора Берлиоза. Его Траурно-триумфальная симфония (баланс противоположностей, что сходятся, касаются друг друга уже в заглавии), посвященная жертвам Июльской революции, с грандиозными размерами оркестра, призвана как бы сопровождать всенародное действо, шествие. Так же и его «Ракочи-марш» из «Осуждения Фауста», и «Шествие на казнь» из «Фантастической симфонии». Музыка тут не чистая, а программная, прислоняется к литературе, она не самостоятельна. Или — опера, при дворе короля, с балетом, или «большая опера», как «Гугеноты» Мейербера, на кровавый сюжет Варфоломеевской ночи. Ну и Бизе — с экзотикой ориентальных «Искателей жемчуга» и с жрицей свободной любви, цыганкой (как и Эсмеральда Гюго) Кармен, что подливала огонь движению эмансипации женщины.
А с другой стороны — импрессионизм, музыка чувственных нюансов, нега слуха, музыкальные акварели Дебюсси или густая эротика Мориса Равеля: «Послеполуденный отдых фавна», «Дафнис и Хлоя», «Павана», «Болеро». Все это музыка не внутреннего человека, но обращенного наружу: в социум-общество или чувственность тела индивида в неге.
Верлен начинает свой манифест «Поэтическое искусство» призывом: «Музыки, музыки, прежде всего!». Да ведь это — для поэзии, для словесного искусства: усилить подпитку литературы развившимся уже самостоятельным искусством музыки. Вообще это стихотворение Верлена характерно для французского сознания ходом мысли. Оно, откровенно полемично против «Поэтического искусства» Буало, которое было манифестом классицизма в литературе (XVII век), устанавливая принципы картезианского рационализма, акцентируя требования меры, пропорции, симметрии, четкость и рельефность формы, запрещая все смутное и низкое.
Отталкивание от предыдущего — просто автоматический механизм развития французской жизни и культуры, который они, по влиятельности Парижа как мирового центра цивилизации, навязали миру и в XIX, и в первой половине XX века. Оттуда все эти «последние крики» во всем, которые призваны сбалансировать предыдущий последний крик: от импрессионизма к экспрессионизму, от натурализма — к абстрактному искусству, потом сюрреализм и т.д. Такой механизм дает шанс французам в любой момент быть на шажочек впереди прогресса и выступать законодателями вкусов Западной цивилизации.
Вопрос «Почему?» по-французски звучит Pourquoi? и означает буквально: «Для чего?» Если Германское сознание в аналогичном вопросе делает акцент на причине, происхождении, прошлом явления, то Французское сознание — на цели, призвании вещи. То есть вперед, в будущее его вектор. Отсюда — теории прогресса, эволюции, «жизненного прорыва» именно во Франции блестяще развивались такими умами как Руссо, Кондорсе, Ламарк.
Литература
Гачев Г. Д. Национальные образы мира: Курс лекций. — М.: Издательский центр «Академия», 1998. — 432 с.
Кочетков В. В. Психология межкультурных различий. — Саратов: Саратовский Государственный Технический Университет, 1998. — 268 с.
История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 2. — М., Греко-латинский кабинет, 1996. — 557 с.
Бромлей Ю. В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. — М.: Наука, 1983. — 412 с.
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Особенности художественного восприятия произведений изобразительного искусства в курсе Мировая художественная культура
Произведения искусства и художественная культура неотделимы друг от друга. Детище художественной культуры общества, произведение иску
- Ответы на экзаменационные вопросы по специальности культурология СПбГУ
11.Культура,этнос и нация, этноцентризм и национализмОснователь этнологии – Гумилев.Понятие этноса. Неверно приравнивать этнос к биолог
- Открытие гробницы Тутанхамона
Министерство связи российской федерацииСибирский Государственный Университет Телекоммуникаций ИнформатикиКафедра: СПТДомашняя пись
- Памятники античности
Понятия «античность» появилось в эпоху Возрождения, когда итальянские гуманисты ввели термин «античный» ( от лат. Antiguus - древний) для опр
- Памятники и памятные места Полоцка
История города Полоцка насчитывает более одиннадцати веков. Полоцк впервые упоминается в "Повести временных лет" в 862 году.Раннее возник
- Памятники саргатской культуры как источник для реконструкции социально-экономических отношений и мировоззрения населения
Омский государственный университетКафедра первобытной историиМ.А. Саплинова Группа И-72Памятники саргатской культуры как источник для
- Панк как субкультура
Copyright © https://referat-web.com/. All Rights Reserved
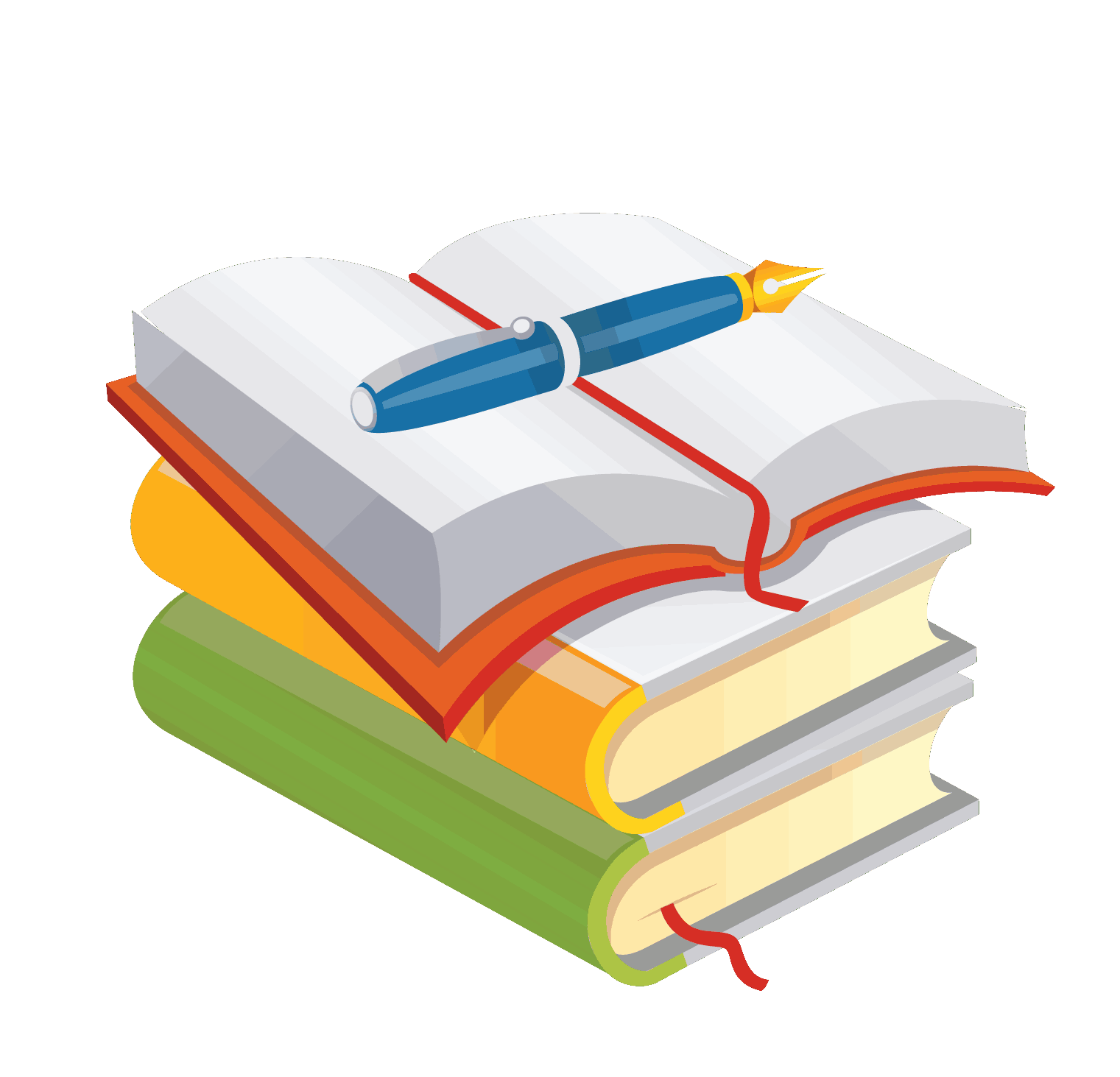 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.