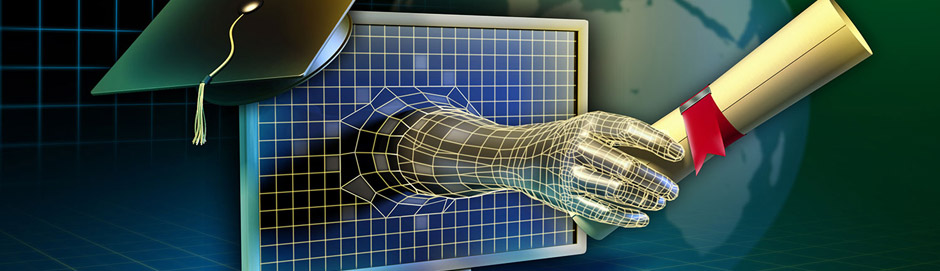Образ России в русской литературе, Пушкин-Гоголь-Достоевский
Тарасов Ф. Б.
Речь Достоевского о Пушкине, в которой феномен Пушкина осмыслялся в контексте предназначения России в мировой истории, связанные с этой речью события, приезд Достоевского в Москву на открытие памятника поэту, как известно, прервали работу автора "Братьев Карамазовых" над завершением романа. И заканчивая затем свое произведение, ставшее последним, Достоевский вновь возвращается к центральному вопросу речи о Пушкине. Это происходит в двенадцатой книге романа - "Судебная ошибка".
В романе обсуждение вопроса о России доверяется двум главным фигурам суда - прокурору и адвокату; между ними происходит своеобразная словесная дуэль, с которой, собственно, и началось данное исследование "обратной перспективы" взаимодействия художественных миров Пушкина и Достоевского. Речь прокурора обрамлена апелляциями к "великому писателю": "Великий писатель предшествовавшей эпохи, в финале величайшего из произведений своих, олицетворяя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки, восклицает: "Ах, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал!" - и в гордом восторге прибавляет, что пред скачущей сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы. Так, господа, это пусть, пусть сторонятся, почтительно или нет, но, на мой грешный взгляд, гениальный художник закончил так или в припадке младенчески невинного прекрасномыслия, или просто боясь тогдашней цензуры. Ибо если в его тройку впрячь только его же героев, Собакевичей, Ноздревых и Чичиковых, то кого бы ни посадить ямщиком, ни до чего путного на таких конях не доедешь. А это только еще прежние кони, которым далеко до теперешних, у нас почище" (15;125). И в конце речи: "Не мучьте же Россию и ее ожидания, роковая тройка наша несется стремглав и, может, к погибели. И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса - это заметьте. От ужаса, а может, и от омерзения к ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться, и станут твердою стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации!" (15;150).
Адвокат в своем ответе-опровержении вновь возвращается к этому образу: "Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших. И если так, если действительно такова Россия и суд ее, то - вперед Россия, и не пугайте, о, не пугайте нас вашими бешеными тройками, от которых омерзительно сторонятся все народы! Не бешеная тройка, а величавая русская колесница торжественно и спокойно прибудет к цели" (15;173).
У самого Гоголя этот стержневой образ сильно акцентирован, поскольку дается в композиционно наиболее "ударных" позициях. С первой же строки внимание читателя направлено на бричку Чичикова, даже еще конкретнее - на колесо экипажа, ставшее предметом разговора "двух русских мужиков", определявших, куда оно доедет, а куда нет. В конце произведения, как известно, бричка превращается в птицу-тройку-Русь. Здесь диалог Достоевского с Гоголем проходит в пространстве, содержащем образы, ключевые для русской словесной культуры, и одно из центральных мест в формировании этого пространства занимает, безусловно, Пушкин с его "телегой жизни".
М.Ф. Мурьянов, о чем упоминалось выше, отмечает, что "в заглавии пушкинского стихотворения от телеги остались извечность, простота и та самая народность, которая впоследствии, уже в николаевское царствование, будет поставлена в качестве одного из ориентиров духовной жизни общества и войдет в триединую формулу "православие - самодержавие - народность". Народность телеги жизни - в ее универсальной применимости к каждому русскому человеку, к любому из тех, кто входит в емкое понятие "мы" (самое частое слово в стихотворении, употреблено пять раз). Этот символ народности - художественное открытие, сделанное Пушкиным <…> в навеки сработанной телеге - все "мы"". (М.Ф. Мурьянов. Из символов и аллегорий Пушкина // Пушкин в XX веке. Вып. II. М., 1996. С. 176-177).
Сразу вспоминается тот факт, что и у Гоголя подчеркнута эта народность: "И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню - кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход - и вон она понеслась, понеслась, понеслась!..". (Н.В. Гоголь. Собр. соч. в 9-ти тт. Т. 5. М., 1994. С. 225). И когда Достоевский, говоря, что "никогда еще ни один русский писатель не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин", что в Пушкине "есть именно что-то сроднившееся с народом взаправду" (26;144), видит в этом основания для веры "в нашу русскую самостоятельность", "в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов" (26;145), то он эксплицирует тот переход, который заложен у самого Пушкина в появлении в "Медном всаднике" обращения к Петру (П.2;182):
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
Чудесное превращение тройки Чичикова в финале "Мертвых душ" в "неведомых светом коней", которые "разом напрягли медные груди" (Там же. С. 225 - 226.), ложится в уже заданный контекст. "Дерзновенное" обращение Гоголя к России ("Русь! Чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?" (Там же. С. 201). продолжает пушкинского поэта-пророка, "исполненного волей" Бога и "обходящего" "моря и земли", слух о котором "пройдет по всей Руси великой" и которого "назовет" "всяк сущий в ней язык". (Ср. "нерукотворность" памятника поэту - "Я памятник себе воздвиг нерукотворный…" - и своеобразную "нерукотворность" "дорожного снаряда" у Гоголя: "не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя расторопный ярославский мужик").
О том, что Достоевский включается в данную парадигму, свидетельствует принципиально важная в этом случае деталь, имеющаяся в его романе "Бесы" - предшествующие роману два эпиграфа. Один из них - из упоминавшихся уже "Бесов" Пушкина:
Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
Другой - из Евангелия от Луки: "Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся" (Лк.8, 32 - 36).
Вынося два этих текста в качестве эпиграфов к своему роману, Достоевский, безусловно, наделяет их родственностью, определенной внутренней синонимичностью. Процитированный фрагмент Нового Завета появится в романе еще раз, в самом конце, когда умирающий Степан Трофимович Верховенский попросит прочитать это место Евангелия книгоношу Софью Матвеевну. Герой, отправившийся в "последнее странствование" в город Спасов, по прочтении "в большом волнении" высказывает "une comparaison": "это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, - это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!.. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности <…> и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть! Это мы, мы и те, и Петруша <…> et les autres avec lui, и я, может быть, первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и "сядет у ног Иисусовых" <…> и будут все глядеть с изумлением" (10;499; ср. у Гоголя: "Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель <…> и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства" (Н. В. Гоголь. Указ. соч. С. 225 - 226).
Сравнение Степана Трофимовича Верховенского, объясняющее смысл евангельского фрагмента об исцелении гадаринского бесноватого, имевшего в себе легион бесов, конкретно в применении к роману, соответствующим образом наполняет и раскрывает ситуацию пушкинских "Бесов" и "мы" его стихотворения. "Мы" теряет признаки указания на конкретные лица и превращается в обозначение России как надперсональной личности. Кружение в поле (в стихотворении) через евангельский текст коррелирует с падением свиней, в которых вошли бесы, в озеро и их гибелью в пучине как потенциальным итогом уклонения России от пути, приводящего к "ногам Иисусовым", или, другими, пушкинскими словами, к "сионским высотам", "тесным вратам спасения". Впоследствии, в начальный период работы над "Братьями Карамазовыми", Достоевский, обращаясь к студентам Московского университета, будет говорить о предчувствии, что "вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной" (30, кн. 1; 23).
Эта корреляция поддерживается и другой смысловой связью. В пушкинском стихотворении "Напрасно я бегу к сионским высотам…" "гонящийся" за душою "грех алчный" сравнивается, в соответствии с новозаветным образом, с "голодным львом", "следящим" "оленя бег пахучий". У св. апостола Петра призыв "трезвиться и бодрствовать" подкрепляется именно словами о том, что "противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить" (1 Пет.5, 8). Изображение души, преследуемой грехом, в виде оленя также связано с библейской традицией: "Имже образом желает елень на источники водныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже. Возжада душа моя к Богу Крепкому, Живому: когда прииду и явлюся лицу Божию?" (Пс.41, 2 - 3). "Преследование" происходит в пустыни, об этом говорит деталь, что "ноздри пыльные" лев "уткнул" в "песок сыпучий". "Пустыня присутствует, потому что эпитет к песку - сыпучий - создает эффект обширного пространства, в котором этот песок пересыпается, передувается вольными ветрами" (М. Ф. Мурьянов. О стихотворении Пушкина "Напрасно я бегу к сионским высотам…" // Творчество Пушкина и Зарубежный Восток: сб. статей. М., 1991. С. 176.). В результате ситуация стихотворения фактически смыкается с евангельским эпизодом о гадаринском бесноватом, который "был гоним бесом в пустыни" (Лк.8, 29; ср.: "дар напрасный" жизни - "однозвучного шума" в "Дар напрасный, дар случайный…", "колокольчик дин-дин-дин" в "Бесах" и "напрасный бег" в последнем случае).
"Сюжет" погони "по пятам", преследования стремящегося к "сионским высотам" значим прежде всего, безусловно, в контексте исхода-бегства народа израильского из Египта, как оно устойчиво осмыслялось в богослужебных текстах, славянская словесная оболочка которых весьма выразительна. В качестве примера можно привести текст 1-го ирмоса 8-го гласа: "Колесницегонителя фараона погрузи, чудотворяй иногда Моисейский жезл, крестообразно поразив, и разделив море: Израиля же беглеца, пешеходца спасе, песнь Богови воспевающа". Он опирается на повествование библейской ветхозаветной книги "Исход": "Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы Египетские, и начальников над всеми ими <…> и он погнался за сынами Израилевыми <…> И погнались за ними Египтяне <…> и настигли их расположившихся у моря <…> И простер Моисей руку свою на море <…> и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И <…> воззрел Господь на стан Египтян <…> И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом <…> И простер Моисей руку свою на море <…>И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова <…> не осталось ни одного из них <…> И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян <…> и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу Его" (Исход 14, 6 - 31).
Как видно при сопоставлении двух приведенных текстов, в ирмосе конкретизируется действие Моисея: пророк разделил море "крестообразно поразив", прообразуя крестную победу Христа. Взаимосвязь двух событий Священной истории является непосредственной основой построения 1-го ирмоса 2-го гласа: "Во глубине постла иногда фараонитское всевоинство преоруженная сила: воплощшееся же слово всезлобный грех потребило есть, препрославленный Господь, славно бо прославися". Данное сравнение тем более ярко, что колесница - это род военной повозки, а "колесничные войска у древних народов составляли самую могущественную силу государства в борьбе с врагами" (Полный церковно-славянский словарь. Сост. прот. Г. Дьяченко. М., 1993. С. 257 - 258).
Таким образом, преследование колесницами фараона в пустыни израильского народа, вышедшего из Египта в землю, обетованную Богом, преследование, закончившееся потоплением войска фараона и чудесным избавлением израильтян, - смысловая ситуация, примыкающая к тому же ряду, что и исцеление гадаринского бесноватого "у ног Иисусовых" и потопление свиней, в которых вышел из того человека "легион" бесов ("легион" - "отряд войска, содержавший около 6000 человек" (Там же. С. 280). В основе этого смыслового ряда - "торжество торжеств" Пасхи, победы над грехом и смертью Воскресением Христовым, исхода из рабства греху "к горе Сиону" не как к топографически локализованной "одной из гор Иерусалима" (Библейский словарь. Сост. Э. Нюстрем. Торонто, 1985. С. 415), но в евангельском смысле "града Бога Живаго", "небесного Иерусалима" (Евр.12, 22). Множественное число "сионских высот" в пушкинском стихотворении говорит о движении именно в духовном, а не в географическом пространстве (ср. в Апокалипсисе: "И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах" - Откр.14, 1).
Возвращаясь к словесной "дуэли" прокурора и адвоката в последней, двенадцатой книге "Судебная ошибка" романа Достоевского "Братья Карамазовы", к столкновению образов "роковой" "бешеной" тройки, скачущей к погибели, и "торжественной" колесницы, можно утверждать, что здесь определенно эксплицирована традиция, пронизывающая словесную культуру XIX столетия и восходящая к библейским источникам. Причем "бешеная, беспардонная скачка" к погибели - это, конечно, эквивалент гибели свиней, в которых вошли бесы, в евангельском повествовании о гадаринском бесноватом. Соответственно, "торжественная" колесница, противопоставляемая адвокатом "роковой тройке" прокурора, является по существу узнаваемым словесным оформлением идентичной реалии: не случайно адвокат назван в романе "прелюбодеем мысли". Разница лишь в том, что "либеральность" прокурора сказывается в неправомерном применении гоголевского образа, в смешении двух принципиально противоположных реалий и, в результате, - в дискредитации одной за счет отрицательного отношения к другой; адвокат же пытается обосновать свою "либеральность" на евангельском авторитете, при полном искажении смысла приводимых новозаветных отрывков, и в конце концов "проговаривается", предоставляя ключ к пониманию подоплеки всей своей речи. "Терминологическая" разница в обозначении одной реалии проявляет качество "судебной ошибки" в том и другом случае.
Несмотря на то, что противопоставление "тройки" и "колесницы" в речах "прелюбодеев мысли" в романе "Братья Карамазовы" оказывается мнимым, не подлинным, оно не может оставаться таковым вне пространства "судебной ошибки". Само присутствие слова "ошибка" задает стремление к выходу из этого пространства и, следовательно, к снятию образовавшегося комплекса мнимостей, фиктивных тождеств.
В уже цитированном выше монологе прокурора есть характерная фраза о том, что "другие народы", сторонящиеся "от скачущей сломя голову тройки", "возьмут да и перестанут сторониться, и станут твердою стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации!" (15;150). Причем атрибуты "просвещенности" и "цивилизованности" адресованы, несомненно, Европе. Однако изображение подобного действия дано уже в также цитированных словах "Медного всадника" Пушкина, обращенных к Петру I:
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
В рамках описанного смыслового контекста каждая деталь приведенного сравнения петровской России с памятником-всадником значима. Тот миг, который запечатлен в данной яркой картине-сравнении, - безусловно, миг внезапно, резко остановленного стремительного движения (стремительность акцентирована тем, что это бег коня; "узда железная" употреблена в применении к России). Более того, остановка произошла не просто "на высоте", но "над самой бездной", что, конечно, привносит в понятие "высоты" признаки, сближающие ее с гадаринской горой, круто обрывающейся у озера ("Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло" - Лк.8, 33). Но спасенный гадаринский бесноватый изображен в Евангелии в статично-спокойном состоянии: "И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме" (Лк.8, 35). Пушкинское же "уздой железной <…> поднял на дыбы" говорит о состоянии напряженно-неестественном как результате "отчаянной" борьбы, результате вынужденном, но отнюдь не окончательном, что скорее можно сравнить с "цепями и узами", которыми связывали гадаринского бесноватого: "его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни" (Лк.8, 29).
В упоминавшемся исследовании М.Ф. Мурьянова символов и аллегорий Пушкина говорится о "жуткой, апокалиптической картине ночного преследования убегающего человека" в "Медном всаднике":
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне…
Показательна цветовая специфика картины: "бронзовый по материалу, иззелена-черный по цвету патины памятник Петру I, которого в русском народе втайне считали антихристом, получил здесь подсветку луною бледной. В этом - прозрачный намек на св. Писание" (М. Ф. Мурьянов. Из символов и аллегорий Пушкина. М., 1996. С. 8). Имеется в виду текст Апокалипсиса: "И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными" (Откр.6, 8).
Отмеченная подоплека образа подчеркнута в произведении неоднократным именованием памятника русскому императору "кумиром":
…В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.
Согласно определению словаря Вл. Даля, "кумир" - "изображение, изваяние языческого божества; идол, истукан или болван" (и только как второе, переносное, приводится значение "предмет бестолковой любви, слепой привязанности", в данном случае неактуальное) (Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. М., 1981. С. 217). Общеизвестна заповедь, полученная Моисеем от Бога на горе Синай: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли" (Исход 20, 4; Второзак.5, 8). Т. е. употребление слова "кумир" имеет однозначно смысл богопротивления. Пушкинский "медный всадник" - ужасно-зловещий ("Ужасен он в окрестной мгле!"). В то же время он - преследующий:
И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.
В контексте сказанного о связи такого преследования с библейским повествованием о чудесном избавлении народа израильского от преследовавших его египтян в пушкинском образе-сравнении ("Не так ли ты над самой бездной, / На высоте, уздой железной / Россию поднял на дыбы?") можно увидеть двойное содержание. С одной стороны, - видимое спасение от падения в бездну. Но для того, чтобы усматривать причину этого спасения в действии всадника, дано достаточно предостережений. С другой стороны, текст "петербургской повести" свидетельствует:
…В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,
Печален, смутен, вышел он
И молвил: "С Божией стихией
Царям не совладеть"…
Поэтому есть основания толковать образ Петра-всадника, поднявшего коня на дыбы, как преследование-борьбу-обуздывание коня всадником, чудесно остановленное в решающий момент силой, с которой "царям не совладеть". (Ср. евангельское повествование об искушении Христа в пустыне, положенное Достоевским в основу поэмы о великом инквизиторе в романе "Братья Карамазовы": "Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз" - Мф.4, 5 - 6).
К "Петра творенью" в "Медном всаднике" применен образ "окна", "прорубленного" в Европу:
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.
А в стихотворении Пушкина "Была пора: наш праздник молодой…" (П.1; 586 - 588), когда речь идет о "народов друге, спасителе их свободы" Александре I - победителе Наполеона в "грозе двенадцатого года", Русь, которая "обняла кичливого врага", вновь изображена "взнесенной им (т.е. Александром-победителем - Ф.Т.) над миром изумленным". В обоих случаях образ "взнесенной" Руси оказывается в смысловом пространстве Россия - Европа. Но во втором случае "мир изумленный" (ср. "пораженный Божьим чудом созерцатель" у Гоголя) - это "кичливый враг", спасенный "объятием" победительницы-Руси, а не тот эталон, на который следует взирать в "прорубленное окно". Ситуация "все флаги в гости будут к нам" через "племена сразились" превращается в зеркальную противоположность. Об этом красноречиво говорят отрывки III и IV строф десятой главы "Евгения Онегина", где, как и в стихотворении "Была пора: наш праздник молодой…", речь заходит о "грозе двенадцатого года" (П.2;349):
Гроза двенадцатого года
Настала - кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но Бог помог - стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей.
Русский царь стал главой царей и спасителем народов не своей силой, но "силою вещей" - действенной помощью "русского Бога"; он - орудие Его воли.
Употребленное Пушкиным выражение "русский Бог", уникальное по неимению в христианском мире этнических аналогов и построенное по образцу Бога Израиля (выведшего Свой народ из Египта), вводит мысль поэта в пространство, в котором формировались и функционировали концепции религиозного предназначения России. (Анализ истории и содержания понятия "русский Бог" дан в кн.: М. Ф. Мурьянов. Из символов и аллегорий Пушкина. М., 1996; глава "Русский Бог". C. 256 - 266). Филологические разыскания указывают на бытование выражения "русский Бог" в течение не одного столетия: оно обнаружено в изданиях рукописей XV - XVI вв. (Б. А. Успенский. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982. C. 120). Т.е. это как раз время, когда, после Флорентийской унии и падения Константинополя в 1453 году, воспринятого на Руси как апокалиптическое предзнаменование, формировалась общеизвестная теория "Москва - третий Рим". Исследователь "путей русского богословия" пишет, что "это была эсхатологическая теория, и у самого старца Филофея она строго выдержана в эсхатологических тонах и категориях <…> Схема взята привычная из византийской апокалиптики: смена царств или, вернее, образ странствующего Царства, - Царство или Град в странствии и скитании, пока не придет час бежать в пустыню". Далее отмечаются два аспекта схемы: апокалиптический минорный и мажорный хилиастический. Именно первый был основным "в русском восприятии". "Чувствуется сокращение исторического времени, укороченность исторической перспективы. Если Москва есть Третий Рим, то и последний, - то есть: наступила последняя эпоха, последнее земное "царство", конец приближается". И только если "забыть о Втором Пришествии, тогда уже совсем иное означает утверждение, что все православные царства сошлись и совместились в Москве, так что Московский Царь есть последний и единственный, а потому всемирный Царь" (Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Париж, 1937. C. 11)
У Пушкина апокалиптическая перспектива не "забывается". Об этом свидетельствуют апокалиптические реминисценции в описании "суда" Александра I над Европой в стихотворении "Недвижный страж дремал на царственном пороге…" (П.1;303) (См.: N. N. "Апокалиптическая песнь" Пушкина (опыт истолкования стихотворения "Герой") // Русская литература, 1995, № 1). Образ Наполеона, павшего кумира, "всадника, перед кем склонилися цари" из этого стихотворения присутствует и в десятой главе "Евгения Онегина": "Сей всадник, папою венчанный, / Исчезнувший как тень зари". Т.е. Пушкин, создавая в очевидной взаимоориентированности двух кумиров-всадников, русского и французского, одновременно непосредственно предвосхищает тему антихриста у Достоевского (Там же. C. 113).
В черновых записях Достоевского к роману "Бесы" есть кратко обозначенная концепция предназначения России в мировой истории: "Россия есть лишь олицетворение души Православия (раб и свободь). Христианство <…> Апокалипсис, царство 1000 лет <…> Мы несем миру <…> Православие, правое и славное вечное исповедание Христа <…> Мы несем 1-й рай 1000 лет, и от нас выйдут Энох и Илия, чтоб сразиться с антихристом, т. е. духом Запада, который воплотится на Западе. Ура за будущее" (11; 167 - 168). Про царство 1000 лет, о котором идет речь в процитированной записи, говорится в конце Апокалипсиса: "И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет" (Откр.20, 1 - 4).
Под 1000 лет в Апокалипсисе подразумевается время от воплощения Христова до пришествия антихриста, время проповеди Евангелия (См.: св. Андрей, архиеп. Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. Иосифо-Волоколамский монастырь, 1992. C. 171, 175). Тысячелетнее царствование - до второго пришествия Христа ("блаженное царствование кончится тогда, когда после кратковременного господства на земле антихриста наступит день второго пришествия Господа, день общего воскресения (Святого Иоанна Богослова Откровение (Апокалипсис). С толкованием проф. Лопухина. Киров, 1992. С. 106"). Это царствование - участие в "первом воскресении" как "возрождении от мертвых дел" (Св. Андрей, архиеп. Кесарийский. Указ. соч. С. 174) ("Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет <…> Это - первое воскресение" - Откр.20, 4 - 5).
Вторая смысловая часть записи Достоевского ("от нас выйдут Энох и Илия, чтоб сразиться с антихристом, т. е. духом Запада") указывает на период, последующий за тысячелетним царством, период трех с половиной лет владычества антихриста, в течение которого будет продолжаться проповедь двух пророков: "И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли <…> И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними" (Откр.11, 3 - 12).
Данный фрагмент Апокалипсиса привлекал пристальное внимание Достоевского (ср. в его письме жене из Эмса в июне 1875 года: "Читаю об Илье и Энохе (это прекрасно)" - 29, кн. 2; 43, 213 - 214). И то, что в сознании писателя он вбирается смысловым пространством "Россия - Запад", является косвенным подтверждением свидетельства, содержащегося в конце третьей речи в память Достоевского Вл. С. Соловьева. Религиозный философ как бы попутно "роняет": "В одном разговоре Достоевский применял к России видение Иоанна Богослова о жене, облеченной в солнце и в мучениях хотящей родити сына мужеска: жена - это Россия, а рождаемое ею есть то новое Слово, которое Россия должна сказать миру" (В. С. Соловьев. Соч. в 2-х тт. М., 1988. Т. 2. С. 318) Имеется в виду следующий эпизод Апокалипсиса: "И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон <…> Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней" (Откр.12, 1 - 6).
Как согласно понимают большинство толкователей, под образом жены должно разуметь Церковь (См., напр.: Святого Иоанна Богослова Откровение… С. 67) "Она болит, перерождая душевных в духовных, и видом и образом преобразуя их по подобию Христову" (Св. Андрей, архиеп. Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. С. 90); "под рождением младенца разумеется рождение Христа в сердцах верующих", Церкви "всегда присущи родовые муки при воспитании и созидании святых" (Святого Иоанна Богослова Откровение… С. 69). Употребление применительно к России образа "жены, облеченной в солнце", безусловно, означает довольно тесное сближение двух реалий - Россия и Церковь, выделение последней в качестве определяющего признака первой. Это сближение постепенно выходит на поверхность к концу речи Достоевского о Пушкине, но более ощутимо оно в полемике писателя вокруг речи со своими оппонентами (26; 149 - 174) и в идеологических спорах по вопросу "Церковь - государство" в романе "Братья Карамазовы". Именно такое движение мысли Достоевского отмечает как магистральное прот. Георгий Флоровский, говоря, что "его (т.е. Достоевского - Ф.Т.) последним синтезом было свидетельство о Церкви" (Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. C. 297).
Как повествует Апокалипсис, жена бежит в пустыню на время владычества антихриста и проповеднической деятельности двух свидетелей-пророков, Еноха и Илии. Сама пустыня, которая должна напитать жену, пустыня как образ условий земного существования "небесных чад" (Святого Иоанна Богослова Откровение… C. 69) имеет своим типологическим эквивалентом в речи о Пушкине Достоевского "нашу землю нищую": "Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю "в рабском виде исходил благословляя" Христос. Почему же нам не вместить последнего слова Его?" (26, 148; ср. у Гоголя: "Русь! Русь! <...> бедно, разбросанно и неприютно в тебе <…> Открыто-пустынно и ровно все в тебе" (Н. В. Гоголь. Указ. соч. C. 201). Достоевский сравнивает ее с "домом", вместившим родившегося Христа-младенца: "Да и сам Он не в яслях ли родился?" (26;148). Россия среди "цивилизованных" народов уподоблена яслям, вместившим Богомладенца, Которому не нашлось места в людском жилище (см. Лк.2, 7; ясли, как определяет словарь Вл. Даля, - "решетка, наклонным откосом, с желобом или ящиком под нею, для закладки за решетку сена скоту, особ. коням" Вл. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1982. Т. 4. С. 681)
Св. Иоанн Богослов дополняет повествование о бегстве жены в пустыню деталями о преследовании ее драконом: "Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени" (Откр.12, 13 - 14). Орлиные крылья, данные жене для быстроты бегства от дракона, - та подробность, через которую апокалиптическое преследование связывается с ветхозаветным, рассмотренным выше по отношению к сюжету скачущей "тройки" в русской словесной культуре XIX столетия. Согласно ветхозаветной книге "Исход", "в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской", в Синайской пустыне, Моисей, взойдя на гору, услышал воззвавший к нему голос Бога: "Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас (как бы) на орлиных крыльях, и принес вас к Себе" (Исход 19, 1 - 4).
Так "тройка", о которой спорят герои романа Достоевского "Братья Карамазовы", получает новый атрибут, становясь "птицей тройкой": "Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?" (Н. В. Гоголь. Указ. соч. C. 225). Отсюда и характер ее движения, переходящего из горизонтального в вертикальное: "Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? <...> Эх, кони, кони, что за кони! <...> Заслышали с вышины знакомую песню <…> и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху". (Там же. C. 225 - 226). В источнике "неведомой силы", заключенной в "птице тройке" и делающей ее необгонимой, открывается его божественное происхождение (мотивирующее появление восклицания "и мчится вся вдохновенная Богом!" в финале поэмы Гоголя. (Там же. C. 226). Потому "неведомы свету", т. е. миру, имеющему только горизонтальное измерение, эта сила и эти кони "птицы тройки", неведомы и ее "прокурорам", и "адвокатам".
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Рождественский В.А.
- Комедия Аристофана
- Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Лермонтов М.Ю.
- Заболоцкий Н.А.
- Богданова-Бельская П.
Паллада Богданова-БельскаяГоды жизни: 1887-1968Серебряный век и ту его ауру, которая так привлекает нас нынешних, создавали не только "мэтры
- Толстой Л.Н.
- Фофанов К.М.
Константин Михайлович Фофанов (1862-1911) Константин Михайлович Фофанов родился в небогатой купеческой семье, систематического образовани
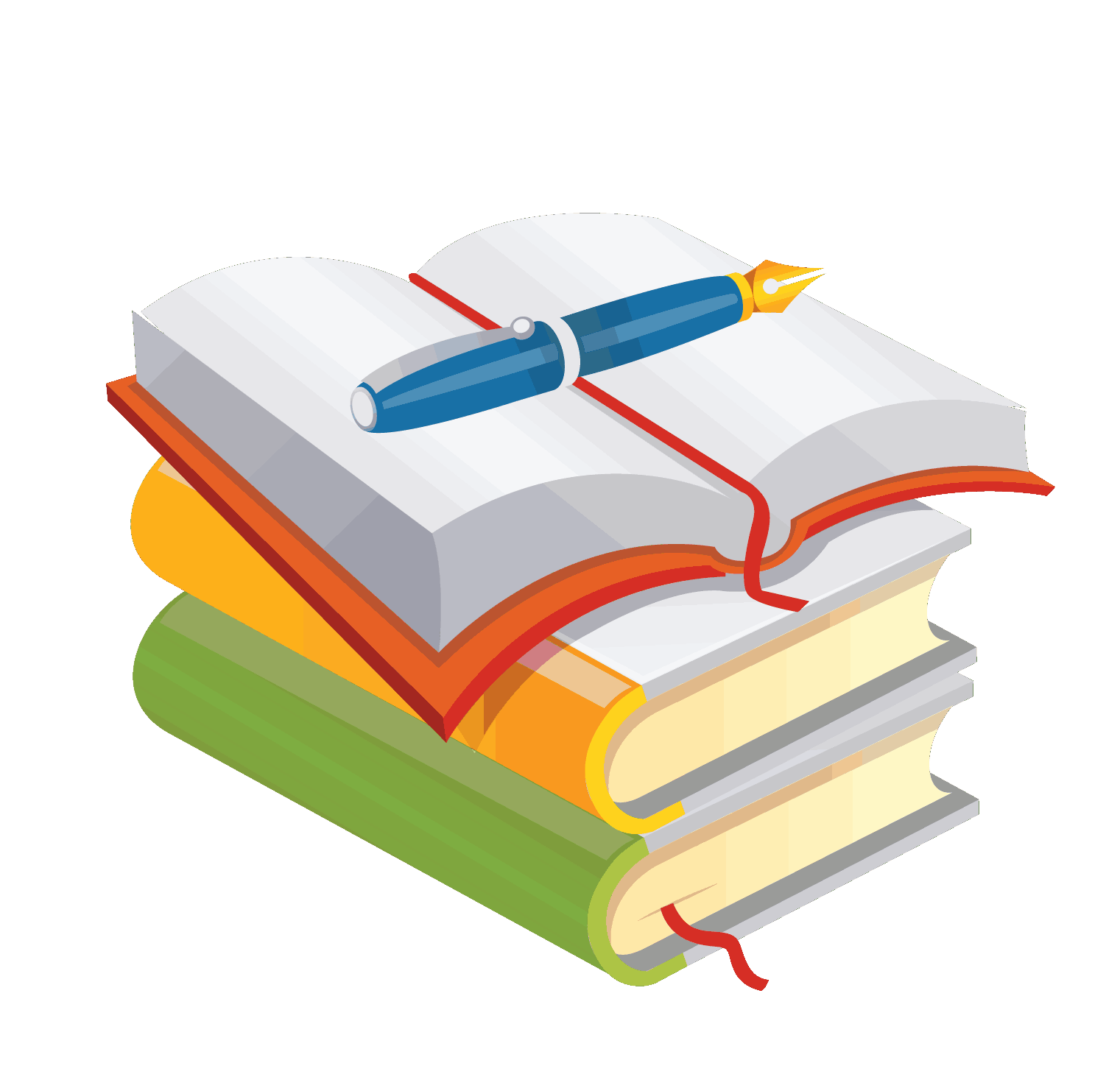 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.