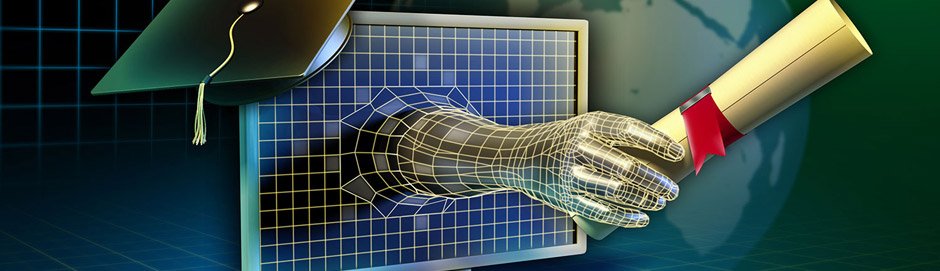Ницше в России и на Западе
Б.В. Марков
Одной из причин неослабевающего интереса к наследию Ницше в России является выдвинутое еще при первом знакомстве с его сочинениями предположение, что он является «самым русским» философом на Западе. Интенсивное переиздание сочинений Ницше, как ни странно, не снимает, а лишь усугубляет трудности изучения его наследия, так как переводы нагружены устаревшими интерпретациями, а некоторые из них, такие как переиздание «Воли к власти», произвольно составленной из рабочих заметок Ницше, вообще являются одиозными. Так Ницше из критика культуры модерна был превращен в ее идеолога. Главным препятствием для русскоязычного читателя остается отсутствие перевода критического издания его сочинений, подготовленного Коли и Монтинари. Он не может возникнуть на пустом месте. Поскольку радикальный перевод с одного языка на другой вообще невозможен, то необходимо критическое обсуждение основных способов интерпретации знаков. Для этого и предпринимается издание серии основных работ, посвященных анализу идей Ницше. Наша общественность все еще воспринимает его философию в понятиях «сверхчеловек», «воля к власти» и «вечное возвращение». Настало время сменить эти установки и осмыслить ее сквозь призму понятий «перспективизм», «интерпретация», «знаки», «справедливость» и др. Для того, чтобы заявить «русского Ницше», т.е. творчески продолжить так удачно начатую еще в прошлом веке в России интерпретацию, необходимо ознакомиться с основными подходами и оценками ведущих ницшеведов. Некоторые, особенно французские интерпретации (Делез, Деррида) известны в России и оказывают определенное влияние на вновь начавшиеся дискуссии о Ницше. Вместе с тем они далеко не однозначны и могут правильно восприниматься на фоне критических исследований, выполненных такими признанными философами как Хайдеггер, Ясперс, Финк, Левит и другие. Собственно, их критические труды и планирует опубликовать издательство «Владимир Даль». Задуманная издателями серия «Мировая ницшениана», будет знакомить российского читателя не только с большими философами, писавшими о Ницше, но и с трудами современных ницшеведов, которые работают в Германии, Франции и Америке. Участие в этих дискуссиях, выдвижение «русского Ницше» является лучшим способом включенности в мировую философию.
Книга Лёвита интересна для российского читателя по целому ряду причин. Прежде всего она открывает пласт основательно забытых имен, идей и споров, которые вели между собой философы 19 столетия. Но самое важное в том, что она обнаруживает некие подводные течения, подтачивающие фундамент европейской культуры. Кризисные и даже катастрофические события, неожиданные и даже трагические сочинения, вызывающие глубокую тревогу, оказываются продуктами длительных культурных процессов. Ницше воспринимается Лёвитом хотя и через призму докритического издания его сочинений, однако вовсе не выглядит одиозным антихристианином, имморалистом и нигилистом. Эту книгу полезно читать сегодня не только для того, чтобы ликвидировать некоторые пробелы в образовании, но и прежде всего для вынесения взвешенной оценки наследия выдающегося немецкого философа. И сегодня они являются подчас диаметрально противоположными. С одной стороны, новое полное издание его сочинений привело к таким критическим исследованиям о нем особенно во Франции, в которых он стал выглядеть неким «либеральным ироником», противопоставившим морализму эстетику и стилистику искусства существования. С другой стороны, кризис либерализма вновь порождает ожидания сильной руки и, несмотря на критическое издание, сочинения Ницше вновь прочитываются как обоснование необходимости открытой игры сил и борьбы за власть. Книга Левита, в которой предложения философов рассматриваются в контексте эпохи, напротив, ориентирует на достижение баланса силы и справедливости.
Структура и содержание книги
Линия развития философской мысли, намеченная в заглавии, представляется российскому читателю необычной, если не неверной. Названные мыслители кажутся полными антиподами: Гегель — классик немецкой философии, а Ницше кажется зародившимся в чуждом ей лоне. Он считается каким-то бастардом - продуктом случайных исторических катаклизмов, а его мысли объясняются таинственным заболеванием как тела, так и духа. Предлагаемая вниманию читателей книга снимает это устоявшееся мнение и раскрывает философию не только Ницше, но и Маркса, Штирнера и Кьеркегора как закономерный продукт развития интенций немецкой классической философии. Автор намекает на философский радикализм немцев, которые будучи экономными и упорядоченными в сфере практического поведения, оказываются не только сентиментальными в чувствах, но и безудержными в критике предрассудков.
По Лёвиту, истоком немецкой философии является протестантизм, смысл, которого следует воспринять изначально как обозначение протеста против сначала католических догматов, а потом и против остальных и прежде всего социальных устоев. Теоретическим выражением протестантизма была «критическая критика», ставшая в Германии своеобразной сублимацией революционных настроений, охвативших Европу. Такие почти забытые ныне мыслители как Штраус, Бауэр, Штирнер и Руге и другие представители гегельянских школ во многом определяли мировоззрение людей 19 в. Это выразилось в разрушительной критике религиозных верований, моральных убеждений, национальных чувств и государственных добродетелей, на воспитание которых были потрачены огромные усилия и которые оказались мгновенно уничтоженными непримиримо честными, отчаянно смелыми одинокими мыслителями, мужественно выставившими на свет истины все то, что произрастало на почве совместной жизни людей. Можно говорить о том, что честность и справедливость- это несомненно высокие нравственные качества, важные в некоторых сферах жизни - поставили перед судом разума не только религию, но и саму философию. Книга Лёвита предупреждает против своего рода морального бешенства, которое оказало самое разрушительное воздействие на европейскую, да и не только на нее, историю. Он следует ницшевскому «генеалогическому» методу анализа честности как морального и рационального качества и обнаруживает, что они опасны, если ими пользоваться неумело или неуместно. Лёвит исследует отрезок витиеватой истории борьбы за реализацию морали, которая начинается с восстания Лютера за «очеловечивание» христианства, которая своим пиком имеет философию Гегеля, балансировавшего на грани разума и веры, а концом — разрушительную идеологию Штирнера, Маркса и Ницше, не оставивших камня на камне ни от христианства, ни от гуманности, ни от моральности.
Книга Лёвита наводит на размышления о роли и месте философии в жизни общества. Прежде всего возникает вопрос об ответственности: не является ли трагический период европейской истории продуктом философской критики? В ХХ веке Маркс и Ницше были объявлены основоположниками идеологий двух самых могущественных в европейской истории политических режимов, война которых привела к чудовищным жертвам. Кажется, что именно они должны предстать перед судом международной комиссии, расследующей преступления против человечности. Но можно ли обвинять философию за то, что она делает то, что должна делать - а именно раскрывать ложь и опровергать заблуждения. И все-таки это не снимает с нее вины. Взлелеянный мыслителями универсализм поддерживался обществом, которое захотело построить свою жизнь исключительно на рациональных основаниях, отринуть все архраичное, иррациональное, неэкономное. Ведь в чувствах так много темного, а разум дает свет. И вообще дело можно изобразить так, что мыслители, как и поэты, выражают лишь то, предчувствие чего уже есть у всех. И поэтому речь должна идти о коллективной вине и коллективной ответственности.
Книга Лёвита, написанная красивым, ясным и доходчивым языком, — это своего рода реквием тотальному рационализму, ужасным последствием которого стали мировые войны. Но нельзя забывать о том, рационализм пришел на смену средневековому мировоззрению, в котором были и темные стороны, в частности, эксцессы, порождаемые религиозным фанатизмом. По своему рациональный протест Лютера, продиктованный верой в разум и в моральное совершенство человека, поставил на место фанатичной религиозной веры и бюрократических институтов церкви моральность и гуманность. Безусловно, это было большим достижением. Упрекая эпоху разум за разработку новейших видов вооружения, нельзя забывать о том, что в эпохи религиозного чувства тоже велись фанатические войны. Во всяком случае как общественная, так и частная жизнь людей оказывается более комфортабельной именно тогда, когда она строится на рациональных началах.
В книге Лёвита на широком историческом материале весьма подробно и впечатляюще раскрывается прорастание на немецкой культурной почве идей, сформулированных Ницше в форме таких «слоганов», как «воля к власти», «вечное возвращение», «смерть Бога», «сверхчеловек». Она знакомит нас с философами 19 века, имена которых когда-то были весьма звучными, однако оказались напрочь забытыми и почти не представленными в современных курсах по истории философии. И это тоже особая тема для размышлений историка философии: в чем причина такой исторической несправедливости, почему философы, работающие на «вечность», плохо понимаются своими современниками, и наоборот, - властители дум предков оказываются напрочь забытыми потомками? Возможно, весьма плодотворным для понимания такой исторической закономерности является предложенное К. Лёвитом различие духа времени или вечности и духа эпохи. Если дух времени — это нечто трансисторическое, то дух эпохи выражает интересы и умонастроения людей, поступки которых определяются посылом бытия — судьбой, зовом крови и почвы, а не трансцендентальной рефлексией.
Вершиной философии разума является гегелевская диалектика, в которой, как показывает Лёвит, был найден своеобразный баланс между разнонаправленными силами исторического прогресса и прежде всего между чувствами, которые связывают людей, и разумом, который приватизирован новоевропейским индивидом. Между тем сочинения Гегеля не оказали непосредственного влияния на его современников. До национальной интеллигенции его идеи донесли ученики и последователи -- талантливые культуртрегеры. Тщательный анализ Лёвитом плеяды постгегельянских мыслителей обнаруживает плотную сеть зависимостей, нити и ячеи которой определяли как ходы мышления, так и стилистические жесты Ницше. Хотя и краткая, но все-таки достаточно основательная и впечатляющая историческая реконструкция трудов забытых философов 19 века обнаруживает сложность духовной жизни эпохи, которая воспринимается нами как промышленный век, в котором в основном господствовала позитивная философия. На самом деле за фасадом грандиозных научно-технических и социальных проектов, крылись глубинные сомнения в таких основаниях культуры, какими являются идеи разума и морали. То, о чем так много говорится сегодня, продумывалось ранее. Те кого мы воспринимаем как идеологов века промышленных и социальных преобразований не были наивными детьми, а вполне отдавали себе отчет, относительно цены, которую придется заплатить за прогресс. И все-таки почему-то эти сомнения подавлялись, часто в порядке самоцензуры.
Ницше озвучил эти сомнения и именно поэтому его читали и проклинали одновременно. Хуже того, сами его сочинения были «прорежены» и превращены, говоря языком Фуко, в «диспозитивы власти». Считающееся главным сочинение Ницше, название которого используется для именования его философии, на самом деле является продуктом фальсификации.
При этом возникает вопрос, о том, почему же Ницше прочитывался на фашистский манер, почему очень немногие воспринимали его идеи как предостережение против опасных тенденций прикрытия зла лозунгами гуманизма и пацифизма. Это важно понять, потому, что и наш голос, голос современных философов тонет в оглушающем шуме работы больших пропагандистских машин. Если учесть изменение техники и медиумов власти, то судьба философии в современном мире оказывается еще более плачевной, чем раньше, когда власть выступала в своем неприкрытом и неприглядном виде, когда она пользовалась для оправдания своих интересов идеологией. В сущности критиковать идеологию как форму ложного сознания гораздо легче, чем современную мифологию рекламы и масс-медиа, прибегающих не столько к интеллектуальным значениям, сколько к аудио-визуальным знакам, воздействующим на поведение людей непосредственно магическим образом, минуя рефлексию. Но именно применительно к этой «магнетопатической» форме коммуникации стилистика Ницше оказывается весьма эффективной. Более образная и эмоциональная, прибегающая к телесно-чувственным метафорам проза Ницше обращена не столько на критическую аргументацию и анализ тех или иных морально-философских учений, сколько на дискредитацию поз, жестов и личин их создателей и потребителей. Вместо критики теорий осуществляется нечто вроде медицинского диагностирования их авторов. Этот распространенный прием у Ницше не сводится к аргументу «сам дурак». Он показывает как благородные и возвышенные теории иссушают и до неузнаваемости уродуют телесные в том числе и внутренние органы их создателей. Расплатой за предательство жизни оказывается здоровье. Эта своеобразная антиреклама оказывается особенно действенной против таких знаков, которые обладают собственным обаянием и воздействуют своим видом помимо интеллигибельного значения.
В свете нашего опыта восприятия масс медиа, которые не просто информируют о тех или иных конкретных изделиях, а навязывают вполне определенный образ жизни, можно лучше понять устойчивое обаяние некоторых идей. Вера в Бога, человеколюбие, гуманизм, пацифизм, права человека, цивилизационный процесс — все это бесспорные привлекательные ценности. Напротив, говорить и тем более совершать зло — это нечто ужасное, несущее погибель. Между тем бесстрастная статистика показывает, что вреда от гуманистических акций часто не меньше, а даже больше, чем от суровых действий, связанных с запретами, нарушениями прав человека и насилием. Редко кто решается признать эту суровую правду и восстать против кисло-молочного гуманизма. Когда жизнь подводит нас к последней черте, раскрывается невыносимо жестокая правда бытия к смерти, которая не признает никаких прав человека и отнимает все, что есть. Но и в такие моменты, как показывает «Смерть Ивана Ильича» мы не прозреваем, а, жалобно глядя в глаза окружающих, просим о помощи, которой они, даже если бы и хотели, не в силах нам дать. Кьеркегор в силу своей «смертельной болезни» - острого переживания одиночества, а Ницше по причине физической боли, доставлявшей ему ужасные муки, попытались основать один религию, а другой философию на началах, в число которых не входили гуманизм и моральность, истина и справедливость: Бог или жизнь могут дать или потребовать такого, что не вмещается в рамки расхожих представлений о воздаянии. Так жизнь и вера — это несомненно дар нежданный и негаданный и даже тот или то, кто или что подарили нам это, сами не знают последствий этого дара. К верующему может прийти ангел и сообщить, что бог требует от него ужасную жертву, например, единственного сына. Но и тому, кто просто родился и живет без трансцендентной веры и цели, вскоре предстоит, например, служить в армии и тем самым воевать и даже быть убитым за Родину. Просто жизнь и без войны не менее сурова — семейные драмы, служебные конфликты, болезни, старость — всему этому трудно найти какой-либо смысл. Но осознание, что жизнь не имеет смысла и цели — это прямой путь к нигилизму, бациллы которого еще хуже, чем пребывающий в сладкой дремоте гуманизм, разрушают общество и ведут к вырождению людей.
Есть ли выход из этой ситуации и если есть, то какой? Нередко философию Ницше, как и романы Де Сада, понимают как призыв к безумному пиру во время чумы. Действительно, если ужасный конец неотвратим, то следует хладнокровно и эгоистично, не думая о страдании других, воспользоваться оставшимися возможностями для получения удовольствия. Но зачем тогда писать толстые книги рассчитанные на то, что их будут читать другие. Книги — письма к далекому и незнакомому другу, написанные с надеждой на его приручение. Моральный скептик не станет писать книг и никакими силами его нельзя оторвать от пива и пирогов, если именно в них он находит высшее удовольствие. Так называемые философы зла, пишущие книги, совершают нечто парадоксальное: вместо того, чтобы творить насилие, поставить свою жизнь на карту, вступить в игру с другой силой и тем самым победить или погибнуть, они пишут книги и тем самым поддерживают то, что должны отвергать. Но они пишут странные книги, которые не признаются гуманными и даже объявляются «сатанинскими стихами», за которые приходится расплачиваться жизнью. Ницше хотел доказать право человека говорить и даже совершать зло. За криками осуждения его произведений как-то забылось, что главное — это не некое сатанинское (изначальное или метафизическое) зло. Стратегии зла многообразны, настолько многообразны, что даже самые мягкие добряки не могут его избежать. Скорее всего Ницше искал, так сказать, наименьшее зло.
Было бы слишком упрощенным выводить философскую концепцию из той или иной исторической ситуации или телесного самочувствия. История и жизнь — источники постоянных страданий, однако люди упорно делятся на оптимистов и пессимистов и при этом далеко не все из них известны как авторы соответствующих этим умонастроениям философских доктрин. Без учета собственной логики философского дискурса невозможно составить адекватное представление о том, как развиваются философские теории. Книга К. Лёвита интересна как раз тем, что в ней соблюдается баланс внешних — социокультурных влияний и собственных внутренних стимулов развития философского знания. В ней прослеживается как от Гегеля к Ницше происходила трансформация тех или иных представлений о человеке и боге, об истории и обществе. Рассмотрим поподробнее две главные темы, обсуждаемые в книге Лёвита: христианство и гуманизм.
Смерть Бога
Образ человека складывается по отношению к Христу, жизнь которого и выступает примером для подражания. Поэтому не удивительно, что вслед за упадком христианства наступает кризис гуманности. Лёвит считает, что исходным пунктом критики христианской религии был Гегель, а ее завершителем Ницше. Молодой Гегель противопоставлял «Новый Завет» иудейской религии Закона и в этом чувствуется критическое отношение к буржуазно правовому государству. Позитивный закон, добиваясь формальной справедливости, разрушает человеческие связи, основанные на любви и прощении. Как протестантски ориентированный мыслитель Гегель стремился соединить человека с Богом и преодолеть в философской форме «позитивность» религии, выражающуюся во все большей бюрократизации церкви. Однако, как считает Лёвит, на деле это привело к решительной деструкции христианской философии и христианской религии.
Критические последователи Гегеля обвиняли его и как скрытого теолога в философии и как тайного атеиста в религии. Если Гегель поднимает религиозное представление до понятия, то Штраус сводит его к мифу. Фейербах же интерпретирует христианство как философскую антропологию. Религиозная критика Руге развивалась по пути, проложенному Фейербахом, и состояла в «гуманизации» религии. Снятие теологической сущности религии происходит у Фейербаха через возвращение трансцендентного чувства как основы религии и в этом он солидарен со Шлейермахером. Самый общий тезис Фейербаха состоит в том, что тайной теологии является антропология. Религия есть ни что иное как выражение, «опредмечивание» основных потребностей человека, форма его самосознания. Отсюда Фейербах приветствует позитивное развитие, состоящее в том, что человечество отрицает Бога и утверждает самого себя. Таким образом, исторический распад христианства казался Фейербаху неизбежным: как на место молитвы пришел труд, место Христа должен занять человек. Вместе с тем, устраняя или, точнее, меняя субъекта религиозных предикатов мудрости, гуманности, совершенства, доброты, моральности и т.п., Фейербах ни в коем случае не хотел их устранить. Отсюда он получил прозвище «набожного атеиста».
На своих современников, даже таких как Маркс и Штирнер, наибольшее влияние произвел Бауэр, воздействие работ которого Лёвит сравнивает с попаданием молнии в пороховую бочку. Однако когда пафос угас, его работы стали восприниматься как некие «фантазии» или «пророчества» и были вскоре забыты. Между тем в свете новых историко религиозных данных они кажутся удивительно современными. Более того, Бауэра можно считать своеобразным ритором, подготовившем философскую критику в стиле Ницше. Цитаты, приводимые Лёвитом, свидетельствуют о широких возможностях немецкого языка, которые были развиты и усовершенствованы Ницше. Бауэр буторажил читателей метафорами, стилями и даже средствами полиграфии, при этом он не только критиковал Гегеля, разоблачая его как атеиста, присвоившего человеческому самосознанию божественные атрибуты, но и предостерегал против своих собственных теологических сочинений. Он считает религию продуктом художественного творчества — мифом и поэтому, в отличие от Штрауса и других научных критиков религии, не обеспокоен тем, как возможны чудеса, совершенные Христом. В своей критике христианства, как «всемирного несчастья» он предвосхитил «Генеалогию морали» Ницше: христианство зафиксировало человека в его страданиях и означало полную самоутрату, отчуждение, которое может быть снято только в результате расхристианизации.
Политико-коммуникативное преодоление христианства.
Маркс и Энгельс выступили в работе «Святое семейство» против Бауэра с позиций фейербаховского «реального гуманизма». Для них он остается «теологом» и «гегельянцем»: будучи критичен в мысли он некритичен в политике. «Абсолютное самосознание» Бауэра и «единственный» Штирнера есть ни что иное как некритическое признание буржуазного миропонимания. Настоящая критика религии состоит в понимании ее как идеологии и в изменении условий, которые ее порождают. Фейербах считал религиозный мир скорлупой вокруг земного ядра человеческого мира. Маркс поставил вопрос о том, как образуется эта надстройка. Он не только указал на земное происхождение религии, но и вывел возможность и необходимость религии из земных бедствий и оппозиций. Религия, таким образом, — это не «опредмечивание», а «овеществление», т.е. самоотчуждение человека. Вместе с тем, переводя борьбу против потусторонней религии в плоскость борьбы с извращенным «бессердечным миром», Маркс не пускался в авантюру политической борьбы непосредственно с религией, она должна «отмереть» в результате социальных преобразований.
Радикализм Штирнера и Кьеркегора имеет иные корни, прорастающие на почве крайнего одиночества человека. Для Кьеркегора было ясно, что упразднение теологии явилось следствием гегелевской интерпретации религии как момента развития духа. Он однако не следует за его учениками, а возвращается к Лютеру, заслугу которого видит в развитии «личного отношения», «субъективности». Перед ним таким образом встает парадоксальная задача сохранить личную веру и избежать сведения религии к антропологии. Он решает этот парадокс признанием того, что Бог есть истина, но она наличествует только для того, кто существует в вере. Бог существует не в мышлении, а в экзистенции человека. Для экзистирующего человека высшей истиной является неуверенность как в существовании Бога, так и в самой вере в Него. В этом и состоит парадокс веры.
Кьеркегор одним из первых задумался над спецификой религиозной коммуникации.
Церковь строится на такой модели сообщения, которая отличается от обычной. В ней роль первичного автора выполняет Бог, который посылает свое послание на землю не через пророков или мессию, а с самым надежным посыльным, на роль которого он выбирает своего сына. Последний передает сообщение своим ученикам, которые лично вручают его преданным им последователям. Верность Христу — это личная преданность учителю. Послание передается из рук в руки без каких-либо добавлений, которые всегда расцениваются как искажения. Отсюда западная церковь более рьяно отстаивала свою независимость и даже претендовала на приоритет перед императором. В противоположность цезарепапизму восточной церкви западная церковь склонялась к папецезаризму, согласно которому непосредственным получателем божественного послания была церковь. Хотя Рим был объявлен христиананами «вавилонской блудницей», римское право и бюрократия существенно повлияли на эволюцию церкви. Если первоначально церковь понималась как «экклезия», руководителями которой становились пророки, богодухновенные люди, то постепенно верх взяли епископы, поначалу заведовавшие имуществом общины. Римская церковь приняла догмат о непогрешимости. Папа считался единственным представителем бога, который мог слать послания европейцам, а также обращать на путь истинной веры все народы, пребывавшие в языческих заблуждениях. Монополия на послания предполагала воспитание специального слоя, к представителям которого относилось требование целибата, чтобы они могли служить чистыми посредниками между папой и паствой. Таким образом папская революция привела к неожиданным последствиям. С телекоммуникативной точки зрения христианство выполняло задачу построения единого информационного пространства, располагавшегося по поверхности всей земли, способного доставлять послания далеким и незнакомым адресатам. Именно претензия на единое коммуникативное пространство определила значительные успехи римско-католической церкви по сравнению с восточно-византийской пребывавшей в какой-то зимней спячке.
Вместе с тем этот видимый политический успех привел к вырождению самой сути первоначального христианства. Отсюда Кьекегор возвращается к «косвенному» сообщению. Поскольку то, что в христианстве является истиной, есть чудо, то эта истина не может сообщаться как научная. Она должна быть изложена так, чтобы другой был приведен к своему собственному личному отношению к сообщенному, а не к медиуму. Главным становится «обращение внимания», которое предполагает самостоятельное усвоение. Вместе с тем христианская коммуникация не сводится к наставничеству. Истина — это откровение и поэтому учитель должен быть свидетелем. Сам Кьеркегор предпринял атаку на датскую церковь, считая что ее представители не имеют права считаться свидетелями истины, поскольку они не отстаивают истину, обладая апостольским авторитетом. Но и критическую позицию Фейербаха и других он считал недостаточной. Их критика является «внешней», она осуществляется «со стороны» и не оказывает эффекта на тех, кто пребывает внутри ложно понятого христианства. Ортодоксы борются за сохранение видимости того, что общество является христианским. То, что Бога нет, и для них не является секретом. Они сохраняют веру, как опору существующего порядка. Поэтому необходима критика не извне, а изнутри общины. Но такая позиция тоже является парадоксальной: как, располагаясь внутри христианства, критиковать церковь? Отсюда относительно его отношения к христианству ведутся споры и встречаются крайние оценки. Одни считают его еретиком, а другие, напротив, настоящим христианином, высмеивающим бога священников и старушек и восстанавливающим подлинный смысл жертвы Христа. Пожалуй, Лёвит дает слишком легкое решение этого спора. Он считает христианство Кьеркегора весьма двусмысленным и выводит апологию христианского страдания из «врожденной меланхолии» мыслителя. Точно также позже станут отмахиваться от Ницшевой критики христианской морали.
Критика Ницше христианской морали
Лёвит отмечает, что критика христианства со стороны Ницше не является чем-то неожиданным. Она опирается на предшественников и кроме того вызвана личным осознанием того, что оно перестало быть верой и превратилось в христианскую культуру и мораль. «Смерть Бога» беспокоила Ницше из за нигилистических последствий.(Если Бога нет, то все позволено, - утверждал Достоевский, которого внимательно читал Ницше) Все знают, что Бога нет, но продолжают лгать, самые наглые и беззастенчивые люди идут к причастию. Нехристианским же считается все связанное с властью, ответственностью, честью (Например, Л. Толстой осуждал чиновников, военных, ученых и даже художников за то, что они не опираются на христианские заповеди, а сопротивляются злу силою). Отсюда атеизм Ницше во многом вызван стремлением содействовать кризису христианства с тем, чтобы преодолеть нигилизм. Негативное отношение к немецкой философии также вызвано тем обстоятельством, что она оставалась «коварной теологией», наполовину вобравшей в себя научный атеизм, наполовину — теологию.
Имморализм Ницше Лёвит расценивал как продолжение христианско-протестантской традиции: последний плод на древе христианской морали, которая, если она честна, приводит к самоотрицанию Сколь мало Ницше перерос христианство свидетельствует, по мнению Лёвита, его учение о вечном возвращении, которое характеризуется как очевидный заменитель христианской религии и одновременно, подобно Кьеркегорову отчаянию, - парадоксальная попытка прийти от ничто к нечто.
Думается, что эта оценка слишком легковесна. Рассмотрим аргументацию Ницше более внимательно. Обращаясь к непосредственно к европейско-христианской морали Ницше спрашивал: «Какие преимущества представляла христианская моральная гипотеза? И отвечал: она мыслится как противодействие практическому и теоретическому нигилизму. Нигилизм пугает утверждением, что все мыслимое и сделанное не имеет никакого смысла и ценности. Христианская гипотеза морали противодействует нигилизму тем, что противопоставляет ему «абсолютные ценности». Бог утверждается как творец людей и прочих созданий, для которого все равны. Этим, по Ницше, мир вместе с его недостатками обрел «смысл», а человек стал считать «важнейшим адекватным знанием», знание об абсолютной ценности людей». Тем самым христианская гипотеза морали помогает им в жизни. «Она охраняла человека от презрения к себе, как к человеку, от восстания с его стороны на жизнь, от отчаяния в познании» (1).
Ницше пишет о «самоотрицании (самоуничтожении) морали». Её корыстное рассмотрение вещей и теперь постижение этой вошедшей в плоть и кровь «изолганности» моральной гипотезы выдает её подлинную «истинность» и все более резко проявляет её враждебность к правдивости, которую христианство само воспитывало в течении почти двух тысячелетий. К теоретическому самопреодолению христианской моральной гипотезы примыкает практическое: эта гипотеза не только не получает теоретического оправдания как истинная, но и оказывается совершенно бесполезной и излишней для практических последствий: её направленность на борьбу со страданиями содействует постепенно уменьшению страданий. По Ницше, жизнь в современной Европе перестала быть неупорядоченной, случайной и бессмысленной. От этого уменьшается потребность в дисциплине, сильным средством которой и выступала моральная гипотеза. Бог оказывается слишком экстремальной гипотезой.
Реализация потребности в высшем смысле и цели в ходе практического использования морали не удалась. В Европе упадок моральной гипотезы христианства связан с ростом доверия к знанию: «Интерпретация идет к основаниям; но чтобы стать значимыми они предполагают как будто нет никакого смысла в бытии, как будто все бессмысленно.» (2) Что все бессмысленно — это, по Ницше, «парализующая мысль». Не находить больше никакого смысла, а только верить. Это бессмыслие и обнаруживает характер нашего современного нигилизма, выражающегося в знании о том, что смысл не может быть найден. Познавательный нигилизм, таким образом, загораживает свой собственный выход, потому что выход из него — открытие смысла, уже подвергнут нигилистическому отрицанию.
Ницше видит только один путь борьбы с нигилизмом: принять его. Нигилизм, которому удалось сделаться неизбежным, нельзя преодолеть отрицанием или отказом, но только утверждением. Только утверждая нигилизм, проходя все его ступени, можно подняться над ним и только пройдя этот путь, можно достичь его преодоления. Ницше продумывал парализующую мысль в её внушающий ужас форме: Существование, как оно есть, без смысла и цели, но неизбежно возвращающееся, без финала с «Ничто»: вечное возвращение. Мысль о «вечном возвращении подобного» выступает, таким образом, как интенсификация нигилизма и одновременно как его противоядие. Мыслить бессмысленное существование, как вечно возвращающееся — это такая экстремальная форма нигилизма, которая уже не допускает чего либо «внешнего», которое можно помыслить. Такой нигилизм, полагал Ницше, стал бы «самой научной из всех возможных гипотез». Он даже искал естественнонаучное подтверждение и обоснование своего учения о вечном возвращении; как естественнонаучную теорию он хотел предложить её своей эпохе.
Остается вопрос: способен кто-либо мыслить и жить поверх границ своей морали? Этот вопрос для Ницше остается даже в отношении самого себя в высшей степени спорным. Он может привести лишь два примера жизни по ту сторону аффективно ограниченной морали: Иисус из Назарета и своего любимого бога Диониса. Но нуждались ли они в мысли о вечном возвращении подобного. Не является ли она для них, перешедших ограниченные рамки морали, излишней? Есть ли какая-то нужда не только в морали, но и в мысли о вечном возвращении. Фактически Ницше снова поднимает здесь ту же саму проблему, что и в «Генеалогии морали». Он пытается противопоставить христианской моральной гипотезе идею не о вечном возвращении, а о воле-к-власти.
Ницше ведет речь о том, что мораль противостоит жизни. Она возникла из страха перед сильными и направлена против воли к власти. Бессилие, которое учит слабых постоянно противодействовать осуществлению воли к власти, «глубоко ненавидеть и презирать» её, становится источником «постоянной озлобленности.» Их страдание — это страдание от того, что они не могут уравняться с сильными. Оно питается моральным презрением к силе и сильным, которыми они хотели бы управлять. Смысл их морали в том, чтобы если и не уничтожить власть, то по меньшей мере выработать по отношению к ней презрение. Принимая мораль презрения к сильным, они обнаруживают её несостоятельность и тем самым вступают в «стадию безнадежного отчаяния». Так обнаруживается, что «воля к морали» есть ни что иное как «воля к власти» и поэтому нет оснований отрицать волю к власти сильных и ставить над ними свою мораль. «Мораль, — обобщает Ницше эти мысли, — используется как средство охранения неудачников и обездоленных от нигилизма: Положим, если вера в эту мораль погибнет, то неудачники утратят свое утешение, и сами погибнут». (3) Нигилизм вызвал переоценку христианской гипотезы морали. Это связано с её гибелью. Поэтому он презентируется как «направленность к погибели», симптомами которого являются «саморазрушение» путем самовивисекции, опьянения, отравления, романтики, и прежде всего инстинктивным побуждение к поступкам вызывающим смертельную вражду со стороны имеющих власть. «Инстинкт саморазрушения», «воля к ничто» вырабатывает, как подметил своим резким аналитическим взглядом Ницше, разрушение по другому. Неудачники тоже хотят власти, принуждая властвующих быть их палачами.
Любопытно, что сильные, которые способны выжить в условиях кризиса, охарактеризованы Ницше совсем не так, как их обычно понимают. «Сильнейшие» могут стать во время кризиса любых порядком «самыми умеренными, такими, которые не нуждаются в крайних догматах веры, такими, которые не только допускают добрую волю случайности, бессмысленности, но и любят её, такими, которые умеют размышлять о человеке, значительно ограничивая его ценность, но не становясь однако от этого ни приниженными, ни слабыми». (4) Человек представляется здесь как спокой
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Проблема сверхчеловека в русской философии
Ольшанский Д.А., Философский факультет УрГУИтак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь всё новое Второе послание к Коринф
- Сексуальная эмансипация женщин и проблема другого
- В поисках идентичности
- Современный этап развития теории экспертных оценок
- Образование как социальный феномен
- Социологический анализ сущности общественного мнения
- Методы социологического исследования: общий обзор
Девятко И. Ф.В этой работе рассматриваются основные методы социологического исследования—эксперимент, метод включенного наблюдения, б
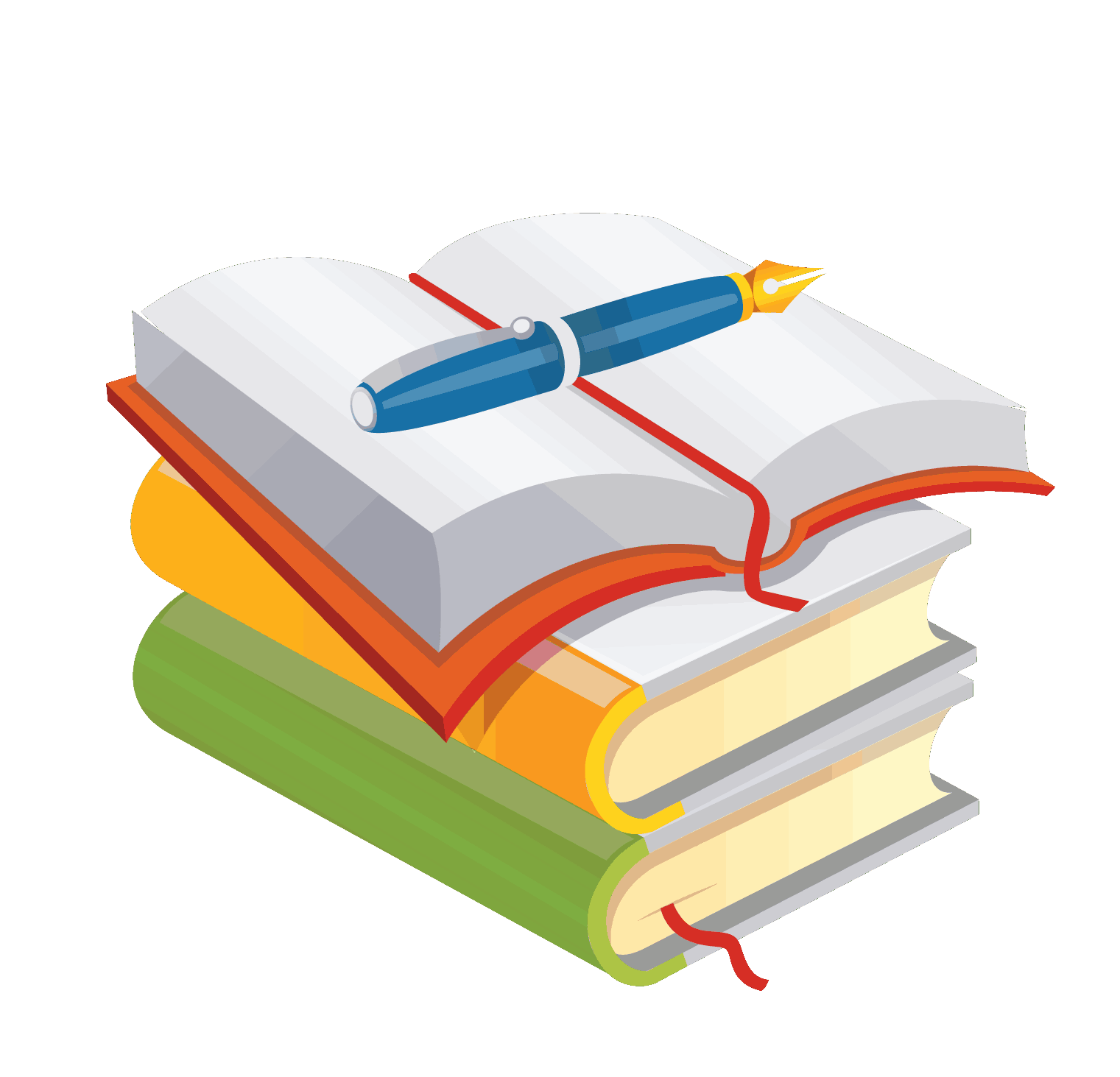 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.