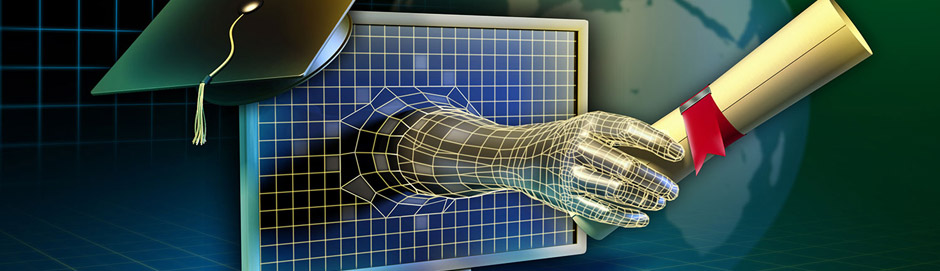Николай Гумилёв
Александрова Т. Л.
"Он был бы на своем месте в средние века. Он опоздал родиться лет на четыреста! Настоящий паладин, живший миражами великих подвигов", – так сказал о Гумилеве писатель и журналист Василий Иванович Немирович-Данченко, сам не раз бывавший на полях сражений и повидавший в жизни немало героев (Немирович-Данченко В.И. Рыцарь на час (из воспоминаний о Гумилеве). – цит. по кн.: Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М. 1990. С. 229. – Далее ВГ). Действительно, казалось, не было в среде предреволюционной творческой интеллигенции человека, более чуждого своему веку.
"Он был совершенно не модный человек и несомненно чувствовал себя лучше где-нибудь в Эритрее на коне, чем в автомобиле в Париже или в трамвае в Петербурге", – писал о нем немецкий поэт, переводчик русских поэтов, вращавшийся в кругах акмеистов, Иоганнес фон Гюнтер. (Под восточным ветром. – ВГ, С. 134). Гумилев и сам это чувствовал:
Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.
Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам –
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам…
"В обществе товарищей республиканцев, демократов и социалистов он, без страха за свою репутацию, заявлял себя монархистом <…>. В обществе товарищей атеистов и вольнодумцев, не смущаясь насмешливыми улыбками, крестился на церкви и носил на груди большой крест-тельник (Амфитеатров А. Н С. Гумилев. – ВГ. С. 243). И что сказать о человеке, который, живя в эпоху революций, умудрялся их "не замечать"?
Он всегда шел по линии наибольшего сопротивления, многих раздражая своей прямолинейностью, самоуверенностью, своей увлеченностью экзотикой, своим декларируемым православием – всем образом своего бытия. В нем хотели видеть позера и пустослова – потому что кругом было множество позеров и пустословов. Правда, внешнее его поведение давало некоторый повод к такому недоверию. В самом деле, всем ли с первого взгляда понравится человек, который разгуливает по Петербургу с вечной папиросой в зубах и в леопардовой шубе нараспашку – настолько нараспашку, что шуба греет только спину, – и ходит по середине мостовой – дескать, так его шуба никому не мешает. И про леопарда всем говорит, что собственноручно убил его в Африке. Ясное дело: оригинальничает, показать себя хочет. Да кто ж не хочет – в 1913 году?! Крестится на церкви? А сам, между прочим, поведения отнюдь не монашеского. Стрелялся на дуэли с поэтом Волошиным из-за поэтессы Черубины де Габриак. Собственную молодую жену-поэтессу бросает дома тосковать, а сам уезжает куда-то на край света, и как там проводит время, догадаться нетрудно: он и в Петербурге ни одной красивой женщины не пропустит.
…Я люблю – как араб в пустыне
Припадает к воде и пьет,
А не рыцарем на картине,
Что на звезды смотрит и ждет…
Все это правда. Но Гумилев и не пытался казаться в своих стихах лучше, чем был на самом деле. Он был удивительно правдив. "Не хочу выдавать читателю векселя, по которым расплачиваться буду не я", – говорил он. Тогда, в начале 10-х гг., осуждавшие его еще не знали, что он действительно расплатится по всем векселям. Но вскоре Гумилев был "реабилитирован": сперва как герой, затем – как поэт и как христианин.
С началом войны 1914 г. он, единственный из своего окружения ушел на войну, участвовал в боевых действиях и дважды был награжден орденом мужества – Георгиевским крестом.
В поэзии он заявлял себя "мастером" – в нем хотели видеть ремесленника, "мастерившего" стихи. Но только после его трагической гибели стало постепенно открываться, что этот "мастер" на самом деле был пророком, смотревшим дальше, чем признанные "пророки" его времени. И оказалось, что все сказанное им в стихах о самом себе, все, что при жизни казалось претенциозным и надуманным, тоже было подлинной правдой.
И главной правдой было то, что он всегда помнил о Божием Суде. Далеко не во всем будучи образцом для подражания, он готов был держать ответ перед Богом по всей строгости, ставя себя в ряд с разбойником, мытарем и блудницей.
…И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.
Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: "Вставай". ("Я и вы")
Гибель в большевистских застенках обеспечила Гумилеву скорое признание русской эмиграции. Но в этом признании была значительная доля политики: это был удобный случай с пафосом говорить о злодействе "певцеубийц" большевиков. По той же причине в Советской России имя Гумилева было непроизносимо. Этот далекий от политики поэт был под полным, тотальным и строжайшим запретом вплоть до конца 80-х гг. Но удивительно, как, вернувшись в отечество через шестьдесят лет после смерти, он мгновенно нашел "своих" читателей – уже совершенно вне связи с "бранью дней своих". Удивительно, и – закономерно, потому что безотносительно ко всякой идеологии мужественная цельность этого сурового учителя поэзии, неисправимого романтика, рыцаря и героя, доброго, искреннего, верующего человека – чистейшей воды "пассионария", если пользоваться терминологией его сына, известного историка Льва Николаевича Гумилева, – как воздух необходима нашему задыхающемуся в "субпассионарности", потребительстве, или, говоря по-старому, в обывательщине и мещанстве, времени.
… Наше бремя – тяжелое бремя:
Труд зловещий дала нам судьба,
Чтоб прославить на краткое время,
Нет, не нас, только наши гроба…
…Но быть может, подумают внуки,
Как орлята, тоскуя в гнезде:
"Где теперь эти крепкие руки,
Эти души горящие где?" ("Родос")
Биография
По отцовской линии корни Николая Гумилева уходили в духовное сословие – о чем свидетельствует сама фамилия, типично семинарская: от латинского humilis – что в классической латыни значит "низкий", в средневековой – "смиренный". "Discite a Me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris" – "Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим" (Мф. 11, 29). В детстве и юности эти ассоциации будущего поэта раздражали. Когда в гимназии учителя, следуя логике латинских правил, ставили в его фамилии ударение на первый слог: Гýмилев, – возмущенный таким "принижением", мальчик не вставал и не откликался. Но в фамилии была своя правда: в конечном итоге оказалось, что этот болезненно самолюбивый и гордый перед людьми человек перед Богом действительно имел "сердце сокрушенно и смиренно".
Николай Степанович Гумилев родился 3 апреля 1886 г. в городе Кронштадте, в семье корабельного врача. Он был вторым сыном во втором браке отца. Рано овдовев в первом браке и оставшись один с дочерью Александрой, Степан Яковлевич Гумилев женился на Анне Ивановне Львовой, – дворянке Тверской губернии – женщине доброй, спокойной и твердой характером. Первым родился сын Дмитрий. Мать мечтала, чтобы второй была девочка, и все "приданое" пошила в розовых тонах. А появился на свет мальчик – будущий поэт.
Его детство окружено предзнаменованиями. В ночь его рождения на море была буря, и старая нянька сказала: "У Колечки будет бурная жизнь". Значимо было и место рождения. "Гумилев родился в Кронштадте <…>, – писал близко знавший его поэт Николай Оцуп. – Раннее детство провел в Царском Селе. Родился в крепости, охраняющей дальнобойными пушками доступ с моря в город Петра. Для будущего мореплавателя и солдата нет ли здесь предзнаменования? А Царское Село, город муз, город Пушкина и Анненского, не это ли идеальное место для будущего поэта" (Оцуп Н. Николай Степанович Гумилев. – ВГ. С. 182). В Царском Селе Гумилев поступил в гимназию, но затем ему довелось попутешествовать. Ему было одиннадцать лет, когда в связи со службой отца семья переехала в Железноводск, потом – в Тифлис. Именно в Тифлисе шестнадцатилетний гимназист напечатал свое первое стихотворение: "Я в лес бежал из городов…" Только в 1903 г. семья вновь вернулась на родной север, в Царское Село.
Семья Гумилевых была патриархальной. "Дети воспитывались в строгих принципах православной религии, – вспоминала его невестка (жена старшего брата). – Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был религиозным и таким же остался до конца своих дней, – глубоко верующим христианином. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. Но по характеру он был скрытный и не любил об этом говорить. По натуре своей Коля был добрый, щедрый, но застенчивый, не любил высказывать свои чувства и старался всегда скрывать свои хорошие поступки" (Гумилева А.А. Николай Степанович Гумилев – ВГ, С. 113). По ее словам, в раннем детстве Коля был вялый, тихий, задумчивый ребенок, любил слушать сказки. Это совпадает с автопортретом поэта, поведавшего о своей духовной эволюции в стихотворении "Память".
Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.
Память, ты рукою великанши,
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня…
Несколько таких "я" сменилось в теле поэта за его недолгий век:
…Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.
Дерево, да рыжая собака –
Вот кого он взял себе в друзья.
Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я…
Как заметил один из его приятелей, из стихотворения видно, что уже в детстве поэт был одинок. Внутренне одиноким он оставался до конца жизни. Но правда и то, что узнать в "колдовском ребенке" будущего Гумилева довольно трудно. Воспоминания чуть более поздних лет пестрят рассказами о его невероятном самолюбии. "…Семилетний Гумилев упал в обморок от того, что другой мальчик обогнал его, состязаясь в беге, – рассказывал друживший с ним поэт Георгий Иванов. – Одиннадцати лет он покушался на самоубийство: неловко сел на лошадь – домашние и гости видели это и смеялись" (Иванов Г. В. Петербургские зимы. – в кн.: Иванов Г.В. Собр. соч. в 4-х тт. М., 1994. Т. 3. С. 170). Еще один случай, который рассказывает невестка: "Когда старшему брату было десять лет, а младшему восемь, старший брат вырос из своего пальто, и мать решила перешить его Коле. Брат хотел подразнить Колю: пошел к нему в комнату и, бросив пальто, небрежно сказал: "На, возьми, носи мои обноски!" Возмущенный Коля сильно обиделся на брата, отбросил пальто, и никакие уговоры матери не могли заставить Колю его носить. Даже самых пустяшных обид Коля долго не мог и не хотел забывать. Прошло много лет. Мужу не понравился галстук, который я ему подарила, и он посоветовал мне предложить его Коле, который любит такой цвет: Я пошла к нему и чистосердечно рассказала, что галстук куплен был для мужа, но раз цвет ему не нравится, не хочет ли Коля его взять? Но Коля очень любезно, с улыбочкой, мне ответил: "Спасибо, Аня, но я не люблю носить обноски брата"". (ВГ. С. 114).
"Гумилев подростком, ложась спать, думал об одном: как бы прославиться, – пишет Георгий Иванов. – Мечтая о славе, он вставал утром, пил чай, шел в Царскосельскую гимназию. Часами блуждая по парку, он воображал тысячи способов осуществить свою мечту. Стать полководцем? Ученым? Изобрести перпетуум-мобиле? Безразлично что – только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о нем книги, удивлялись, завидовали ему" (Иванов Г.В. Там же. С. 171).
…И второй… Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир.
Говорил, что жизнь – его подруга,
Коврик под его ногами – мир... ("Память")
Кажется, что могло получиться из этого подростка с гипертрофированным самолюбием? – Второй Брюсов, не иначе! Действительно, Гумилев считал Брюсова своим учителем, во многом подражал ему – и в стихах, и в том, что стал "мэтром" новой поэтической школы.
Но все же, когда разные люди говорят одно и то же – это не одно и то же. Случай Гумилева доказывает, что можно быть учеником Брюсова и при этом не быть, как Брюсов. Тот старался ради двух строчек в истории всемирной литературы, и эта цель оправдывала для него любые средства. Гумилев хотел "быть", а не "казаться", и средства должны были соответствовать величию его цели.
"Гумилев твердо считал, – продолжает Георгий Иванов, – что право называться поэтом принадлежит тому, кто не только в стихах, но и в жизни стремится быть лучшим, первым, идущим впереди остальных. Быть поэтом, по его понятиям, достоин только тот, кто, яснее других сознавая человеческие слабости, эгоизм, ничтожество, страх смерти, на личном примере, в главном или в мелочах, силой воли преодолевает "Ветхого Адама". И от природы робкий, застенчивый, болезненный человек, Гумилев "приказал" себе стать охотником на львов, уланом, добровольно пошедшим воевать и заработавшим два Георгия. <…> То же, что с собственной жизнью, он проделал и над поэзией. Мечтательный грустный лирик, он стремился вернуть поэзии ее прежнее значение, рискнул сорвать свой чистый, подлинный, но негромкий голос, выбирал сложные формы, "грозовые" слова, брался за трудные эпические темы" (Там же).
Себя подростка и свои мечты о славе сам Гумилев в пору зрелости вспоминал холодно:
…Он совсем не нравится мне, это
Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом… ("Память")
Иной тропы к вершинам славы он тогда для себя не видел. Успехами в науках не блистал, особенно не давалась математика, – так что изобретение перпетуум-мобиле отпадало. В полководцы его тоже не звали – время Гайдаров еще не наступило. А золотая жила поэзии открылась легко, – конечно, прежде всего потому, что Гумилев родился поэтом (уже в возрасте шести лет писал он рассказы и стихи, которые мать собирала и берегла). Но обращению к поэтическому творчеству способствовали и время, и место, и окружение. Поэзия входила в моду. Уже гремело имя Бальмонта, ступенька за ступенькой отвоевывал позиции Брюсов. Царское Село напоминало о Пушкине, а директором царскосельской мужской гимназии был переводчик Еврипида и французских символистов, "русский Малларме", поэт Иннокентий Анненский.
Поэты Царского Села
К таким нежданным и певучим бредням
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
Из царскосельских лебедей… – написал о нем Гумилев. Спустя сто лет Царское Село начала XX века кажется, раем, Элизиумом талантов, безмятежно расцветавших среди тенистых аллей у царскосельского пруда. Современники видели его иначе. Рядом с "торжественным миром пышных дворцов и огромных парков с прудами, лебедями, статуями, павильонами" существовал мир "пыльного летом и заснеженного зимой полупровинциального гарнизонного городка с одноэтажными деревянными домиками за резными палисадниками, с марширующими в баню с вениками подмышкой гусарами в пешем строю, с белым собором на пустынной площади и со столь же пустынным гостиным двором, где единственная в городе книжная лавка Митрофанова торговала в сущности только один раз в году – в августе, в день открытия местных учебных заведений (Кленовский Д. Поэты царскосельской гимназии. – ВГ. С. 25). Неказистое здание мужской гимназии внешне было частью этого второго мира, а своим внутренним бытом питомник поэтов привел бы в ужас любую комиссию Министерства образования. Сказать, что "русский Малларме" был также светочем отечественной педагогики, ни у кого бы язык не повернулся.
"Я был в младших классах гимназии, – вспоминал тот же мемуарист, – когда Иннокентий Анненский заканчивал там свое директорское поприще, окончательно разваливая вверенное его попечению учебное заведение. В грязных классах, за изрезанными партами галдели и безобразничали усатые лодыри, ухитрявшиеся просидеть в каждом классе по два года, а то и больше. Пьяненьким приходил в класс и уютно похрапывал на кафедре отец дьякон. Хохлатой больной птицей хмурился из-под нависших седых бровей полусумасшедший учитель математики, Марьян Генрихович. Сам Анненский появлялся в коридорах раза два, три в неделю, не чаще, возвращаясь в свою директорскую квартиру с урока в выпускном классе, последнем доучивавшем отмененный уже о ту пору в классических гимназиях греческий язык" (Там же. С. 26).
Гумилев как раз принадлежал к поколению "усатых лодырей". Оставался ли он на второй год, история умалчивает, но гимназию кончил только в двадцать лет, а приятели-поэты впоследствии не без злорадства называли его "малограмотным".
И все-таки, несмотря на все описанное безобразие, дух высокой поэзии в стенах царскосельской гимназии жил. И потом, когда Анненского на директорском посту сменил пунктуальный немец Яков Георгиевич Моор, коридоры и классы были чисто выбелены и увешаны географическими картами, гербариями и коллекциями бабочек, а полусумасшедшего Мариана Генриховича, невоздержанного отца дьякона и слишком соблазнительную француженку сменили нормальные, способные учителя, стало остро чувствоваться, как не хватает прежнего директора. И на вечерах поэзии, которые устраивались новым поколением гимназистов, неизменно читались его стихи.
Как началось общение Гумилева с Анненским, точно неизвестно. Но в стихах он вспоминал о посещении директорского кабинета, "кипарисового ларца", где в воздухе слышался запах лилий.
…Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.
О, в сумрак отступающие вещи
И еле слышные духи,
И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи.
В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза.
А там, над шкафом, профиль Эврипида,
Слепил горящие глаза…
Тяготясь педагогической рутиной, к начинающим поэтам Анненский тем не менее относился со вниманием. Рассказывали случай, "что когда на педагогическом совете гимназии стоял вопрос об исключении одного ученика за неуспеваемость, Анненский, выслушав доводы в пользу этой строгой меры, сказал: "Да, да, господа! Все это верно! Но ведь он пишет стихи!" И юный поэт был спасен" (Кленовский Д. Поэты царскосельской гимназии. – ВГ. С. 29). Анненский не обошел вниманием и первых стихотворных опытов Гумилева. Но, пожалуй, больше ему нравились стихи гимназистки Ани Горенко. Гумилев познакомился с ней в первый год своего приезда в Царское Село, в семнадцать лет встретив главную в своей жизни любовь.
Я закрыл "Илиаду" и сел у окна,
На губах трепетало последнее слово,
Что-то ярко светило – фонарь иль луна,
И медлительно двигалась тень часового…
…Я печален от книги, томлюсь от луны,
Может быть, мне совсем и не надо героя,
Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.
Героям античного романа "Дафнис и Хлоя" было тринадцать-пятнадцать лет. Будущей Анне Ахматовой на момент знакомства с Гумилевым – четырнадцать, как шекспировской Джульетте. Гумилев был, вероятно, ровесником Ромео. Но ни идиллии Дафниса и Хлои, ни всепоглощающей любви Ромео и Джульетты не получилось. Вышла совсем другая, долгая и драматическая история взаимного притяжения и отталкивания, попыток примирения и ссор, прощения и непонимания – история очень типичная для XX века, несмотря на то, что и герой, и героиня были не только не типичны, но – уникальны, каждый в своем роде. Они поженились только через семь лет после первой встречи, а еще через четыре года – расстались. Еще будучи гимназистом, Гумилев несколько раз делал Анне Горенко предложение, и каждый раз она отвечала отказом. Потом жизнь на время их разлучила: в 1905 г. семья Горенко уехала из Царского села.
Ребенок с видом герцогини,
Голубка, сокола страшней, -
Меня не любишь ты, но ныне
Я буду у твоих дверей.
И там стоять я буду, струны
Щипля и в дерево стуча,
Пока внезапно лоб твой юный
Не озарит в окне свеча.
Я запрещу другим гитарам
Поблизости меня звенеть,
Твой переулок – мне: недаром
Я говорю другим: "Не сметь!"… (Теофиль Готье. Рондолла – пер. Н. Гумилева)
Как и герой переведенного им стихотворения, Гумилев был настойчив в своем ухаживании. Покорение женских сердец, как и поэзия, было полем его самоутверждения. И в этом тоже прослеживалась линия наибольшего сопротивления: по единодушному признанию современников, Гумилев был некрасив.
Мемуаристы Серебряного века, пожалуй, слишком старательно изощряли свое искусства пера в описании этой его некрасивости. Что только не упоминается: и "череп, суженный кверху, как будто вытянутый щипцами акушера", и "бесформенно-мягкий нос", и косящие "глаза гуся", а то и "нильского крокодила", лицо "не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро", не то "египетского письмоводителя", – хотя фотокарточки поэта разрушают монстроподобное видение, рождающееся в воображении от этих словесных живописаний, – глядя на них, нельзя сказать, что он чем-то кардинально безобразнее Брюсова, Бальмонта или Андрея Белого. Фотографиям, пожалуй, больше соответствует не претендующая на изысканную оригинальность зарисовка, сделанная невесткой, Анной Андреевной Гумилевой: "Высокий, худощавый, очень гибкий, приветливый, с крупными чертами лица, с большими светло-синими, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, необыкновенно тонкими, красивыми, белыми руками. Походка у него была мягкая и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно".
"Чуть косившие серые глаза с длинными светлыми ресницами, видимо обвораживали женщин", – признает утонченный эстет Сергей Маковский (Маковский С. Николай Гумилев по личным воспоминаниям. – ВГ. С. 74). Эта деталь наполняет особым смыслом знаменитый ахматовский образ "сероглазого короля". Влюбчивый по природе, "сероглазый король" уже ко времени окончания гимназии был полон решимости брать женские сердца приступом. Один из младших соучеников по царскосельской гимназии живо вспоминал "Гумилева, стоящего у подъезда Мариинской женской гимназии, откуда гурьбой выбегают в половине третьего розовощекие хохотушки, и "напевающего" своим особенным голосом: "Пойдемте в парк, погуляем, поболтаем" (Голлербах Э. Из воспоминаний о Н.С. Гумилеве – ВГ, С. 16).
"Муза Дальних Странствий"
Окончив гимназию, Гумилев решил продолжать ученье в Сорбонне и с согласия родителей выехал в Париж. На утверждения современников, что он "не знал никаких языков кроме русского" хочется возразить, что человек, около года проведший в Париже, слушавший лекции профессоров Сорбонны, а затем еще путешествовавший по Африке и собиравший абиссинский фольклор, хотя бы французский язык как-то знать должен. Возможно, его знание было ниже того, которое принято было в тогдашнем интеллигентном обществе, но все же смотреть на поэта свысока, как на недоучку, могли только снобы, а человеку современного общества, в котором уровень гуманитарной образованности стал значительно ниже, тем более не следует им подражать. Впрочем, особым прилежанием Гумилев не отличался и, по собственному признанию, живя в Париже, "больше жуировал", чем занимался.
Настроенный в то время, по выражению упомянутого выпускника царскосельской гимназии, Голлербаха, "чрезвычайно бальмонтонно", он, естественно, решил завязать знакомство с Бальмонтом, как раз обосновавшимся в Париже. Гумилев написал ему письмо, но тот почему-то не ответил. Гумилев страшно обиделся: маститый поэт, с пренебрежением относящийся к начинающим, низко пал в его глазах. Зато с Брюсовым у него завязалась переписка; мэтр предложил новичку сотрудничать в "Весах".
Гумилев к тому времени уже был автором сборника "Путь конквистадоров", вышедшего в свет в 1905 г.
Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.
Как смутно в небе диком и беззвездном!
Растет туман… но я молчу и жду
И верю, я любовь свою найду…
Я конквистадор в панцире железном.
И если нет полдневных слов звездам,
Тогда я сам мечту свою создам
И песней битв любовно зачарую.
Я пропастям и бурям вечный брат,
Но я вплету в воинственный наряд
Звезду долин, Лилею голубую.
В Париже, на перекрестке мировых путей, его всерьез охватила жажда путешествий, которую он так прекрасно выразил в более позднем стихотворении "Отъезжающему", написанным обычным ямбом, но в ритме столь экзотическом, что напоминает древнегреческую алкееву строфу.
Нет, я не в том тебе завидую
С такой мучительной обидою
Что уезжаешь ты и вскоре
На Средиземном будешь море.
И Рим увидишь, и Сицилию,
Места, любезные Вергилию,
В благоухающей, лимонной
Трущобе сложишь стих влюбленный.
Я это сам не раз испытывал,
Я солью моря грудь пропитывал,
Над Арно, Данте чтя обычай,
Слагал сонеты Беатриче.
Что до природы мне, до древности,
Когда я полон жгучей ревности,
Ведь ты во всем ее убранстве
Увидел Музу Дальних Странствий.
Ведь для тебя в руках изменницы
В хрустальном кубке нектар пенится,
И огнедышащей беседы
Ты знаешь молнии и бреды.
А я, как некими гигантами,
Торжественными фолиантами
От вольной жизни заперт в нишу,
Ее не вижу и не слышу.
Не раз говорилось, что муза Гумилева – это "Муза Дальних Странствий". И то, что это выражение было подхвачено Ильфом и Петровым, нисколько не умаляет его высокого пафоса. Гумилев открыл русскому читателю до него неизведанный мир Африки, и что самое ценное – его взгляд на культуру племен, считавшихся "дикими" и "отсталыми", – это не пренебрежительный, европоцентристский взгляд туриста, даже и в путешествии защищенного броней цивилизационного комфорта, а уважительный, сочувственный взгляд равного. Поэт Николай Гумилев был предтечей научного течения – "евразийства"; не случайно впоследствии его сын, Лев Николаевич Гумилев (1912 – 1992), историк, географ, философ и этнолог, с такой любовью и уважениям писал о племенах Великой Степи, и сам поэт, похоже, считал эту сферу – открытие "белому неведомой страны" – главной своей заслугой.
…Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка.
Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.
Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны… ("Память")
Африке Гумилев посвятил множество стихов – из них составился даже целый сборник, "Шатер", вышедший в 1921 г. Сборник открывался вступлением, суммирующим его опыт первооткрывателя и в то же время подчеркивающим, что при всем интересе к культуре иных цивилизаций поэт был и остается носителем собственной, христианской культуры.
Оглушенная ревом и топотом,
Облеченная в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы.
И твое раскрывая Евангелье,
Повесть жизни ужасной и чудной,
О неопытном думают ангеле,
Что приставлен к тебе, безрассудной.
Про деянья свои и фантазии,
Про звериную душу послушай,
Ты, на дереве древнем Евразии
Исполинской висящая грушей.
Обреченный тебе, я поведаю
О вождях в леопардовых шкурах,
Что во мраке лесов за победою
Водят полчища воинов хмурых;
О деревнях с кумирами древними,
Что смеются улыбкой недоброй,
И о львах, что стоят над деревнями
И хвостом ударяют о ребра.
Дай за это дорогу мне торную,
Там, где нету пути человеку,
Дай назвать моим именем черную,
До сих пор неоткрытую реку.
И последняя милость, с которою
Отойду я в селенья святые, –
Дай скончаться под той сикоморою,
Где с Христом отдыхала Мария.
Первое путешествие в Африку он совершил еще в 1907 г. О своей мечте хоть недолго пожить "между берегом буйного Красного моря и Суданским таинственным лесом" он написал отцу, но отец отказался дать денег на бредовую затею и советовал сначала кончить университет. Тогда сын, сэкономив на своем содержании, все же набрал требуемую сумму и уехал, а чтобы родители не сходили с ума, заранее заготовил письма, которые после его отъезда друзья каждые десять дней пунктуально отправляли из Парижа. Только после благополучного возвращения Гумилев открыл родителям правду. Так, по крайней мере, рассказывала эту историю невестка, А.А. Гумилева. Достоверно же известно, что в 1907 г. Гумилев путешествовал по Крыму, был в Константинополе и Смирне. Но помимо реальных путешествий его манили соблазны "тайного знания", оккультных учений, наркотических опьянений.
…Но в мире есть иные области,
Луной мучительной томимы,
Для высшей силы, высшей доблести
Они навек недостижимы.
Там волны с блесками и всплесками
Непрекращаемого танца,
И там летит скачками резкими
Корабль Летучего Голландца…
…Сам капитан, скользя над бездною,
За шляпу держится рукою,
Окровавленной, но железною,
В штурвал – вцепляется другою…
…И если в час прозрачный, утренний
Пловцы в морях его встречали,
Их вечно мучил голос внутренний
Слепым предвестием печали.
Ватаге буйной и воинственной
Так много сложено историй,
Но всех страшней и всех таинственней
Для смелых пенителей моря –
О том, что где-то есть окраина –
Туда, за тропик Козерога! –
Где капитана с ликом Каина
Легла ужасная дорога. ("Капитаны")
Этот путь "скольжения над бездной" сам по себе опасен, если же пролегает по реальным неровностям жизни, – вдвойне. В личной жизни поэта не все складывалось гладко.
Расставшись с Аней Горенко в 1905 г., Гумилев долго не имел от нее никаких вестей, но в октябре 1906 г. получил от нее письмо, и отношения возобновились. В 1907 г., еще будучи в Париже, Гумилев задумал издавать журнал "Сириус". Во втором номере этого недолго просуществовавшего журнала было напечатано ее стихотворение. В 1907 году он дважды навестил ее – сначала в Киеве, потом в Севастополе. Новое предложение – и новый отказ. Будущая муза петербургского Парнаса была неприступна и горда собой – хотя, по собственному последующему признанию, больше всего гордилась тем, что "плавает, как рыба". А Гумилев не мог похвастать богатырским здоровьем и какими-то физическими достижениями: приехавший в Россию для прохождения военной службы, он был признан к ней "совершенно неспособным" и навсегда от нее освобожден.
Вернувшись в Париж, Гумилев издал второй свой сборник – "Романтические цветы". У него появились новые знакомые, в числе которых поэты – Осип Мандельштам и Максимилиан Волошин. Тем не менее Гумилев переживал глубокий душевный кризис, покушался даже на самоубийство. Об этой попытке чуть позже он рассказывал еще одному новому другу, начинающему писателю Алексею Толстому. Говорил, что уже целый год носил при себе большой кусок цианистого калия, величиной с половину сахарного куска. Знал, что стоит только взять его в рот – как мгновенно настанет неизвестное. Однажды сделал это – бросил кусок в рот, прижал ко рту ладонь, ощутил шершавый вкус яда. Что было дальше, Толстой так и не понял. Не понял и почему Гумилев пытался убить себя. ""Вы спрашиваете, – зачем я хотел умереть? Я жил один, в гостинице, – привязалась мысль о смерти. Страх смерти мне был неприятен… Кроме того, здесь была одна девушка…" <…> Обо всех этих заманчивых вещах рассказывал мне Гумилев глуховатым голосом, сидя прямо, опираясь на трость. Лето было прелестное в Париже. Часто проходили дожди, и в лужах на асфальтовой площади отражались мансарды, деревья, прохожие и облака, – точно паруса кораблей, о которых мне рассказывал Гумилев" (Толстой А. Н. Гумилев. – ВГ. С. 38).
Есть старое аскетическое и житейское правило: не призывай имени врага – он может явиться и толкнуть в пропасть. Увлекшись Бальмонтом и Брюсовым, в ранних стихах Гумилев, разумеется, не миновал выражений "друг Люцифер" и "верный дьявол". И хотя для него это были только слова – это были слова неразумные и неосторожные. В какой-то момент "друг Люцифер" чуть было не утащил его в бездну. Тем более, что тяга "ходить по пропастям и безднам" была у него своя, не заимствованная. Любая физическая опасность притягивала Гумилева, как магнит. Каким-то чудесным образом тогда, в юности, он был спасен, – лишь чувство притяжения бездны запечатлелось в его стихах. Он остро чувствовал в себе первородный грех – не только грех Адама, ослушавшегося Бога, но и в скором времени явившийся за ним грех Каина.
Он не солгал нам, дух печально-строгий,
Приявший имя утренней звезды,
Когда сказал? "Не бойтесь высшей мзды,
Вкусите плод, и будете, как боги".
Для юношей открылись все дороги,
Для старцев – все запретные труды,
Для девушек янтарные плоды
И белые, как снег, единороги.
Но почему мы клонимся без сил,
Нам кажется, что кто-то нас забыл,
Нам ясен ужас древнего соблазна.
Когда случайно чья-нибудь рука
Две жердочки, две травки, два древка
Соединит на мне крестообразно. ("Потомки Каина")
В жизни Гумилева не было четко обозначенного периода, когда он отошел бы от веры – но была постоянная тяга "на страну далече" и постоянное памятование об Отце небесном, Который ждет. Его Блудный сын из большого одноименного стихотворения даже "на страну далече" стремится во имя Господне:
…На то ли, отец, я родился и вырос,
Красивый, могучий и полный здоровья,
Чтоб счастье побед заменил мне твой клирос
И гул изумленной толпы – славословья!
Я больше не мальчик. Не верю обманам,
Надменность и кротость – два взмаха кадила,
И Петр не унизится пред Иоанном,
И лев перед агнцем, как в сне Даниила.
Позволь, да твое преумножу богатство,
Ты плачешь над грешным, а я негодую,
Мечом укреплю я свободу и братство,
Свирепых огнем научу поцелую.
Весь мир для меня открывается внове,
И я буду князем во имя Господне…
О, счастье! О, пенье бушующей крови!
Отец, отпусти меня завтра… сегодня! ("Блудный сын")
Если прочесть все стихотворение от начала до конца, остается впечатление, что эта первая часть более убедительна. Возвращаясь в отеческий дом, гумилевский Блудный сын ностальгически вспоминает детство, осознает, что дом – это святыня, но передать в полной мере чувство покаяния автору не удается, хотя его герой признает свою духовную опустошенность:
За садом возносятся горные своды,
Вот дом – это дедов моих пепелище,
Он, кажется, вырос за долгие годы,
Пока я блуждал, то распутник, то нищий… ("Блудный сын")
Заглушить до конца "пенье бушующей крови" ему так никогда не удавалось. Оставалось только констатировать собственную немощь.
Но и это – путь ко спасению, а для человека от природы гордого и самолюбивого – прямо-таки подвиг.
Я, что мог быть лучшей из поэм,
Звонкой скрипкой или розой белою,
В этом мире сделался ничем,
Вот живу и ничего не делаю.
Часто больно мне и трудно мне,
Только даже боль моя какая-то,
Не ездок на огненном коне,
А томленье и пустая маята.
Ничего я в жизни не пойму,
Лишь шепчу: "Пусть плохо мне приходится,
Было хуже Богу моему
И больнее было Богородице".
Первое возвращение Гумилева в отчий дом состоялось в 1908 г., когда он оставил, наконец, мысль об учебе в Париже и решил продолжать образование на родине, ради чего поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Правда, в первом же семестре, вместо того, чтобы приступить к занятиям, он на два месяца уезжает в новое средиземноморское путешествие, а по возвращении активнее участвует в литературной жизни, нежели учится. Через год он перевелся на историко-филологический факультет, но и там толком не занимался, то отчислялся, то восстанавливался – так что формальное его образование так и осталось в подвешенном состоянии. Но у него была другая, не менее серьезная школа.
К этому времени Гумилев уже приобрел достаточно знакомств среди петербургских литераторов. Не везде его принимали с распростертыми объятиями. Так, не слишком удачным оказалось знакомство с Мережковскими, к которым он явился с рекомендательным письмом от Брюсова. В ответном письме Брюсову Гиппиус недоумевала, какая злая сила свела его с этим "бледно-гнойного" вида юнцом. Известен и отзыв Блока, воспользовавшегося для его характеристики гоголевским выражением "паныч ось сосулька", а от себя добавившего "и сосулька глупая". Все-таки до чего мелочно-зол бывал блестящий Серебряный век даже в лице лучших своих представителей! Возвыситься за счет принижения рядом стоящего, блеснуть на чьем-нибудь бледном фоне – к этому стремились и это позволяли себе почти все. Главной причиной отрицательного отношения к Гумилеву, очев
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Два фольклорных сюжета о св. Николае-чудотворце
Мельник В. И., Мельник Т.В. Св. Николай Угодник, как известно, один из самых любимых народом христианских святых. Естественно поэтому, что о
- Литература XIV века
Кириллин В. М. XIV век в истории Древней Руси - период, по существу, определивший будущее России. В это время средоточием всей политической,
- А.С.Пушкин в жизни И.А.Гончарова
- "Моление" Даниила Заточника
"Моление" Даниила Заточника Кириллин В. М. Как можно судить по древнерусским летописям и многим другим литературным памятникам, писателе
- Мир символов в «Войне и мире» Л.Н. Толстого: несколько разъяснений
- Киево-Печерский патерик
- О повести Валентина Распутина "Дочь Ивана, мать Ивана" и теме зла в современной литературе
О повести Валентина Распутина "Дочь Ивана, мать Ивана" и теме зла в современной литературе Кокшенева К. А. Проект либералов по назначению
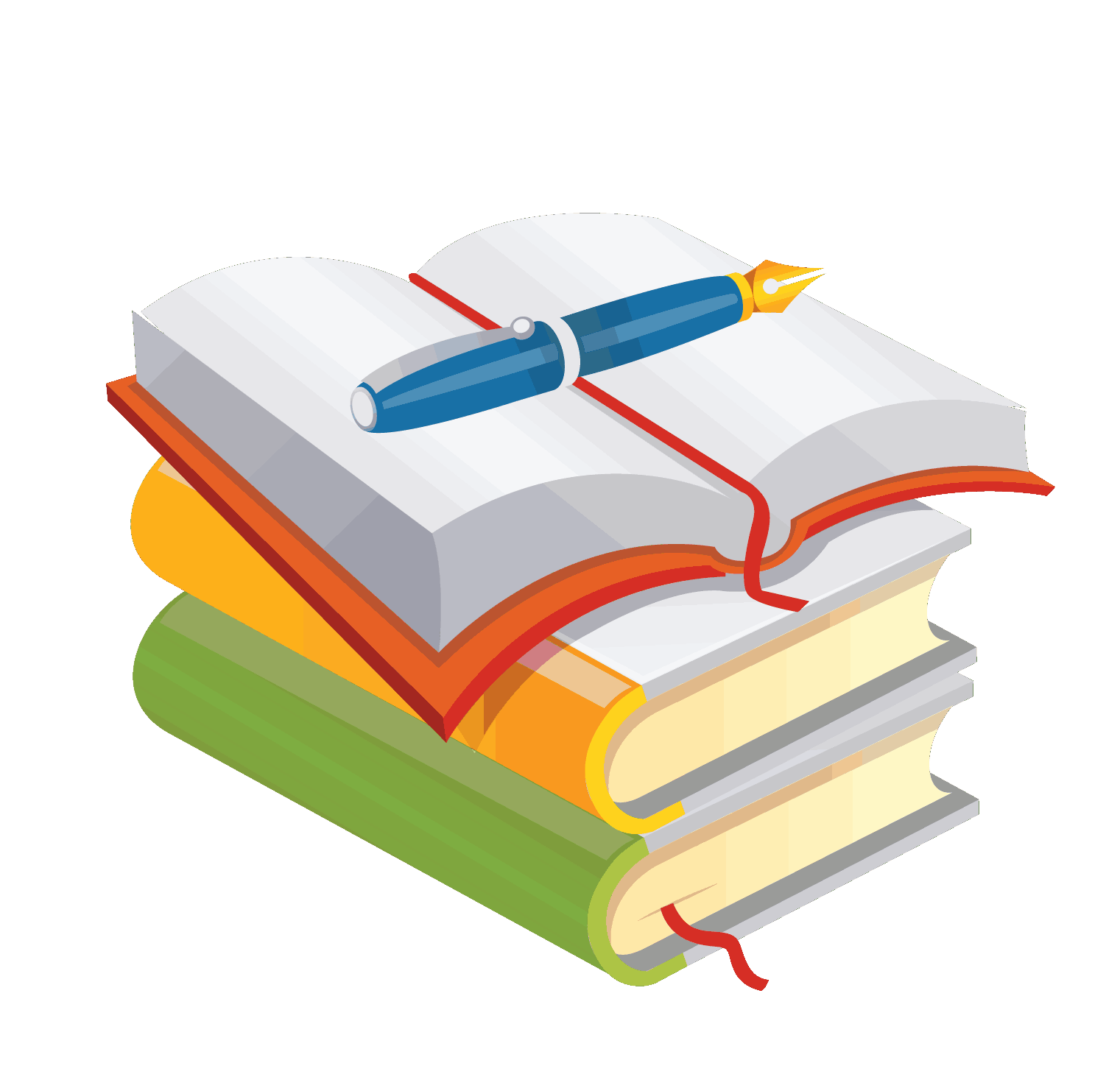 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.