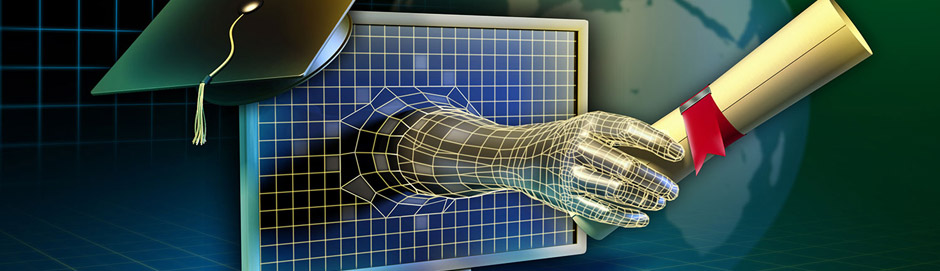Муса Багаев
ФридрихНицше: мученикпознания
Он одинок и лишён всего, кроме своих
мыслей: что удивительного в том,
что он часто нежится и лукавит
с ними и дёргает их за уши!
— А вы, грубияны, говорите — он скептик.
Из посмертно опубликованных рукописей
1. Несостоявшийся «профессор»
Сначала краткое curriculum vitae в беглом наброске самоизложения: «Vita. Я родился 15 октября 1844 года на поле битвы при Лютцене. Первым услышанным мною именем было имя Густава Адольфа. Мои предки были польские дворяне (Ницки); должно быть, тип хорошо сохранился вопреки трём немецким «матерям». За границей меня обычно принимают за поляка; ещё этой зимой я значился в списке иностранцев, посетивших Ниццу, comme Polonais. Мне говорят, что моя голова встречается на полотнах Матейко. Моя бабушка принадлежала к шиллеровско-гётевскому кругу в Веймаре; её брат унаследовал место Гердера на посту генерал-суперинтенданта в Веймаре. Я имел счастье быть воспитанником достопочтенной Шульпфорты, из которой вышло столько мужей (Клопшток, Фихте, Шлегель, Ранке и т. д., и т. д.), небезызвестных в немецкой литературе. У нас были учителя, которые оказали бы (или оказали) честь любому университету. Я учился в Бонне, позже в Лейпциге; старый Ричль, тогда первый филолог Германии, почти с самого начала отметил меня своим вниманием, 22-х лет я был сотрудником «Центральной литературной газеты» (Царнке). Ко мне восходит основание филологического кружка в Лейпциге, существующего и поныне. Зимой 1868/69 г. Базельский университет предложил мне профессуру; я даже не был ещё доктором. Вслед за этим Лейпцигский университет присудил мне степень доктора весьма почётным образом: без какой-либо защиты, даже без диссертации. С пасхи 1869 по 1879 г. я жил в Базеле; мне пришлось отказаться от моего немецкого подданства, так как, будучи офицером (конный артиллерист), я не смог бы отклоняться от слишком частых призывов па службу, не нарушая своих академических обязанностей. Тем не менее я знаю толк в двух видах оружия: в сабле и пушках — и, возможно, ещё и в третьем... В Базеле, несмотря на мою молодость, всё шло как нельзя лучше; случалось, в особенности при защитах докторских диссертаций, что экзаменующийся был старше экзаменатора. Большой милостью, выпавшей мне на долю, оказалась сердечная близость между Якобом Буркхардтом и мною — несколько необычный факт для этого весьма чурающегося всякого общения мыслителя-отшельника. Ещё большей милостью было то, что у меня с самого начала моего базельского существования завязалась теснейшая дружба с Рихардом и Козимой Вагнерами, которые жили тогда в своём поместье Трибшен, возле Люцерна, словно на каком-то острове, отрешённые от всех прежних связей. Несколько лет делили мы между собой всё великое и малое; доверие не знало границ. (Вы найдёте в седьмом томе Собрания сочинений Вагнера «послание», опубликованное им мне по случаю «Рождения трагедии».) С этого момента и впредь я познакомился с большим кругом интересных людей (и «людинь» — Menschinnen), в сущности почти со всем, что растёт между Парижем и Петербургом. К 1876 году здоровье моё ухудшилось. Я провёл тогда зиму в Сорренто с моей давнишней подругой баронессой Мейзенбуг («Воспоминания идеалистки») и симпатичным доктором Рэ. Состояние не улучшалось. Крайне мучительная и цепкая головная боль истощала все мои силы. С годами она нарастала до пика хронической болезненности, так что год насчитывал тогда для меня до 200 юдольных дней. Недуг должен был иметь исключительно локальную причину; о какой-либо невропатологической подоплёке нет и речи. Я никогда не замечал за собою симптомов душевного расстройства, даже никакого жара, никакой обморочности. Мой пульс был тогда столь же медленным, как пульс первого Наполеона (=60). Моей специальностью было: в течение двух-трёх дней напролёт с совершенной ясностью выносить нестерпимую боль cru, vert, сопровождаемую рвотой со слизью. Распространили слух, будто я в лечебнице для душевнобольных (и даже умер там). Нет большего заблуждения. Зрелость моего духа приходится как раз на это страшное время; свидетельство — «Утренняя заря», написанная мною в 1881 году, когда я пережил зиму невообразимо плачевного состояния, оторванный от врачей, друзей и родных. Книга служит для меня своего рода «динамометром»: я сочинил её с минимумом сил и здоровья. С 1882 года дела, разумеется весьма медленно, начали снова поправляться: кризис был преодолён (мой отец умер очень молодым, как раз в том возрасте, в котором я сам был ближе всего к смерти). Я и сегодня нуждаюсь ещё в крайней осторожности: ряд условий климатического и метеорологического порядка оказывается непременным. Вовсе не выбором, а неизбежностью является то, что я провожу лето в Верхнем Энгадине, а зиму — на Ривьере... В конце концов болезнь принесла мне величайшую пользу: она выделила меня среди остальных, она вернула мне мужество к себе самому... К тому же я, сообразно своим инстинктам, храброе животное, даже милитаристическое. Долгое сопротивление слегка озлобило мою гордость. — Философ ли я? — Но что толку из этого!..» Остаётся добавить, что к автору этого письма (этой жизни!) Фридриху Вильгельму Ницше — пасторскому сыну, профессору классической филологии Базельского университета и преподавателю греческого языка Базельского педагогиума и потом уже, до последних минут сознательной жизни, одинокому и «безродному» скитальцу — как нельзя лучше подходит рассказанная им самим в книге о Заратустре притча о трёх превращениях духа: «как дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, младенцем лев». Начало было ослепительным: «старый Ричль... отметил меня своим вниманием». Сказано более чем скромно. Вот отрывок из письма Ричля, рекомендующего на должность профессора... ещё студента: «Среди стольких молодых дарований, развившихся на моих глазах в течение 39 лет, я не знал никого, кто в столь раннем возрасте обладал бы такой зрелостью, как этот Ницше. Если ему суждено долго прожить — дай ему Бог этого! — я предсказываю, что однажды он займёт ведущее место в немецкой филологии. Сейчас ему 24 года: он крепок, энергичен, здоров, силён телом и духом... Здесь, в Лейпциге, он стал идолом всего молодого филологического мира. Вы скажете, я описываю Вам феномен; что ж, он и есть феномен, и притом нисколько не в ущерб своей любезности и скромности». И ещё: «он может всё, чего он захочет». Хотения на этом — начальном — отрезке жизненного пути вполне совпадали ещё с академическими представлениями о карьере; тон задавала респектабельная imago учёного-специалиста, не нарушаемая покуда тревожными сигналами будущей imago «верблюда», он и в самом деле мог всё, чего хотел, этот чудо-мальчик и «канонир 21-й батареи конного подразделения полевой артиллерии», смогший в один приём — двумя-тремя статьями — взять штурмом решающие высоты классической науки о древностях. Но — «милый друг, tant de bruit pour une omelette?» (столько шуму из-за одного омлета?) (Письмо к Э. Роде от 1 — 3 февраля 1868 r.), а между тем ничего, кроме «омлета», и не требовала от своих воспитанников безмятежная академическая судьба, посетовавшая однажды устами берлинского академика Дюбуа-Реймона на Фауста, который предпочёл женитьбе на Гретхен и университетской профессуре... рискованные приключения и в общем досадную несолидность. К несолидности — можно сказать со всей уверенностью — эта душа была предрасположена отроду; представить себе Фридриха Ницше этаким «новым Ричлем», доживающим до почтенной седины и углублённо толкующим в окружении учеников какой-нибудь ещё один «источник», — картина не менее несуразная, чем семейная фотография доктора Фауста с женой (Гретхен?), детьми и внуками; в письме, отправленном Якобу Буркхардту 6 января 1889 г. из Турина на четвёртый день после начавшейся эйфории, стало быть уже «оттуда», ситуация получит головокружительно-«деловое» разъяснение, где «сумасшедшему» — этой последней и уже сросшейся с лицом маске Ницше — удастся огласить буквальную мотивацию случившегося: «Дорогой господин профессор, в конце концов меня в гораздо большей степени устраивало бы быть славным базельским профессором, нежели Богом; но я не осмелился зайти в своём личном эгоизме так далеко, чтобы ради него поступиться сотворением мира». Понятно, по крайней мере в ретроспективном обзоре, что всё должно было зависеть от сроков появления на сцене «искусителя»; в этом случае их оказалось двое; все предсказания и надежды старого Ричля обернулись химерами в момент, когда юный студиозус впервые раскрыл том мало известного ещё и не пользующегося решительно никаким доверием в университетских кругах философа Шопенгауэра. «Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав первую его страницу, вполне уверены, что они прочитают все страницы и вслушаются в каждое сказанное им слово... Я понял его, как если бы он писал для меня». Отвлекаясь от всего, что мог бы вычитать из сочинений родоначальника европейского пессимизма этот многообещающий вундеркинд филологии — а вычитал он из них ровно столько, сколько хватило ему впоследствии для уличения недавнего кумира в фабрикации фальшивых монет, — одно оказалось усвоенным сразу же и бесповоротно: вкус к маргинальности, исключительности, уникальности. Едва ли, впрочем, дело ограничивалось здесь чтением в обычном смысле слова; Шопенгауэр был не столько прочитан, сколько вчитан в жизнь и судьбу, вплоть до катастрофических изменений в её темпе и ритме — «кто пишет кровью и притчами, — скажет Заратустра, — тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть»; можно было бы уже тогда позволить себе некоторые рискованные догадки о том, чем бы мог стать так заученный наизусть автор «Мира, как воли и представления» с его неподражаемо ядовитым презрением к «профессорской философии профессоров философии» в жизненных судьбах этой родственной ему души. Встреча с Рихардом Вагнером в ноябре 1868 г. оказалась решающей; маргинальность, исключительность и уникальность предстали здесь воочию, in propria persona; это была сама персонифицированная философия Шопенгауэра, и — что важнее всего — персонифицированная не через почтенные отвлечённости «четвероякого корня закона достаточного основания», а в гениальной конкретизации 3-й книги 1-го тома «Мира, как воли и представления», т. е. через музыку, этот единственный по силе адекватности синоним «мировойволи». Потрясение, несмотря на разницу в возрасте, было обоюдным: 56-летний композитор едва ли не с первой встречи расслышал в своём 25-летнем друге героические лейтмотивы ещё не написанного «Зигфрида»: «Глубокоуважаемый друг!.. Дайте же поглядеть на Вас. До сих пор немецкие земляки доставляли мне не так уж много приятных мгновений. Спасите мою пошатнувшуюся веру в то, что я, вместе с Гёте и некоторыми другими, называю немецкой свободой». Понятно, что такой призыв мог быть обращён именно ко «льву», и более чем понятно, каким разрушительным искусом должен был он откликнуться в «молодомльве» (впечатление Пауля Дёйссена, школьного друга Ницше, относящееся к этому периоду), «льве», всё ещё прикидывающемся «верблюдом» во исполнение заветов науки. Попадание оказалось безупречным во всех смыслах: спасти веру в «немецкуюсвободу», и не чью-либо, а веру творца «Тристана» и «Мейстерзингеров», и не просто творца, а творца непризнанного, гонимого, третируемого, всё ещё божественного маргинала и отщепенца в культурной табели о рангах XIX в. (будущий разрыв с Вагнером символически совпадёт с ритуалом канонизации байрейтского принцепса и торжественным внесением его в реанимационную мировой славы — не без решительного и парадоксально-коварного содействия его юного апостола), — всё это не могло не вскружить голову. Прибавьте сюда ещё и то, что в «молодомльве», терзающемся своей блистательной «верблюжестью», сидело самое главное действующее лицо, настоящий протагонист всей этой жизни, не сходящий со сцены даже и тогда, когда вконец совращённые им прочие её участники все до одного очутились в базельской, а потом и в иенской лечебнице для душевнобольных, и продолжающий вплоть до физического конца, но уже на опустевшей сцене разыгрывать действительное на этот раз «рождение трагедии из духа музыки», — музыкант. Музыкант не только в переносном, но и в прямом смысле слова: автор множества музыкальных композиций и песен, об одной из которых как-то «весьма благосклонно» отозвался Лист; несравненный импровизатор — уже много спустя, после разрыва отношений, Козима Вагнер будет с удивлением вспоминать фортепианные фантазии «профессора Ницше», а Карл фон Герсдорф, школьный друг, рискнёт утверждать, что «даже Бетховен не смог бы импровизировать более захватывающим образом», — переносный смысл, впрочем, оказался здесь более решающим, чем прямой: давнишняя мечта романтиков, волшебная греза Давидсбюндлеров о сращении слова и музыки, высловлении музыки — и не в подражательном усвоении внешних красот, а по самому существу и «содержанию» — обрела здесь едва ли не уникальную и, во всяком случае, шокирующую жизнь; «если бы богине Музыке, — так означено это в одном из опубликованных posthum афоризмов времён «Заратустры», — вздумалось говорить не тонами, а словами, то пришлось бы заткнуть себе уши». Скажем так: в этом случае ей и не приходило в голову ничего другого; первое — хотя и официально-сдержанное, но уже камертонно-загаданное наперёд — затыкание ушей произошло с выходом в свет посвящённой, формально и неформально, Рихарду Вагнеру книги «Рождение трагедии из духа музыки» (1872). «Невозможная книга» — такой она покажется самому автору спустя 15 лет; такой она показалась большинству коллег уже по её появлении. Виламовиц-Мёллендорф, тогда ещё тоже один из претендентов на «первоеместо», удосужился написать специальное опровержение; Герман Узенер счёл уместным назвать книгу «совершенной чушью» и позволить себе такой резолютивный пассаж перед своими боннскими студентами: «Каждый, кто написал нечто подобное, научно мёртв»; даже «старыйРичль» не удержался от по-отцовски мягкой журьбы в адрес своего любимца: «остроумное похмелье» (geistreiche Schwiemelei). Хуже обстояло с делами университетскими: студенты-филологи сорвали своему идолу зимний семестр 1872/73 г.; можно догадаться, чем шокировала эта дважды в столь различных смыслах «невозможная книга». Едва ли решающую роль играла здесь виртуозная лёгкость (ну да, импровизационность!) исполнения, ещё меньше должна была смущать резкость оценок в связи с Сократом («декадентом») и вообще «сократической культурой». Ф. Ф. Зелинский отвёл в своё время эту причину тонким напоминанием о так называемой Prugelknabenmethode, распространённой как раз среди немецких филологов, когда учёному дозволяется в целях своеобразной профессиональной релаксации избирать себе какого-нибудь героя древности в качестве «мальчикадля битья». Такого Сократа — кого угодно — автору «Рождения трагедии» простили бы; непростительным оказалось другое: нарушение классических единств, где афинская древность врывалась в злобу дня, где ликующе-кровавое шествие бога Диониса переносилось из мифической Фракии в современность, где — короче говоря — кончалась наука о почве и судьбе и дышали сами почва и судьба. «Я нарушаю ночной покой, — так будет сказано впоследствии, хотя и в связи с другой книгой, но всё ещё и всегда и в этой связи. — Во мне есть слова, которые ещё разрывают сердце Богу, я — rendez-vous опытов, проделываемых на высоте 6000 футов над уровнем человека. Вполне достаточно, чтобы меня «понимали» немцы... Но бедная моя книга, как можешь ты метать свой жемчуг — перед немцами?» Это уже рык «льва», изготовившегося к последнему прыжку в «Kinderland» — «странудетей», пятнадцатилетием раньше дело шло всё ещё о втором — промежуточном — превращении; «ибо истина в том, — так скажет Заратустра, — что ушёл я из дома учёных, и ещё захлопнул дверь за собою». Одного вагнеровского восторга («Я не читал ничего более прекрасного, чем Ваша книга») оказалось вполне достаточно, чтобы перевесить внутренний разрыв, — внешне маскарад «профессуры» продлится до 1879 г. и оборвётся... по состоянию здоровья; впрочем, когда в начале 80-х гг. здоровье временно улучшится и встанет вопрос о «трудоустройстве», университет займёт уже жёсткую позицию отказа. «И когда я жил у них, я жил над ними. Поэтому и невзлюбили они меня». Сомневаться на этот счёт не приходится; но вот что интересно: «научно-мёртвое» «Рождение трагедии» оказалось книгой во всех смыслах эпохальной, скажем так: не в последнюю очередь и научно-эпохальной. Эта мастерская увертюра в слове, мерцающая коричнево-струнным золотом тристановских хроматизмов и неожиданно протыкающая их носорожьими вырёвываниями меди («Скажу снова, в настоящую минуту это для меня невозможная книга».), виртуозно фугированный контрапункт, разыгрывающий шопенгауэровскую дихотомию воли и представления в смертельно-бессмертном поединке двух греческих божеств, чисто юношеский Sturm und Drang знающего себе цену гениальничанья (достаточно безумного — скажем мы уже из нашего века словами авторитетного естествоиспытателя, — чтобы быть истинным), — превзошёл все ожидания. В самом скором времени стало очевидным; музыкальность книги не помеха научности, а трансфигурация самой научности (скрыто, но оттого не менее строго обосновывающей основные тезисы автора) в новую научность — хоть и отягчённую всё ещё мимикрией «северной» серьёзности, но вполне уже обещающую качество провансальской весёлости. Дело шло не о филологии, ни об эстетике, ни даже об «анти-Александре», Вагнере, — дело шло об открытии Греции, греческой «энигмы», той самой «рогатойпроблемы», которая прикидывалась в веках обсахаренной дидактической виньеткой в назидание юношеству и целым кладезем сюжетов в эксплуатацию придворному вдохновению, — стало быть, не просто об открытии, а о разоблачении Греции и в ней — самих истоков и будущих судеб Европы. То, что властным косноязычием разрывало просодическую ткань последнего Гёльдерлина, о чём спорадически догадывались отдельные и наиболее рискованные «неформалы» века, предстало здесь во всеуслышание и, больше, как пугающе ясная «концепция»: впервые эллинский феномен диагностировался в опасном измерении психопатологии, где винкельмановско-шиллеровская гипсовая Греция оборачивалась бесноватым оскалом болезни, а сам «феномен» исчерпывался моментами перемирия между двумя богами, ночным Дионисом и солнечным Аполлоном, — по существу настоящей борьбой с собственным безумием под маской олимпийского спокойствия и автаркии. Ещё раз: дело шло не о научной значимости этой ясновидческой диагностики; скорее напротив, от неё и зависела значимость самой науки, — дело шло о новом видении вещей, менее всего — древних, более всего — злободневных; приёмы классической филологии сплошь и рядом преображались в предлоги; сама Греция вырастала в гигантский предлог... к философии Фридриха Ницше. Самой неотвлечённой, скажем мы, и вместе с тем самой радикальной и самой опасной философии из когда-либо бывших. Самой, говоря вслед за ним, одинокой... Уходя из дома учёных, он уходил не в вагнеровский пессимизм, как могло бы поначалу показаться ему самому, ни даже в традиционно понятую Freigeisterei (вольнодумство); будущее «льва», сбросившего с себя шлак «верблюда», оказывалось в этом случае просто неисповедимым. «Юмор моего положения в том, что меня будут путать — с бывшим базельским профессором, господином доктором Фридрихом Ницше. Чёрта с два! Что мне до этого господина!» (Письмо к М. фон Мейзенбуг от 26 марта 1885 г.). Написанные после «Рождения трагедии» «Несвоевременные размышления» (из планируемых двадцати увидели свет только четыре) предстали некой учтивостью «льва», расстающегося со своим прошлым, но и не без «ex ungue»; таковы прощальные композиции Шопенгауэру и Вагнеру, таково блистательное покушение на Давида Штрауса, «филистера культуры» («Я нападаю только на те вещи, против которых я не нашёл бы союзников, где я стою один — где я только себя компрометирую».). Впереди простирались считанные годы неисповедимого: «научно-мёртвый» дух музыки, которому предстояло ещё доказать первую бурю юношеского вдохновения действительно родившейся из него трагедией.
2. «Мы, бесстрашные»
Правы те профессиональные философы, которые пожимают плечами, или разводят руками, или делают ещё что-то в этом роде при словосочетании «философия Ницше». Он совсем не философ в приемлемом для них смысле слова. Кто же он? Говорят: он — философ-поэт, или просто поэт, или философствующий эссеист, или лирик познания, или ещё что-то! Пытаются даже систематизировать его труды по периодам: романтико-пессимистический (от «Рождения трагедии» до «Человеческого, слишком человеческого»), скептико-позитивистический (до — отчасти — «Весёлой науки» и «Так говорил Заратустра») и, наконец, собственно «ницшеанский» (последние произведения). Возразить против этого было бы нечего, даже напротив, это могло бы вполне отвечать сути дела при условии, что искомой оставалась бы как раз суть дела. Философия такого ранга и масштаба, как ницшевская, всегда есть рассказ о некоем «событии», и если правила систематизации и таксономии распространяются на горизонтальную перекладину рассказа, то лишь в той мере, в какой она пересечена вертикальной перекладиной названного «события». Чтобы составить себе теперь некоторое представление о «событии» Фридриха Ницше, можно обратиться к следующему сравнению: некто, заглянув в недоступную многим глубину, узрел там нечто, настолько перетрясшее его мозги и составы, что итогом этого стала новая оптика, как бы новый орган восприятия вещей. «Я словно ранен стрелой познания, отравленной ядом кураре: видящий всё». Оглянувшись затем вокруг, он не мог уже застать ничего другого, кроме сплошных несоответствий виденному. Если исключить совершенно немыслимый в данном случае конформизм притворства, а равным образом и всяческую богемность как возможные и наиболее вероятные формы реагирования на диссонанс, то останется именно казус Ницше — «больше поле битвы, чем человек» (Письмо к П. Гасту от 25 июля 1882 г.). «Чтобы отнестись справедливо к этому сочинению, надо страдать от судьбы музыки, как от открытой раны» — придётся расширить судьбу музыки до судеб культуры, до планетарных судеб, чтобы получить пронзительный, как сирена, аварийный лейтмотив ницшевского «события». Почтеннейший Ричль едва ли способен был догадаться, какую чудовищную алхимию претерпит в этой душе профессиональная филологическая выучка: работа над источниками и эрудиция! «Мы не какие-нибудь мыслящие лягушки, не объективирующие и регистрирующие аппараты с холодно расставленными потрохами, — мы должны непрестанно рожать наши мысли из нашей боли и по-матерински придавать им всё, что в нас есть: кровь, сердце, огонь, весёлость, страсть, муку, совесть, судьбу, рок». Да и только ли Ричль; недоумения росли горой, лопаясь в годах разрывами отношений или формальной консервацией прежней дружбы; ещё раз: простить можно было что угодно, любую выходку распоясавшегося остроумия при условии, что ему, по существу, нипочём «Гекуба», та самая «Гекуба», вокруг которой и разыгрывается маскарад свободомыслия. Странным образом оказалось, что этой мысли, обязанной, так сказать, ex professo заниматься «Гекубой» во исполнение научного долга, ни до чего другого нет дела и в самой жизни; профессионально прочитанный Сократ предстал даже не Prugelknabe Сократом, а злейшим личным врагом, с которым надо было непременно свести счёты, обнаруживая при этом не меньшую страсть и пылкость, чем этого мог потребовать чисто светский кодекс чести. Интервал в двадцать пять столетий сплющивался до... вчерашнего дня; перед открытой кровоточащей раной бессмысленной выглядела любая «давностьсроков», и в свете лозунга «Вся история, как лично пережитая, — результат личных страданий» возникала ситуация небывалого риска, меньше всего рассчитанная на адекватное восприятие и понимание, больше всего — на кривотолки и удобнейшую подозрительность, где отнюдь не худшим из подозрений смогла бы показаться аналогия с бессмертной выдумкой Сервантеса. Проблема психопатологии у Ницше, породившая в своё время (и всё ещё продолжающая порождать) такое количество вздорно-сенсационной и — в меньшей степени — вдумчиво-осторожной литературы, начинается, если угодно, уже в этом пункте; нет никакой надобности сводить её к злоупотреблению «хлоралом» или — того хуже — к рассчитанной на бюргерский трепет леверкюновской мистико-физиологии, чтобы объяснить случившееся; если здесь позволительно говорить о патологии, то не иначе как с самого начала и не иначе как имманентным самой мысли образом. Приведённая выше фраза Ницше — подчеркнём это: уже сошедшего с ума — из письма к Якобу Буркхардту лучше, а главное, точнее разъясняет проблему, чем весь разгоревшийся вокруг неё литераторский сыр-бор; да, он охотнее остался бы славным базельским профессором, нежели стал бы Богом — мы поверим ему на слово; весомость этого слова он оплатил юдолью всей своей жизни, — но случилось так, что «профессор» увидел нечто такое, чего не видели другие профессора, — скажем по-пушкински: «одновиденье, непостижное уму» — или скажем ещё словами того головокружительно-просветлённого объяснения между Заратустрой и жизнью: «И я сказал ей нечто на ухо, прямо в её спутанные, жёлтые, безумные пряди волос. — «Ты знаешь это, о Заратустра? Этого никто не знает»», — если вписать это событие в неповторимую полноту контекста личности самого «профессора», в знакомое ему с детских лет предчувствие особой судьбы, судьбы избранника, ещё раз — в знакомый ему с детских лет поразительный дар жить в возвышенном («Кто не живёт в возвышенном, как дома, — обронит он впоследствии, — тот воспринимает возвышенное, как нечто жуткое и фальшивое»), в третий раз — в знакомую с детских лет атмосферу едва ли не инстинктивно усваиваемой правдивости и честности (мальчиком он услышал из уст одной из своих тёток: «Мы, Ницше, презираем ложь») и ещё во многое другое — «ницшевское», — то сумасшествие, настигшее «последнегоученика философа Диониса» в Турине 3 января 1889 г., окажется самым устойчивым фактом всей его жизни, «Ich bin immer am Abgrunde» — всегда на краю пропасти... Дон-Кихот? Как вам будет угодно — но уберите отсюда трогательную sancta simplicitas, любого рода потешность и право каждой посредственности на снисходительное понимание; да, Дон-Кихот — но с непременной оглядкой на каждый свой шаг, но умница и беспощадный «самопознаватель», палач самого себя («Selbstkenner! Selbsthenker!» — будет сказано в «Дионисовых дифирамбах»), но только и занятый очищением авгиевых конюшен в себе и вне себя («Моё сильнейшее свойство — самопреодоление»), но способный в любое мгновение сбить с толку своего «Сервантеса», который и понятия не имеет о том, куда ещё увлечёт его героя, — прибавьте сюда и то, что «ветряныемельницы» оказываются вдруг не мельницами вовсе, а самим злом, перемалывающим ум и совесть, и что нападающий на них «сумасброд» во всех отношениях знал, на что он посягает. «Европе понадобится открыть ещё одну Сибирь, чтобы сослать туда виновника этой затеи с переоценкой всех ценностей» (Письмо к Г. Брандесу от 13 сентября 1888 г.). «Событие» Фридриха Ницше — оп разглядел в идеализме и во всякой морали «мошенничествовысшего порядка». Исходной интуицией предстал феномен греческой культуры, досократической и уже сократической. Иначе, речь шла о самой жизни и целом сонме «прилганных» (hinzugelogen) к ней дрессировщиков и исправителей. Мудрость досократических греков выражалась в том, что, будучи ближе всех к оргиастическому источнику и избытку жизни, а стало быть, к хаосу и безумию (лик Диониса, кровавого бога бьющего через край экстаза), они противопоставляли ему, а точнее, сшибали с ним формообразующую пластику солнечных сил, световые стрелы Аполлона, дабы в самом средоточии единоборства обоих божеств сотворить себе некий артистический ковчег спасения; при этом о победе или поражении не могло быть и речи — человеческое существование временно оправдывалось искусством, как вооружённым нейтралитетом обоих божеств, больше того, оно подтверждало жизнь самим фактом её художественной интенсификации. В этом смысле феномен эллинского артистизма оказывался не богемной прихотью, а едва ли не физиологической потребностью, неким небывалым кунстштюком торжества над жизнью не в ущерб ей, а в наивысшее подтверждение. Это трагическое мировоззрение впервые на греческой почве было разложено Сократом (и его драматическим alter ego — Еврипидом); с Сократа начинается неслыханная тирания разума и морали, вытеснившая жизнь в бессознательное и подменившая её инструкциями по эксплуатации жизни. Чем можно было победить жизнь, не стоя перед нею лицом к лицу, а в обход? Тем, что начали внушать человеку мораль и разумность любой ценой, стало быть даже ценою самой жизни, которая должна была отныне непременно проходить карантин моральной дезинфекции, дабы не выглядеть чем-то бессмысленным и ни на что не годным. Понятно, что при такой оптике нельзя было уже ограничиться одним Сократом; цепная реакция последствий сулила самую чудовищную растяжку тематического поля. Вопрос упирался в личные особенности «экзаменатора» и в его аппетиты по части радикализма; в конце концов можно было бы очутиться один на один со всей предыдущей — «за исключением пяти-шести моментов и меня, как седьмого» — историей. В период «Рождения трагедии» и даже ещё «Несвоевременных размышлений» такими моментами казались всё ещё Шопенгауэр и Вагнер; с этими союзниками он готов был к истреблению любых драконов. Тем невыносимее обернулось разочарование и первое испытание одиночеством; реальный Вагнер в самом скором времени стал диссонировать с желанным Вагнером — под маской нового Эсхила скрывался всего лишь заядлый театрал и неподражаемый дизайнер страсти, гениальный обольститель и минотавр юношеских порывов; знаменитое туринское письмо 1888 года, которое ошеломит многих воинственностью разрыва, будет на деле подводить итоги более чем двенадцатилетней антивагнерианы. Тогда, к 1876 году, ситуация прояснялась довольно прозаично и, если употребить его позднюю оценку Дж. С. Милля, «оскорбительноясно»; молодой мечтатель и романтик, несущий в груди «пятьдесят миров чужих восторгов», упустил из виду самый очевидный «пятьдесят первый мир»: оказалось, что новый Эсхил видит в своём беззаветно преданном друге отнюдь не только Зигфрида, но и едва ли не в первую очередь талантливого агитатора и пропагандиста байрейтского гешефта; Петер Гаст приводит характерную реплику Вагнера, относящуюся к июню 1878 года: «Ах, знаете ли, Ницше читают лишь в той мере, в какой он принимает нашу сторону!» Достаточно отметить, что уже выход в свет второго из «Несвоевременных размышлений», не имеющего к вагнеровской стороне ни прямого, ни косвенного отношения, был встречен Вагнером с подчёркнутой холодностью, подчёркивающей что-то вроде недоумения хозяина в связи с самодеятельностью слуги. Книга «Человеческое, слишком человеческое», ознаменовавшая de facto разрыв, любопытна, между прочим, как первая переоценка ценностей; Вагнер здесь уже только предлог к разрыву с самим собою, с теми «пятьюдесятью мирами», которые оптом попали впросак при первом же столкновении с элементарной психологией отношений («Мне недоставало знания людей», — скажет он впоследствии). Нужно было кончать с романтикой в себе — безнадёжная задача, впрочем, самой безнадёжностью своей спровоцировавшая такое количество проницательнейшей прозы; придётся — коль скоро об этом уже была речь — вообразить себе Дон-Кихота, с необыкновенной остротой разоблачающего всякое донкихотство, или уже и вовсе разрушительное — Дон-Кихота, который, не переставая быть собою (ибо перестать быть собою выше его сил), становится воинствующим... позитивистом. Рикошет, скажем прямо, невозможный, но так или иначе несомненный для всего «второгопериода» ницшевской мысли — от «Человеческого, слишком человеческого» до (включительно) первых четырёх книг «Весёлой науки». Ещё раз: разрыв с Вагнером («ибо у меня не было никого, кроме Рихарда Вагнера») открывал перспективу абсолютного одиночества; задача была ясна — великий поход на мораль и ценности прежней истории; но ясным представлялось и другое: такая задача могла бы оказаться по плечу не хрупкому романтику, захлёбывающемуся от чужих восторгов, а великому преступнику ранга Цезаря или Наполеона. Ситуация как бы буквально списана со страниц Достоевского (кстати, знаемого и любимого: «единственного психолога, у которого я мог кое-чему поучиться»); и этому немецкому Раскольникову сподобилось с оглядкой на Наполеона решать ребус собственной жизни: «тварьдрожащая» или «сверхчеловек»? Контраст, отмеченный решительно всеми свидетелями, — несоответствие между образом и действительностью. Барон фон Зейдлиц: «Я не знал ни одного — ни одного! — более аристократичного человека, чем он. Он мог быть беспощадным только с идеями, не с людьми — носителями идей». В биографии, написанной Э. Фёрстер-Ницше, сохранился эпизод об одной дурной выходке Вагнера в адрес своего молодого друга. «Что же сказал мой брат?» — спросила я робко. «Он не сказал ни слова, — ответил Вагнер, — он покраснел и удивлённо посмотрел на меня со скромным достоинством. Я дал бы сейчас сто тысяч марок, чтобы уметь вести себя, как этот Ницше». Вот обобщённый портрет, воссозданный со слов друзей: «У него была привычка тихо говорить, осторожная, задумчивая походка, спокойные черты лица и обращённые внутрь, глядящие вглубь, точно вдаль, глаза. Его легко было не заметить, так мало было выдающегося в его внешнем облике. В обычной жизни он отличался большой вежливостью, почти женской мягкостью, постоянной ровностью характера. Ему нравились изысканные манеры в обращении, и при первой встрече он поражал своей несколько деланной церемонностью». «Святым» — il Santo — таким он казался даже случайным путевым знакомым и простым людям: «Что мне до сих пор особенно льстило, так это то, что старые торговки не успокаиваются, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда. Надо быть до такой степени философом...» Сомнений быть не может: трудно вообразить себе случай, который был бы в большей степени чужд и противопоказан породе «смеющихсяльвов» (Заратустра); в конце концов, что же есть ницшевский позитивизм во всём наборе его дальнейших выводков и модификаций, как не чистейший предрассудок романтика, наводящего на себя заведомую порчу в ребяческой надежде испортиться на самом деле! Отпрыск самых лакомых навыков и самоочевидностей традиционной морали, сошедший как бы прямо со страниц Адальберта Штифтера («Бог ты мой, Ницше, — воскликнул однажды Эрвин Роде во время совместного чтения Штифтера, — как похожи на тебя эти юноши! Они ничем не отличаются от тебя; им недостаёт лишь гениальности!» «Виноват, — ответил с улыбкой Ницше, — этим молодцам недостаёт и головных болей!»), он должен был вступить с нею в долгую и изнурительную борьбу, всякий раз побеждая её чудесами стиля и всякий раз проигрывая ей «растущей пустыней» жизни («Die Wuste wachst: weh dem, der Wusten birgt!»). Нужно было спешно осиливать технику переодевания, притворства, маски; альтернатива, заполнившая кризисный промежуток между уже написанным «Рождением трагедии» и ещё не написанным «Человеческим, слишком человеческим», давила мучительной определённостью: либо раскрыть все карты и играть в открытую — да, я постиг сущность морали; она вся покоится на лжи, ибо в основе её лежит что угодно, кроме собственно морального: тщеславие, гордыня, месть, жажда реванша, ressentiment стадного чувства, — но не судите о ней по мне самому, ибо я, Фридрих Ницше, есмь величайшее исключение, никак не подтверждающее правила, — словами «Книги Мёртвых»: я не делал намеренно зла людям... я не говорил лжи пред судилищем правды... я не убивал... я не обманывал... я не оскорблял изображений Богов... я не прелюбодействовал... я не отнимал
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Первые конституции азиатских государств
- Предвидение Петра I
- Александр Македонский (356-323 гг. до н.э.)
- История храма Живоначальной Троицы в Останкине
Вот уже более трехсот лет прошло с того момента, когда патриарх Московский и всея России Иоаким благословил князя Михаила Черкасского (т
- Формирование Российского государства
Основными постоянно действующими факторами русского исторического процесса выступают, прежде всего — особая пространственная и геопо
- Понятие и типы цивилизаций
СодержаниеВозникновение цивилизаций Индустриальная цивилизация Понятие цивилизация в доиндустриальную эпоху Типы цивилизаций
- Приднестровский конфликт
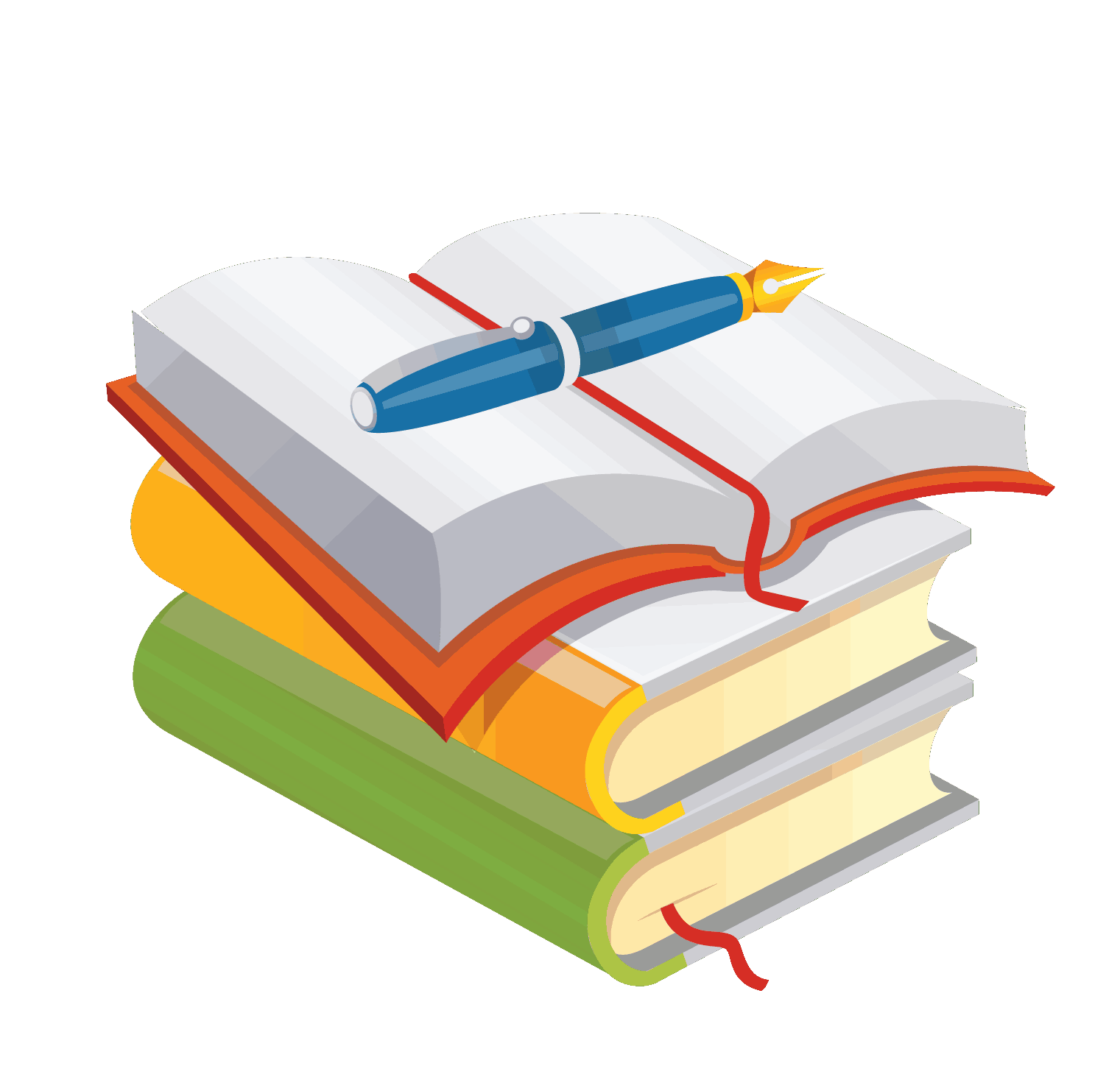 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.