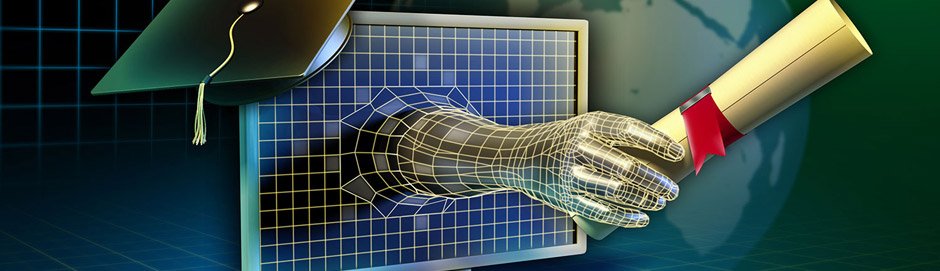Мудрость «безумных речей». О духовном наследии Чжуан-Цзы
В. В. Малявин
Имя древнего мудреца Чжуан-Цзы носит один из самых замечательных памятников китайской мысли, и, более того, всего китайского миропонимания, самобытно-китайского чувствования жизни. Созданная более двух тысяч лет тому назад и, казалось бы, неимоверно далёкая от представлений и вкусов современного человека, эта книга сегодня привлекает к себе самое пристальное внимание читающей публики всего мира. В чём причина этой популярности? Не в том ли, что, придя к нам из непостижимой глубины времён, она способна открывать неведомое в нас самих и побуждает вступить в диалог с иным и непривычным образом человечности? В таком случае она помогает осознать и осмыслить, быть может, самую глубокую истину человеческого существования: всё в мире принадлежит человеку, и нет ничего чуждого и незнакомого в мире, что не может быть опознано им как своё и родное. Человек, сказал Рильке, призван быть «самым смелым животным». Только смелый дух истинно прекрасен. В мировой философской литературе, и не только древней, немного отыщется произведений столь же блестящих по форме и притом исполненных глубокой жизненной мудрости: острый взгляд, отточенная и гибкая мысль, вкус к парадоксам и вольная игра воображения, неподдельно радостное ощущение жизни и, главное, решимость идти до конца в поиске истины — вот приметы весёлого и мужественного гения, создавшего эту уникальную в своем роде сокровищницу китайской мудрости. Неотразимое обаяние «Чжуан-Цзы» как раз и состоит в том, что эта книга учит открывать безграничный мир безграничных возможностей и тем самым — доверять жизни помимо всех принципов, идеалов и ценностей. Она излучает ту бодрящую свежесть чувства и мысли, ради которой человек готов пожертвовать всей «тьмой низких истин» провозглашаемых наивно-самонадеянным рассудком. Её автор мало похож на философа в собственном смысле слова, то есть «любителя знания», ищущего внешних доказательств истинности. Он предстаёт именно мудрецом, который не ищет, а хранит и даже, можно сказать, укрывает истоки знания в глубинах собственного сердца. Ибо он знает — даже если не знает ничего, — что только в решимости вверить себя бездне неведомого таится обетование бесконечности человека.
Философ хочет всё понять, и весь его труд, вся умственная жизнь запечатлены в словах, в спорах о понятиях. Мудрец ведёт речь о неизъяснимо понятном, и он весь — в безмолвии, обнажаемом словами. Оттого-то мудрец раскрывает каноны, а философ пишет «сочинения». Ведь мудрец говорит о незримых «семенах вещей» — о том, что предваряет и опыт, и знание; его речи хранят в себе внутреннюю, лишь символически выражаемую глубину духовного прозрения, которая является скрытым условием, некоей символической матрицей культурной практики человека. Поэтому слова мудрецов, как говорили в Китае, «просты и легки», но требуют бесконечных разъяснений: иерархия канона и толкования указывает на подчиненность культуры духовному опыту, её рождающему. Подобно звону колокола, величественно плывущему в воздухе, канон наполняет повседневный опыт человека зовом непреходящего и, стало быть, единственно подлинного.
Канон ничего не объясняет и не определяет — он внушает и, подобно камертону, настраивает духовный слух. У него нет авторов, у него есть только преемники. Чтобы постичь мудрость канона, недостаточно отвлеченного понимания. Тут должна быть ещё решимость пережить тот самый опыт, постичь мир в момент его рождения, увидеть всё обновлённым взглядом. Мы открываем этот опыт, когда достигаем пределов понимания — того горизонта нашего жизненного мира, который вечно задан нашей мысли и вечно влечет её к себе. Ум нетерпеливый и поверхностный, довольствующийся очевидными истинами, не приученный вглядываться в непрозрачную и всё же интимную бездну Сознающего Сознания, не готов к встрече с мудростью и не способен опознать её сокровенный образ.
Главное понятие китайской традиции — понятие «Дао», Пути, — как раз и указывает на ту цельность духа, ту неявную предпосылку человеческой деятельности, которая предвосхищает и предопределяет все культурные формы, как семя предвосхищает плод. Мудрость Дао — вне идеологии, субъективных представлений и переживаний, вне доказательств и знаний. Она свидетельствует о чистом Присутствии — несказанной, но каждому внятной полноте жизни, неотличимой от абсолютно безыскусного, спонтанного «пре-бывания-в-мире». Но эта полнота бытия приоткрывается лишь в вечном скольжении за рубежи воспринимаемого и понятного. Она обретается в превращениях духа, ведь Дао значит Путь.
Слово Дао дало жизнь даосизму — учению, одним из родоначальников которого был Чжуан-Цзы. Давно сказано: мудрость открывается в том, что миру кажется безумием. Даосские авторы — те самые мудрецы, которые, по их собственному признанию, произносят «безумные речи». Создатель канона, кто бы он ни был, не может быть таким, как «все люди»; он пребывает вне волнений «суетного света» и даже вне истории; его личность окутана покровом тайны. Но он вовсе не чужд повседневности, неотвратимой естественности человеческого быта — всему, что есть в жизни непроизвольного и непреходящего. А что может быть долговечнее обычного и даже обыденного? Истинный мудрец, говорили древние даосы, «не имеет собственного разума, но живёт разумом народа». Поэтому есть своя закономерность в том, что даосский мудрец всем известен — и остается всеми неузнанным. Такова судьба Чжуан-Цзы, за которым закрепилась слава фантазёра и балагура, но вместе с тем истинного подвижника и эрудита. Слава великого мыслителя пришла к нему много позже. Лишь в последние десятилетия творчество древнего даоса стало предметом фундаментальных исследований, в которых его то и дело сравнивают с корифеями современной философии от Ф. Ницше до М. Хайдеггера и Ж. Деррида. Создаётся впечатление, что даосские мудрецы оказались для многих наших современников актуальнее Канта и Гегеля. Почему? Ответ, вероятно, нужно искать в присущей нашей эпохе потребности преодолеть то эгоцентрическое видение мира и тот образ «фаустовского человека», из которых выросла философия Нового времени. Ибо даосы принадлежат к той разновидности писателей, которые обнажают шаткость всякого «позитивного знания» и увлекают в неопределённую будущность, где дух ощущает, себя в упоительно-опасной близости к тайне бытия. Наследие даосов напоминает о том, чего лишил себя современный человек, вожделеющий материального и умственного комфорта. Оно, наконец, показывает, что приобретает человек, отказавшийся от придуманных им себе мифов.
Мудрость Дао есть таинство самопревращения духа: воспроизведение в себе непреходящего опыта, который не принадлежит отдельному лицу, но пришёл «прежде нас» и переживается каждым с безупречной внутренней достоверностью. В ней сообщение об истине неотделимо от чистой сообщительности сердец. И наследие даосов напоминает о том, что творчество по своим истокам и назначению не может не быть собирательным и жизнеспособная мысль не рождается в одиночестве. Оно заставляет верить, что человек не обречён выбирать между пустыней анонимного «обмена информацией» и фатально-разрушительным столкновением противоборствующих жизней. «Безумные речи» даоса говорят о естественном содружестве единичного и единого, неповторимого и непреходящего. Они говорят о музыкальной полноте бытия, в которой самопознание оказывается неотделимым от соучастия в мировой жизни, подобно тому, как музыка, собирая звуки в одно целое, лишь отчетливее выявляет уникальные свойства каждого из них. В каждом образе, термине, сюжете своего необычного повествования даосский автор говорит о свободе быть кем угодно, о свободе быть...
Быть — кем? Даосы отвечают на этот вопрос с полнейшей, истинно «безумной» откровенностью: быть «таким, каким ещё не бывал», жить творческим мгновением, где настоящего «уже нет», а будущего «ещё нет». Их странные речи как будто указывают на скрывающегося за всеми образами человека его тёмного двойника — вечно ускользающего и всё же не позволяющего ему утратить сознание своей целостности. Эта величественная тень человека, этот, говоря словами Чжуан-Цзы, «истинный господин» в каждом из нас кажется недоступным и даже невозможным. И все-таки он непреложен. Настоящий человек, утверждали даосы, «не может быть», и именно потому «не может не быть».
Позволять свершаться со-общительности сердец во всяком сообщении, позволить всему быть самим собой и в этом бесконечно превосходить самого себя, позволить уклонению свершаться неуклонно — вот, согласно заветам даосов, миссия человека и самое человеческое — хотя отнюдь не слишком человеческое — начало в нас. И хотя даосы толкуют о безусловной свободе человеческого духа, их заветы не имеют ничего общего с интеллектуальной вседозволенностью — столь же благодушной, сколь и зловещей. Свобода не может быть ущербной. Как ни зыбка, как ни неопределённа на первый взгляд позиция отцов даосской традиции, она предельно определенна именно в своей истине со-общительности. Но открыть эту истину — значит измениться самому. Недаром еще Гераклит сказал, что у каждого спящего свой мир, но лишь пробудившиеся от сна живут в одном общем мире.
О Чжуан-Цзы и его времени
Нет сомнения, что Чжуан-Цзы (его личное имя было Чжуан Чжоу) — реальное историческое лицо. Но сведения об этом человеке крайне скудны и не вполне достоверны. Краткую и единственную в древнекитайской литературе биографическую справку о Чжуан-Цзы поместил в своих «Исторических записках» знаменитый историк древнего Китая Сыма Цянь. По сведениям Сыма Цяня, Чжуан-Цзы жил во второй половине IV в. до н.э. и умер в начале следующего столетия. В то время, которое традиционно именуется эпохой Борющихся царств (Чжаньго), на территории древнего Китая существовало несколько самостоятельных государств. Чжуан-Цзы был родом из небольшого царства Сун, располагавшегося в южной части равнины Хуанхэ, почти в самом центре тогдашней китайской ойкумены. Если верить Сыма Цяню, в молодости Чжуан-Цзы был смотрителем плантаций лаковых деревьев, а на склоне лет, не желая более отягощать себя государевой службой, ушёл в отставку и стал вести жизнь свободного философа. Даже среди учёнейших мужей своего времени он выделялся, по слову Сыма Цяня, широтой познаний. К этому можно добавить, что древние летописи действительно упоминают о существовании в царстве Сун знатного рода Чжуан. Последний ещё на рубеже VII-VI вв. до н.э., после неудачной попытки дворцового переворота, навсегда сошёл с политической сцены. По обычаям той эпохи, наш философ считался отпрыском этого рода.
Все прочие известия о даосском философе (в том числе и приводимые Сыма Цянем) относятся уже к его литературному образу, каким он складывается из текста приписываемого ему трактата. Конечно, этот образ по-литературному символичен. Но ничего «литературного», нарочито глубокомысленного в нём нет. Чжуан-Цзы неизменно предстаёт простым, скромным, начисто лишённым тщеславия человеком. Он живёт в бедности и даже «плетёт сандалии», но не чувствует себя стеснённым и со смехом отказывается от предложения стать советником правителя. Он беседует с учениками, друзьями, а то и с черепом, лежащим в придорожной канаве, удит рыбу, смеётся, рассказывает о своих снах, любуется рыбами, резвящимися в воде, — короче говоря, живёт весело и бесхитростно. Ни тени высокомерия, учёного чванства, холода души. Чжуан-Цзы живёт в своё удовольствие и утверждает, что мир его радует. Он весел даже тогда, когда хоронит жену и умирает сам. Но улыбка Чжуан-Цзы сообщает о чём-то бесконечно большем, чем весёлый нрав или сатирический талант. В том-то и дело, что даос находит подтверждение своему величию в самоумалении, он прозревает в себе беспредельное благодаря «знанию предела в себе». Даосский мудрец ищет покоя и одиночества, но он вмещает в себя весь мир и кажется странным лишь тем, кто отворачивается от жизненной непосредственности в самих себе.
Исторически время жизни Чжуан-Цзы совпало с периодом радикального переустройства древнего китайского общества. Никогда бег китайской истории не был столь стремительным и напряжённым, как в эпоху Чжаньго — эпоху вызревания китайской империи со всеми её институтами, ценностями, интеллектуальной традицией, которой предстояло просуществовать более двух тысяч лет. В жизненности императорского Китая причина жизненности идейного наследия эпохи Чжаньго, как бы ни был отличен её политический и духовный климат от условий существования в позднейшей империи.
В политическом отношении то было время, как уже говорилось, раздоров и ожесточённой борьбы между отдельными царствами. Одни из них боролись за верховенство, другие — просто за выживание, но все следовали одному безжалостному правилу: «Горе побеждённым!» Отсутствовала политическая стабильность и внутри царств: интриги, вероломные убийства, узурпации престола стали повседневной реальностью дворцового быта. То был поистине железный век: век железного оружия и железной воли к власти.
Среди воюющих государств почти затерялся домен чжоуского вана, когда-то, несколько веков назад, являвшегося верховным правителем, а потом долгое время считавшегося таковым. Институты Чжоуской династии давно устарели, и во времена Чжуан-Цзы дом Чжоу растерял последние остатки своего авторитета. Но он оставил в наследство новой эпохе идею политического единства и смутный идеал «благого правления». Тут кроется вся двусмысленность и неопределённость этого времени: нравственные идеалы, провозглашенные чжоусцами, стали служить оправданием насилия и циничного обмана.
Как же расставался древний Китай со своим архаическим прошлым? Вот показательный пример: рассказ о чиновнике по имени Симэнь Бао (V в. до н.э.), правителе области Е близ реки Хуанхэ. Симэнь Бао прославился тем, что пресёк местный обычай принесения девушек в жертву (в жены) богу реки Хэбо и изгнал руководивших ритуалом шаманов. Он также построил большую оросительную систему и расселил на орошаемых землях крестьян. Впоследствии для местных жителей Симэнь Бао сам стал божеством. Преемником же речного бога он оказался потому, что, укротив своенравную реку и заставив её служить людям, как бы перенял божественную силу Хэбо. Этот рассказ о чиновнике — победителе бога реки примечателен странным сочетанием мифологических мотивов и назидательного исторического повествования. Предмет мифа — магическая сила жизни — сливается в нём с правилами и ценностями цивилизации, установленными самими людьми. Черты подобного «скрытого мифа» обнаруживаются и в легендах о чиновнике Ли Бине, назначенном правителем в юго-западную область Шу. Там Ли Бин силой своих чиновничьих регалий победил в схватке бога реки, который, как и Хэбо, был божеством родовой общины и получал в жёны местных девушек. Подобно Симэнь Бао, Ли Бин вёл крупные гидротехнические работы и был обожествлён. Правда, как и в случае с Симэнь Бао, последнее обстоятельство не упоминается в историографической традиции служилых верхов.
Легенды о Симэнь Бао и Ли Бине обнажают не только религиозную подоплёку административной власти в императорском Китае, но и историческое содержание этой религиозности как преодоления архаической религии. Новая религиозность, как подсказывают те же легенды, воплощалась непосредственно в административной технологии империи, сколь бы странным ни казался в наши дни союз религии и техники. Она превосходила архаическую религию, ибо империя сложилась на развалинах родового строя. И она же являла собой её своеобразный гипостаз, поскольку древневосточная деспотия, по слову К. Маркса, была «общиной более высокого порядка».
Нельзя не поражаться странной двойственности цивилизации императорского Китая. При наличии резкого разрыва с мифологией, почти без остатка вытесненной историческим, точнее, псевдоисторическим сознанием, а также индивидуалистических тенденций в культуре, рационального устройства государства, развитой научной и технической мысли эта цивилизация восприняла многие черты архаического наследия: родовой концепт социума и власти (государство сводилось к «телу династии»), мифологему мирового тела, сакрализацию космоса, соединение религии и технических систем в нерасчлененной целостности — одновременно общественной и космической — имперского мира.
Кризис чжоуской культуры был, прежде всего, кризисом архаического ритуала, его распадением на сугубо формальный этикет и закон, нравственный подвиг и магическое действие. Все эти аспекты культуры получили в дальнейшем самостоятельное существование. Но уже в чжоускую эпоху наметился характерный для китайской традиции путь к преодолению этого кризиса, выразившийся в акценте на экономии выразительных средств ритуала, на сдержанности и нравственно оправданной рефлексии его участников. Данный путь, оставляя проблематичным статус ритуала как формального, традицией предписываемого действия, делал его нормой этического и эстетического осмысления жизни.
Проявления «ритуалистической модели» мысли можно наблюдать практически во всех областях культурного самосознания в Китае. Вся общественная жизнь осмыслялась в категориях ритуального всеединства, нераздельной цельности водного потока: не следует прилагать усилий для того, чтобы заставить поток течь в том направлении, куда он стремится по своей природе, но горе тому, кто захочет преградить ему путь. В безбрежном потоке социально-космического бытия царит недвойственность, с одной стороны, животворного духа (именно: дуновения — фэн) имперского правлений и, с другой — его объективированных воплощений, представленных в формах быта, локальных обычаях, нормах поведения и т.п. (су). Персона монарха смыкается с анонимной стихией народной жизни. Ее фоном, как на старинных европейских портретах, выступает целый мир: монарх, как Единственный человек, претворяется в мировое Всё. Истинное согласие достигается через различие, единичное непосредственно изливается во всеобщее.
Новая концепция «пути всех путей» соответствует, как уже было сказано, зарождению метафизики. На этой стадии развития мысли первоначальные представления о священной силе, воспринимавшейся только в ее единичных проявлениях и как нечто необычное, перерастают в идею абсолюта как скрытой основы мира, источника мирового движения и неизбежной Судьбы всех вещей. В китайской традиции абсолют как вселенский Путь вещей совершенно безличен, и стяжание его могущества, соответствуя полному раскрытию человеческой природы, требует все же «сверхчеловеческих» усилий, устранения всего субъективного, чувственно и рассудочно обыденного. И наоборот: антропоморфные боги архаической, религии оказались фактически на положении демонов, оборотней, то есть тех, кто обладает человеческим обликом и вредоносным для человека «нутром».
Столь радикальная трансцендентность универсального Пути в китайской мысли дополняется столь же радикальным утверждением его имманентности миру и человеку. Реальность в Китае никогда не субстантивировалась и не отождествлялась с первоначалом, отличным от мира изменчивых вещей. Она была, если здесь уместен парадокс, «сущностью перемен», принципом движения, превосходящим всякие принципы. Она была именно дорогой, потому-то понятие «Дао» никогда не теряло связи с его буквальным значением. Между небесным и человеческим в действительности нет зазора, на реальность нельзя «смотреть».
Едва ли не самая примечательная черта классической китайской культуры — отсутствие вкуса к созерцанию статичных форм. Пышная явленность церемониала, сладкозвучие музыки, монументальность архитектуры, пластика человеческого тела неуклонно отвергались ею. Разрушение форм архаического ритуала и мифа было настолько полным, а стремление усвоить их содержание настолько сильным, что в древнем Китае не сложилось устойчивой традиции театра и скульптуры. Объективированной красоте, располагающей к созерцанию, китайское искусство противопоставляет внутреннее видение, постижение жизни изнутри, проникновение в скрытую силу вещей, растворение в объекте созерцания.
Стремление осмыслить реальность одновременно в двух её измерениях — в трансцендентном и имманентном — знаменует начало нового, критического и рефлективного, вопрошания человека о мире и о себе. Оно знаменует начало философии. И первым среди китайских философов по праву считается Конфуций, открывший нравственное измерение человеческого сознания и его трансцендентную значимость. Вся система конфуцианской мысли построена на идее этической связи внутреннего и внешнего в человеческой жизни. Конфуцианство настаивало на публичности морального действия, так что ревностные его поклонники, даже находясь в одиночестве, «держались так, словно принимали почётных гостей». Но его отличает акцент на интериоризации морального идеала, «глубоком уединении» идеального человека.
Проповедь Конфуция заложила основы китайской традиции. Она впервые определила культуру как синтез жизненной спонтанности, нравственного усилия и верности традиционным формам. Она впервые сделала человека хозяином самого себя, потому что она сделала его мостом к самому себе. Она стала первым и принципиально консервативным опытом гармонизации общества и государства на основе семейных добродетелей. Тем самым она очертила круг классических тем китайской культуры и главнейшую из них — проблему претворения (в Китае говорили «наполнения» или, лучше сказать, «восполнения») судьбы, приравненной к природе, поиска себя в том, что превосходит субъективные тенденции. Наконец, она открыла внутренний мир человека с его понятиями нравственной ответственности, выбора и раскаяния. Как обладатель «воли» (чжи) к реализации Судьбы, человек наделялся энергией, необходимой для поддержания жизненной гармонии космоса; он вставал в центр мирового процесса.
Конфуцианство стало главным элементом культурной традиции служилой элиты империи (недаром само слово «конфуцианец» в древности было синонимом слова «учёный»). Хранители этой элитарной культуры известны под разными именами, например «благородный муж» (цзюнь цзы) или «достойный человек» (сянь жэнь). Но чаще всего их называли ши. В чжоуском обществе так именовали воинов или приближённых знатных аристократов, связанных с господами узами личной преданности. Те, кто называл себя ши в эпоху Борющихся царств, унаследовали свойственный их предшественникам пафос служения, но теперь он обрёл черты внутренней аскезы, а сами ши рассматривались как специалисты в делах администрирования и политики, а также как нравственно безупречные мужи, необходимые для осуществления «благого правления».
В обществе служилых людей была своя элита — так называемые странствующие учёные (ю ши), искавшие применения своим талантам и удовлетворения своих амбиций при дворах правителей царств и уделов. Эти пришлые дипломаты, стратеги, администраторы, наставники внушали государям куда больше доверия, чем аристократы, кичившиеся своими наследственными привилегиями. Некоторые из них, найдя приют на чужбине, без колебаний поднимали руку даже на своё родное царство. В среде чиновников-профессионалов и независимых учителей мудрости сложились все классические школы китайской мысли. Различия во взглядах не мешали этим свободным учёным отчетливо сознавать свою принадлежность к общему кругу идей и, главное, свою великую миссию «водворять порядок в Поднебесном мире».
Политический и моральный авторитет ши имел, однако, и свои теневые стороны. Те, кто добивался репутации «истинного ши», требовали от власть имущих особых знаков внимания. Более того, самым надёжным способом приобрести политический капитал был отказ от почестей или даже приглашений ко двору, дабы не дать повода быть заподозренным в корыстолюбии и тщеславии. Демонстрация своей «возвышенной воли» была тем более необходима, что «достойными мужами» не рождались, а становились: претензии на собственную исключительность должны были получить публичное признание. Однако далеко идущие, истинно вселенские по своим масштабам претензии ши наталкивались на тенденцию к усилению деспотической власти. Утверждать свою независимость в отношениях с государем значило открыто бросить вызов его державным полномочиям. Поэтому власть имущие и претенденты на звание ши были вовлечены в особую ритуальную игру признания социального лица обоих партнёров — игру, требовавшую необычайной деликатности и отнюдь не исключавшую трагического исхода.
Чиновники и шаманы. Чиновники-маги. Чиновники-мистагоги. «Внутри святой, снаружи государь». Оппозиция и соединение этих начал очерчивают культурный горизонт духовного мира ши. Как ни разнообразны, порой полярно противоположны взгляды создателей классических школ китайской мысли, у этих взглядов есть и некая общая основа, свойственная их положению профессиональных интеллектуалов. Начать с того, что все они апеллировали к всеобщему и единственно верному, с их точки зрения, мировому порядку — прообразу универсальных законов разума. Так, провозглашённый Мо-Цзы принцип «всеобщей любви» был усвоен даже противниками его доктрины, в частности софистом Хуэй Ши. Целый ряд философов выдвинули принцип «равного отношения к вещам», или «поравнения вещей», усвоенный и развитый самим Чжуан-Цзы. Обращение философов к всеобщности рациональных принципов предопределило и прочие особенности их миросозерцания и социальной позиции: индивидуализм, проявлявшийся помимо прочего в требовании осознания и осуществления своего индивидуального долга, претензии на роль учителей мудрости, пацифизм, веру в мирное и справедливое разрешение политических конфликтов.
Но, доверившись силе интеллекта, став первым — и последним — в китайской истории поколением свободных мыслителей, призвавших разум править миром, философы эпохи Чжаньго неизбежно должны были воплотить в своей судьбе и внутренние противоречия чистого умозрения. Из верности логическим умозаключениям им пришлось отказываться от той самой независимости, которая позволила открыть эти законы. Начав с восстания против конфуцианского традиционализма и обещания предъявить миру универсальные критерии истины и лжи, эти философы, погрязнув в спорах об определении понятий, в конце концов, призвали «отречься от себя, отринуть знание». Единственным реальным прототипом их утопии разума стал призрак деспотической государственности. грозивший поглотить самих прожектёров.
Чжуан-Цзы — проницательный свидетель краха иллюзий «странствующих философов». И он не хочет повторять их ошибок. Мораль? Не бывало ещё подлеца, который не клялся бы её именем. Награждать за заслуги и наказывать за проступки? Злодея наказаниями не исправить, а порядочный человек и без наград будет жить честно. Государство? Пусть оно существует, но так, чтобы его никто не замечал. Вот весёлые истины этого заклятого врага всех учёных невежд, убеждённых в том, что они знают, «как надо». И первыми среди них стоят знатоки «социальной инженерии» деспотизма, мерящие людей безликим стандартом «угломера и отвеса» государственных законов, мечтающие всех затащить в прокрустово ложе казённых регламентов и ради торжества единой меры, готовые, по крылатому выражению Чжуан-Цзы, «вытягивать ноги уткам, отрубать ноги журавлям».
Чжуан-Цзы на редкость прозорливо для своей эпохи разглядел агрессивность и массовую паранойю, скрывавшиеся за демагогией деспотического порядка. Он смог увидеть, что внешнее насилие есть не более чем продолжение насилия внутреннего и его кажущаяся немотивированность обманчива, ибо исток насилия заключается в самом стремлении гипостазировать ценности, помыслить сущности, опредметить себя и мир. Зло, утверждали даосы, появляется в тот момент, когда начинают призывать делать добро ради добра. И всякая дискурсия, всякая самоапология несут на себе родовое пятно этого первичного насилия, которое, будучи мерой отъединённости человека от мира, оказывается на самом деле не чем иным, как проявлением его бессилия. Отсюда вся двойственность отношения Чжуан-Цзы к известным ему апологетам цивилизации — конфуцианцам и монетам. Он гневно клеймит этих поборников «гуманности», «справедливости», «культурных достижений» и т.п., которые не замечают или не желают замечать, что общество, в котором они проповедуют, превращено с их помощью в толпу колодников, ждущих своей очереди положить голову на плаху. Но он и снисходительно смеётся над ними, ведь их величественные проекты общественного спасения словно очерчивают сферу человеческой беспомощности.
Даосы восстают против мертвечины и скрытой жестокости имперского порядка. Они против узды для лошадей, ярма для буйволов, клеток для птиц, конформизма в обществе людей. Они за полнокровную, естественную, привольную жизнь для каждого живого существа. Шестой палец на руке может показаться лишним, но и его нельзя отрубить безболезненно. Конечно, для того чтобы думать подобным образом, совсем не обязательно быть даосом. Отрицание искусственных разграничений, устанавливаемых цивилизацией, апология ценности жизни «как она есть» были заметным фактором в интеллектуальной жизни эпохи Чжаньго. Известно, что в одно время с Чжуан-Цзы в южных краях Китая жили так называемые философы-земледельцы, заявлявшие, что правители должны пахать землю наравне с крестьянами. Другой популярный в то время философ, Ян Чжу, объявил мудростью умение прожить с наибольшим наслаждением отведенный каждому жизненный срок. Главный принцип Ян Чжу — ничем не жертвовать из данного тебе природой ради внешних приобретений, ибо обладание целым миром не может компенсировать потери даже одного волоса.
Но позиция Чжуан-Цзы намного сложнее. Он превосходно знает общество «странствующих учёных». Ему известна изнанка его славы. Но он стоит в стороне и зовет к пересмотру ценностей культуры ши. Более того, в творчестве философствующего «простака из Сун» мы наблюдаем вторжение в идеологию учёной элиты иного типа духовности, которая враждебна всем кодам культуры и питается опытом экстатического общения с космической Силой. Чжуан-Цзы охотно обращается к образам, почерпнутым из шаманистского наследия, к эзотерической практике аскетов и отшельников и поёт дифирамбы таинственным «божественным людям», обладающим сверхъестественными способностями. Но он не претендует на звание магистра оккультных наук и не ищет спасения в безлюдных горах.
Очевидно, цель Чжуан-Цзы состоит не в том, чтобы выбрать тот или иной «принцип», а в том, чтобы преодолеть ограниченность всякого принципа и всякой точки зрения. К примеру, влияние Ян Чжу заметно в некоторых сюжетах книги Чжуан-Цзы, но последнему чужды гедонизм и бухгалтерские подсчеты выгод и убытков в жизни. Даосский автор требует неизмеримо большего: лелеять жизнь посредством «отрешения от жизни». Хотя Чжуан-Цзы восхищён аскетическим подвигом отшельников, он не считает необходимым порывать с миром, и даже служба не помеха его мудрости. Одним словом, позиция Чжуан-Цзы есть последовательное разоблачение любой формальности, любой попытки универсализации частного опыта, любой аргументации, опирающейся на логико-грамматические категории или исторические прецеденты. В этом суть даосской критики мысли — критики принципиально умеренной, так сказать профилактической.
Чжуан-Цзы — свидетель глубочайшего кризиса доверия к человеку в том смысле, что истина, по его убеждению, лежит «вне человеческих понятий». Но это означает лишь, что человеку, в его представлении, уготована несравненно более великая участь, чем та, которая может быть постигнута мыслью, ограничивающей бесконечность жизни конечными понятиями. Чжуан-Цзы уподобляет нормы культуры постоялым дворам на пути к истине. Мудрые могут остановиться в них на ночлег, но не задерживаются там. Наутро они снова пускаются в странствие по беспредельности не-мыслимого.
Философия даосов — это приглашение к путешествию вовне себя и всё же к себе, самому восхитительному и всё же самому естественному путешествию в жизни человека.
Язык и Истина
Чтобы, понять наследие Чжуан-Цзы, нужно первым делом уяснить природу его совершенно необычной писательской манеры. Уже в последней главе книги, носящей его имя, помещён следующий отзыв о древнем даосе:
«В речах необыкновенных и неистовых, в сумасбродных выражениях, в словах дерзновенных и непостижимо-глубоких он давал себе волю, ничем не стесняя себя, и не держался определённого взгляда на вещи. Он считал, что мир погряз в скверне и ему с ним не о чем говорить... В одиночестве скитался он с духовными силами Неба и Земли, но не взирал свысока на тьму вещей. Он не рассуждал о том, что есть истина, а что ложь, и потому был в ладах с миром. Хотя писания его вычурны, дерзновенность их безобидна. Хотя речи его сумбурны, неистощимая их новизна доставляет удовольствие. В них таится неизбывная полнота смысла. Вверху он странствовал вместе с тем, что творит вещи; внизу дружил с тем, что превосходит жизнь и смерть, не имеет начала и конца. В основе своей он необъятно широк и непосредственен. В вершине своей он, можно сказать, всё постиг и достиг совершенства!»
Чжуан-Цзы — не литератор, желающий развлечь читателя, но и не философ, ищущий всеобщую истину. Он писал не ради художественного эффекта, а для того, чтобы обнажить «неизбывную полноту смысла». Но он не искал логических формул истины, а «давал себе волю в дерзновенных речах». Чтобы постичь «необъятную основу» мыслей даоса, недостаточно быть готовым принять ту или иную мысль, идею или точку зрения, ведь этот «друг Неба и Земли» не держался «определённого взгляда на вещи». В сущности, речи Чжуан-Цзы призваны не выражать, а укрывать истину, все его образы — только маски, которые самой своей нелепостью сообщают об их нереальности. Как ни странно, мудрость даосского писателя равнозначна способности говорить «не то» и «не так», а течение его мысли предстаёт вызывающе лёгкой игрой без границ и правил, нескончаемой чередой самоотрицаний — ошибок, промахов, «творческих неудач». Не книга философа, а какой-то философский курьёз. Но курьёз этот заставляет задуматься над парадоксальным взаимопроникновением смысла и бессмыслицы.
Чжуан-Цзы и сам дал глубокомысленную оценку своему письму. Девять из десяти частей истины, говорил он, выражаются в иносказаниях. Семь из десяти частей истины содержатся в высказываниях от лица «людей, чтимых в свете», причём в уста этих знаменитых мужей былых времён вкладываются суждения, которые не согласуются с их традиционным образом. Но превыше всего Чжуан-Цзы ценит слова, которые «подобны перевёртывающемуся кубку, всегда новые, как брезжащий рассвет, и сообразуются с Небесным единством».
Очевидно, даосский автор говорит не для того, чтобы что-то определить, о чём-то рассказать или даже чему-то научить. У него другая цель: намекнуть на несказанное и побудить читателя самому открывать для себя неназванный, неявно присутствующий в словах смысл. Его речи — приглашение к безмолвно постигаемой каждым и всех объединяющей правде. Даосское «сообщение о Дао» потому и значимо, и значительно, что хранит в себе внутреннюю глубину смысла, от всех ускользающую и всё же всем внятную, ибо они есть прообраз внутренней глубины самого сознания.
Даос не владеет своей правдой. Он создаёт свой текст как пространство смысловой свободы. Это текст, освобождающий и писателя, и читателя: и тот, и другой в равной мере вольны не знать, о чём сообщается в «сообщении о Дао». Это текст, который непрестанно устраняется от самого себя, теряет свои стилистические признаки: слова в нём ведут себя подобно тому кубку для вина, который, согласно древнему комментарию, «опрокидывается, когда полон, и стоит прямо, когда пуст». Иначе говоря, слова у Чжуан-Цзы «не держат» своих значений, вечно освобождаются от прилипших к ним смыслов и, напротив, твёрдо стоят на своем месте, когда они пусты, бессмысленны в свете общепринятого их употребления.
Истинная мудрость, говорит Чжуан-Цзы, пребывает «между словом и молчанием». Но что же это за мудрость, о которой не ведают не только читатели даосского канона, но и сам его создатель, признающийся, что говорит «просто так», «наобум», не умея определить для себ
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Пикассо Пабло
Пикассо Пабло (полн. Пабло Руис-и-Пикассо; Ruiz-y-Picasso) (25 октября 1881, Малага — 8 апреля 1973, Мужен, Приморские Альпы), французский живописец, по
- Индоевропейский миф и эпос «Манас»
Чингиз ШамшиевЭпопея «Манас» хранит в себе множество тайн. Еще не скоро окончательно прояснятся вопросы о происхождении эпоса, его изна
- Умельцы и мудрецы казахских степей
Александр Кадырбаев, Турсун СултановИстория непредсказуема. Порою громкое событие, будоражившее общество, может скоро забыться и стать
- Народные игры казахов Южного Алтая
Е.Б.Абатаев, Бийский Государственный педагогический институтИгры во все времена имели огромное общественное значение. Возникновение и
- Эпическое мышление в истории киргизского фольклора
Пайзилда Ирисов, доцент кафедры киргизской литературы Ошского государственного университета, Республика Кыргызстан.Общеизвестно, что
- К этногенезу бурят по материалам этнонимии
Б.З.Нанзатов Этнонимия всегда была объектом исследования этнической истории. Одним из главных пунктов в разрешении проблемы этногенеза
- Пища казахов Западной Сибири: традиции и новации
Ш.К.Ахметова Как известно, пища относится к одному из наиболее важных элементов материальной культуры, являясь носителем этнической спе
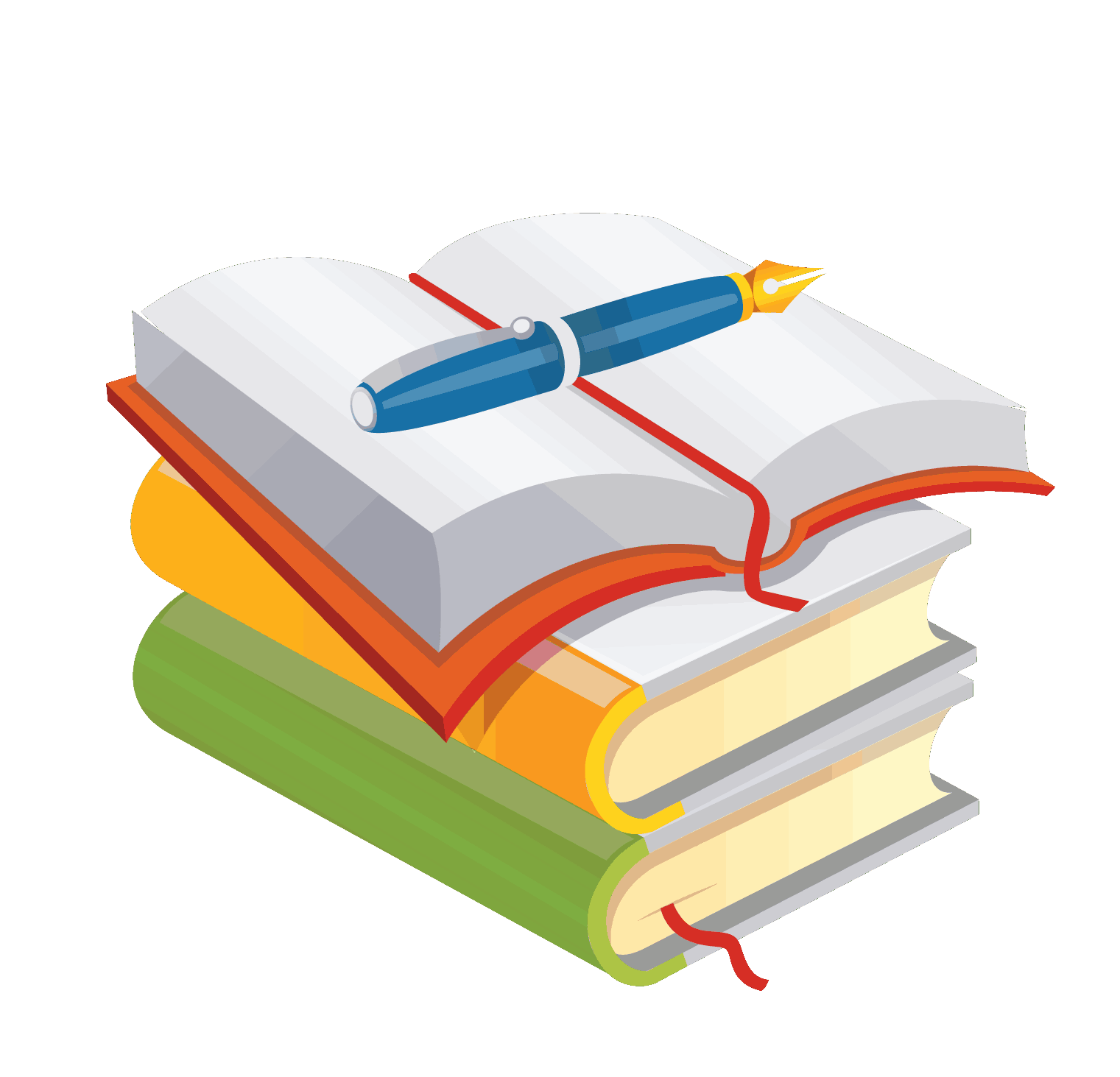 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.