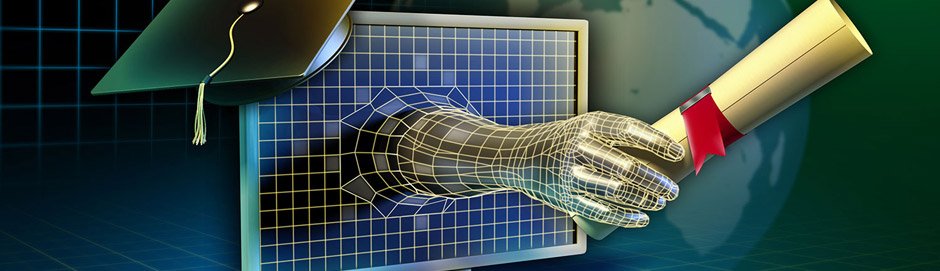Мир наничку, или негероический пессимизм
Алексей Прокопьев
Эссе о чувашском песенном фольклоре
Мой земляк и однофамилец священник Константин Прокопьев в 1903 году писал: " В чувашской поэзии часто бросаются в глаза отрывочность изложения, бессвязность, неясность сравнений, странные переходы от одной мысли к другой.
Иногда встречаются выражения, не имеющие действительного смысла. Объясняется это тем, что чуваши весьма любят в стихах созвучие в словах (аллитерация) и рифму, причем под рифму они подгоняют слова не только в конце, но часто и в начале стиха. Из лю6ви к рифме и созвучию они часто жертвуют и смыслом песни, и связностью построения ".
Что верно, то верно. Любовь к рифме и созвучию у чувашей никаких сомнений не вызывает. Но соответствует ли истине несколько свысока брошенное замечание о том, что чуваш часто готов пожертвовать смыслом? Этот слегка поверхностный взгляд, несмотря на то, что автор пассажа - сам и чувашей, выдает в нем священника-неофита, из рвения и по сану своему не умеющего в принципиально нехристианской картине мира распознать довлеющие ей архетипы.
Попробуем вглядеться в наиболее странно звучащие места из сборника чувашских песен Ашмарина. Я нарочно буду давать нелитературный, буквальный подстрочник, выполненный профессором Императорского Казанского университета.
Чуваш поет о том, что он слышит. А слышит он пение птиц. VI:
" Привольно поет кукушка между листьев и почек деревьев; привольно поет соловей между осокою и тростником; а вся эта наша жизнь только и проходит, что между одними заботами и горестями ".
Если реконструировать смысл, танцуя от русской печки, - виноват, русской песни, - то сразу бросается в глаза в общем расхожий параллелизм: жизнь сравнивается с птицами, а заботы и горести - с растительным миром. Горести и заботы для жизни - все равно что осока и тростник для птиц. И если не особенно вдумываться, то смысл получается таким – что может быть привычнее, естественнее в жизни, чем заботы и горести. Действительно, на фоне такого банального смысла все странности текста могут по-казаться нелепостями или неловкостями. Можно только недоумевать по поводуневразумительного " между листьев и почек деревьев " . Но все дело как раз вэтом " между " . Словом " между " задается пространство, без определения которого ни одна чувашская песня не обходится. Мир явлен обязательно г д е-т о, пространственные координаты - непременное условие для его явления и бытия. Мало того, словом " между " пространству немедленно придается сакральный смысл, ведь если ты между чем-то и чем-то, потеряться уже никак нельзя, и от забот и горестей никуда не деться.
С пространством поэтому шутки плохи, и отношения с ним сложные, что хорошо видно, например, в песне VII: " Черная ласточка летит вверх, - есть ли где отдохнуть ее крыльям? Несчастные у нас головы, - есть ли где отдохнуть нашей душе? " Кажется, весь национальный характер уместился в этих словах. Сказано: вверх. Но не сказано: в небо. Сказано: есть ли где? Но не сказано: нигде нет. Из сказанного и несказанного смысл составляется примерно следующий: здесь, внизу, где от забот и горестей деться некуда, ласточке не место, поэтому она летит вверх, и там, наверху (неважно, небо там или что еще - может, небо, а, может, и нет) - там, наверху тоже еще неизвестно, сможет ли наша душа отдохнуть - может, сможет, а, может, нет. Чуваш как бы верит не веря, и не верит веруя. Он как бы оставляет себе робкую веру за счет своей же деликатности, ненавязчивости, нетвердости, переходящей в самый что ни на есть трусливый эгоизм. Деликатность по отношению к небу такова, что он боится его даже назвать. Как поется в одной удмуртской песне:
Я в Казани встретил чуваша -
Больно смирен был чувашин.
Не горюй, не плачь, чуващин.
Солнце ведь повсюду одно.
Чуваш не уверен даже в том, что там, наверху, небо, и в том, что солнце повсюду одно, в этом его надо еще убедить. Но и нельзя сказать,чтобы он совсем не верил, крохотную лазейку непременно оставит себе - так построит фразу, чтобы она не допускала однозначного толкования. Вера его узка, как стеклянный мост.
Х: " Эх, уходим мы, родной, уходим, заставив намостить стеклянный мост; стеклянный мост будет узок, а то, что мы увидим и услышим, будет для нас печально ".
Даже если не знать, что это песня рекрутов, она не может не тронуть своей безысходностью. Но и сама безысходность оформлена эстетически: пространство как бы раскалывается пополам, заменяя собой несуществующее время - между тем, что было, и тем, что будет - только стеклянный мост, и тот заведомо узок. И опять это " между " - пространство все время (?) грозит сжаться, как тут не вспомнить пресловутое игольное ушко, сквозь кото-рое легче пройти верблюду, чем богатому попасть в царствие небесное. (Мф. 19, 24) Но то, что в Евангелии - притча, в фольклоре - координаты архетипического. В таком миропонимании и следа нет от русского раздолья, широты и удали молодецкой, все намного уже, беднее, камерней, но и красивее, роднее, и вместе с тем неустойчивей, трепетней. Трепет и неустойчивость порождают цепь метаморфоз, отдаленно напоминающих греческую архаику, без следов классической пластичности, но зато в буйной динамике непрерывных превращений.
ХIV: " Кабы я знал, что в этом году будет набор, так лучше бы мне стать чемерикой без семян, вырасти бы в чистом поле, срезаться стальной косою, упасть пластом до колен вышиною, сгнить от мелкого осеннего дождя, улететь бы мне по вихрю, пристать к черной туче, стать кучками облаков, мелко-мелко падать мелким дождичком, оживлять плохие озими, сделаться богом (стать благодатью) для честного народа ".
Другими словами - чем бесславно и бесполезно погибнуть в солдатах неизвестно где, лучше погибнуть растением. и, пройдя несколько природных циклов, стать в итоге еще одним богом для народа. Что это, как не идеология сорной травы, сорняка без семян? Целый народ входит в историю тем, что уклоняется от нее в пользу природной, растительной жизни, атмосферно-вегетативного круговорота.
Но здесь мифология спорит с идеологией. Уклониться невозможно. Можно только, в буквальном, нехристианском смысле, причаститься, то есть стать частью божественных сил, одним из богов, божественной благодатью, милостью божеств. Миф главенствует над идеей - но опять же за счет чего? За счет узкого выбора из двух зол - погибнуть придется все равно. Лучше погибнуть так, чем эдак.
А поскольку все всему родственно, то нет ничего лучше, даже и в великой нужде, чем видеть родных, разговаривать с ними, угощать родственников и гостить у них.
ХХХVIII: " С журчанием течет ручей, молодой скворец из него воду пьет. Когда молодой скворец пьет воду, какое до этого дело линю-рыбе? Когда родной беседует с родным, какое дело чужим людям? "
" Молодой скворец " правильнее было бы перевести как " птенец скворца ", " скворчонок " . Здесь все кажущиеся странности объясняются звуком - явленным и подразумевающимся. Птенец скворца может пить воду из ручья только в том случае, если он уже учится летать, а, стало быть, и петь. Он только что пробовал петь, теперь он пробует пить, и звук его еще не оперившейся песни, все еще продолжая звучать - потому что время в чувашской песне как будто бы не движется никогда, - звук его песни сливается со звучанием журчащего ручья. Это внешний план, правда, внешнее здесь скрывается в несказанном. Но внутренний план, напротив, во всеуслышание заявляет о себе: по-чувашски журчание ручья и имя " скворец " перекликаются между собой, так что становится совершенно неясным, где здесь журчание, а где пение. Скрытое, незримое заявляет о себе во весь голос, можно было бы даже сказать " во весь звук " , а явное, зримое, остается за рамками сказанного.
В двух мирах протекает беседа родного с родным, а явное с неявным, зримое с незримым, звук с непрозвучавшим играют в странную игру, в сакральные прятки. Если долго вглядываться в черно-белый узор, начинается игра: то белый цвет становится как бы выпуклым на фоне черного, то черный приобретает над белым главенство. Так антиномии Канта превращаются в черно-белые клавиши мироздания, и звучат уже не звуки, а сами клавиши.
Но, скажете, при чем же здесь тогда рыба-линь? С какой стати она тут взялась? Рыба-линь обозначает пространство в песне, причем, не все пространство в целом, а его половину. Пространство здесь снова разломано надвое, в одном мире - скворчонок, в другом - рыба-линь, так что вода преломляется в воздухе, а воздух - в воде, и в миг преломления вновь перед глазами играет тот метафизический стеклянный мост, о котором уже говорилось. Здесь он стал тонкой, узкой гранью между двумя мирами. Замечательно также, что тут вообще снимается оппозиция " верх - низ " , или, в более узком смысле, " небо - земля " , достаточно скромного " воздух - вода " , и такая скромность настолько архаична, насколько она, может быть, и актуальней затасканных околохристианской эзотерикой понятий.
Вот еще один, казалось бы, очень странный текст. ХLIV: " Если выстирать всего раз мою белую рубаху, и то белеет она, как белый снег, когда ее повесишь. Очень далеко живут эти родные: свиданье с ними дороже всего на свете ".
Тут, кажется, и параллелизма никакого нет. Первая часть песни - об одном, вторая - совершенно о другом. Понимал ли древний аноним этой песни, ч т о он сказал, совершенно не имеет значения. Как не имеет значения и то обстоятельство, что гораздо позднее из непонимания старых смыслов, но на формальной старой основе родился такой продукт городского фольклора, как частушка - очень позднее явление, заранее отметающее все святое и вскармливающее абсурд бытия. Не забудем все же, что не стоит искать параллелей, исходя из привычных представлений о русском фольклоре.
Благодаря контрасту между двумя частями текста, мы прямо-таки воочию видим пресловутый разлом пространства. Вот здесь - белая рубаха, крупным планом, а там, в отдалении, очень далеко живущие родные. У забот и горестей были пространственные координаты. Теперь мы видим, что и у радости - тоже, но с обратным знаком. Чем дальше - тем роднее, тем радость глубже. Приглядимся еще внимательней: белая рубаха чиста, как белый снег. Белая чувашская рубаха - квадрат по-преимуществу, такова ее выкройка. Здесь пространству задаются геометрические параметры. Мир - квадрат чистого белого снега, ибо рубаха, как это показано во многих работах по чувашской этнографии, - образ мира, символ всего мирового пространства в целом. Здесь не место останавливаться на этнографических подробностях. Существенно для нас то, что мир понимается фольклорным сознанием как белый чистый, как снег, квадрат. Мир - Белый Квадрат. Задолго до открытий русского авангарда, подарившего нам Черный Квадрат Казимира Малевича, неизвестный чувашский автор уже нарисовал подобную картину мира. Подобную, да не такую. Если Черный Квадрат - Кантова " вещь в себе " , или, точнее - Ding аn siсн sеlвsт, " сама вещь - сама по себе - по отношению к самой себе " , то Белый Квадрат, очевидно, то же самое, только другим цветом, навыворот, наизнанку, наничку, как говорят к востоку от Москвы, во владимирской, ярославской и нижегородской губерниях. Белый Квадрат - " вещность самости " , пребываюiцей в каждой вещи, как в себе самой. По аналогии с Ding an siсh selbst и для большей понятности ее можно было бы обозначить как Dingheit des Selbstes ohne Bedingungen . Другими словами, все, что обладает чертами самости, в высшей степени - вещно, все, что существует в самостоянии, должно соответствовать какой-нибудь вещи, и символом этой связи выступает Белый Квадрат.
Здесь чрезвычайно соблазнительно было бы обыграть русскую пословицу " своя рубаха ближе к телу " , показав изнанку, ничку смысла. Душа, эта рубаха своего " я ", des Selbstes - ничто иное, как самость тела в его вещной функции. И поэтому нет ничего ближе для человека, чем вещь. Но вещь вечна именно в этой системе координат. И тогда, в отличие от расхожих представлений, не душа живет в теле, преходящем, как все вещи, а вечное тело накидывает на себя бренную душу. И вот почему чуваш никак не может постичь пространственных соотношений. То, что должно было бы быть ближе всего к нему, как-то само собой отодвигается в далекую даль. Близкое-далекое начинает рябить в глазах фантастическим черно-белым орнаментом, и спасает от этого абсурда простое действие: если выстирать всего один раз рубаху, и то она будет бела, как снег. Наивно? Да. Но зато чисто. Там, где чисто - это по-чувашски. Жизнь вообще-то черна, и когда несчастья валятся на голову, то уж это никак не снег. Черными змеями люди ползут, когда приходят несчастья, там, где они прежде бегали, как резвые олени. Но стоит (всего один раз!) выстирать рубаху, и она превращается в символ, и мир разобъяснен как нельзя проще. Стоит ли докапываться до непостижимого, если оно само себя являет в вещах - простых и чистых, как снег или рубаха. Не надо совершать ничего особенного, да и нельзя ничего совершить, поскольку время остекленело, заледенело, как рубаха на ветру, став тонкой гранью между двумя мирами.
Хорошо только самое простое - встреча с родными, например. Когда время не то что бы останавливается, а истончается, становится стеклянным мгновением. А нет времени, значит, нет и истории. И, значит, невозможно христианство, ибо вне истории Христос не может явиться народу, и слова " при Понтийстем Пилате " ничего не означают. Жизнь человека проходит, она, конечно, конечна - но конечно то dаs zwеiте Sеlвsт, второе " я " , которое, как во сне, как в тумане, по законам, которые я называю законами мультипликации, где время себя ведет не менее странно, - второе " я " проходит где-то там, на заднем плане, в ином, преломленном, мире. Да и другого мира, в сущности, нет. Другой мир отличается от этого только характером преломления. Поэтому, строго говоря, ничего не проходит.
" Жизнь проходит - сургури возвращается.
Жизнь проходит - сургури не проходит ", - как поется в другой песне. И всему тому, что не проходит " , то есть никогда не кончается, соответствует какая-то вещь, будь это рыба-линь, или белая рубаха. Белый Квадрат, в этом смысле, можно было бы назвать " вещью вещи " . В роли вещи может выступать слово, и даже звук, и цвет, как это будет видно из дальнейшего.
Вот откуда любовь к аллитерациям и рифмам. Рифма, к тому же - зеркало зеркала, узкий стеклянный мост, тонкая грань, обледенелое время - надо ли продолжать?
Невозможность истории - оборотная сторона медали, изнанка, ничка этого прихотливого орнамента национального миросознания, так тонко чувствующего вещную красоту вечного, что это не может не оборачиваться безысходностью для целого народа.
ХLV: " При подъеме на высокие горы оборвались у меня ременные гужи, ознобил я себе концы десяти пальцев; когда я дул на концы десяти пальцев, пропал мой родной, бывший передо мною; когда я искал моего родного, истомилось от тоски мое сердце ".
Высокие горы - в чувашской поэзии - это вещь, соответствующая понятию " верха " . Когда поднимаешься вверх (умираешь, может быть?), то в мире ничего не остается, кроме холода, чистоты и одиночества. И, отражаясь, снова преломляются друг в друге зримое с незримым - тоскующее сердце и замерзшие пальцы. И там, наверху, как странно ломается от волнения голос.
LI: " На высоких горах - белая горница; вздумал я отворить и затворить ее в безветренный день. Ах вы, милые мои, родные! повидать я вздумал вас в свободный день ".
Радость видеть родных так велика, что, отворив дверь, можно ее только тут же затворить. Не говоря уже и о том, что первая строка - целиком зачин заговора. О " высоких горах " было сказано, а уж " белая горница " - и так уж слишком много чего называет из того, что чуваш не только произносить не должен, но о чем и подумать боится. Белая горница и отворяется поэтому на мгновение. Чем богато такое мгновение?
LV: " Вошел я в большую реку, думая, что мелко, думая, что есть там перстень с жемчужным камешком. Перстень с жемчужным камешком - свет реки, а мы у отца и матери - свет очей ".
Река, сияя, кажет нам такой свет, который в соответствующей ему вещности явлен перстнем с жемчужным камешком. И так же мы - для отца и матери: и есть мы, и нет нас - свет очей мы в реке вещности. Радость для глаз, но радость ускользающая, неверная. Это душа светит и сердце мерцает, с их вечным " и да, и нет - вернее, " ни нет, ни да " . Пессимизм? Разумеется. Но его негероический характер сообщает ему ту же мерцающую ценность - ни нет, ни да. Это мудрость или еще не открывшаяся миру, или уже отвергнутая им. Впрочем, для чуваша, живущего больше в пространстве, чем во времени, сие не существенно. В самом деле, что он может сказать об этом мире? Ну хотя бы какие вопросы задать?
LХIХ: " Что это за слова " ах, ах " ? Что это за птица, у которой пестрый зоб? - Пестрый зоб - это кукушка, а слова " ах, ах " - это горе! "
Горе привычно, и у него есть пространственная ниша - горе живет в зобу кукушки, и ничто не может помешать ему заполнить собой весь мир, как заполняет кукушка вссь мир своим безжалостным " ку-ку " . Есть ли выход из этой беспросветности?
LХХII: " Когда рысью бегут добрые кони, остается дорога. Когда умирают добрые люди, остается слава. А что останется, когда мы умрем? Эти игры и смех - вот что останется ".
Схожий мотив был подхвачен великим волгарем Велимиром Хлебниковым:
Когда умирают кони - дышат,
Когда умирают травы - сохнут,
Когда умирают солнца - они гаснут,
Когда умирают люди - поют песни.
Хорошие стихи. Но Хлебников слышал звон, да не знает, где он. Этим и интересен. Смысл фольклорной мифологемы намного глубже. Будем играть и смеяться, ибо всему свое место. Пространственность задается дорогой. Оказывается, ее не будет, если по ней рысью не пробегут добрые кони, а не наоборот, как думают недалекие почитатели любых форм прогресса. Но откуда возьмутся добрые кони, если не будет добрых людей? Мир, конечно, не без добрых людей, но если бы нас не было, то и ничего бы не было, потому что игры наши и смех - единственная вещь, единственная реальность, по нас оставшаяся. Мысль эта кажется простой лишь на первый взгляд. Речь не идет об устоявшемся противопоставлении смертное-бессмертное. В чувашской поэзии, как выясняется, не это существенно. Реальность, вещественность вечного прямо связана с тем истинным, что находит себе место, то есть, другими словами, с пространством. Дорога - слава - игры и смех - вещи вневременные, вечные. Эта дорога никогда не кончится, потому что она нигде не начиналась. Вечного нет без вещного. Qгсюда только последний шаг остается до той мысли, что, стало быть, вещная вечность нуждается в наших играх и смехе, а вовсе не в горестях и заботах, и без того априори разлитых в мире с избытком. Особенно весной, когда слышится кукушка.
Но с какой радостью слышишь ясный ответ на ясно поставленный вопрос!
LХХVI: " Зачем сотворены высокие горы? - Чтобы валялся на них молодой олень. Зачем родили нас отец и мать? - Чтобы видеть и знаться с добрыми людьми ".
С недобрыми людьми знаться придется в любом случае. Этого добра навалом. Но родили нас все-таки не для этого.
И вот негероический пессимизм, на мгновенье набравшись храбрости, уже боится, уже переживает. LХХVII: " Когда волнуясь течет вода, как это только выносят ее берега? Когда глаза видят, а душа любит, как это только терпит сердце! "
То есть, горе привычно, а вот от счастья-то сердце только и может разорваться. Вспомним Тютчева:
О Господи!.. и это п е р е ж и т ь...
И сердце на клочки не разорвалось.. .
У Тютчева сердце чуть не разрывается на клочки, скорбя об утрате возлюбленной, которая в том же стихотворении восклицает: " О, как все это я любила! " Не обращая внимания на возникающее здесь тонкое переплетение смыслов, вдаваться в которые мы сейчас не будем, основной пафос стихотворения все-таки прямо противоположен тому мирочувствованию, о котором идет речь.
Вообще в русской традиции сердце может разорваться, скорее, от горя. Но для чуваша счастье - вещь более хрупкая, это свет реки, или свет очей - мерцание того, что можно принять за перстень с жемчужным камешком. Такое мерцание дразнит своей вещностью, играет с ней. Но для того, чтобы увидеть эту игру, узнать это мерцание - надо родиться. Кажется, только чудо может позволить войти в этот мир, где время ведет себя непредсказуемо. И чуваш понимаст, что это ч у д о.
LХХVIII: " Спасибо небесному Богу и земному царю за то, что они управляют миром. Ах, батюшка и матушка! Спасибо вам за то, что нас родили. Если бы не родили нас отец и мать, где бы нам (видеть) эти (счастливые) дни ".
Боязнь упустить счастье опять выливается в сверхприродный такт, в надмирный этикет - в оригинале текста не говорится " видеть " и " счастливые " , оба слова подразумеваются. И просто откровением звучит LХХХIII: " Посреди черного леса качается гнездо ястреба; ястреба - на верхушках берез, а их крылья - в облаках. Наше тело в руках добрых людей, а наши души в руках Божиих ".
Только страх перед жизнью мог привести к таким " бесстрашным " словам. Это уже не песня, а какая-то оратория, славящая Господне творение. Казалось, никаких путей к Богу, но через густые заросли бед, горестей и несчастий суждено было пробиться к такой ясной, пронзительной и чистой мысли. И какой трепет бьется в смирении, с которым чуваш вверяет свою душу Богу, а тело - добрым людям. И любовь: люди - добрые, а руки - Божии. И церковь предчувствия: не мое тело и не моя душа, а наше, наши.
С высоты этого откровения вглядимся (именно вглядимся, а не только вслушаемся!) в текст СVIII: " У нашего дяди восемь амбаров; между восемью амбарами есть, говорят, верхний амбар. В верхнем амбаре лежит перина с пестрою наволочкою; на этой перине с пестрою наволочкой жених с невестою игру играет; между женихом и девушкой шелковый платок игру играет; в этом шелковом платке перепеленок душ у прибавляет. Не говорите, что парень бел: если полежит с девушкой, то покраснеет; не говорите, что девушка черна: полежит с мужем - пожелтеет ".
Тут необходимо пояснить, что " пожелтеет " в чувашском языке означает: станет красивее, просияет красотой, из черной, чернявой, превратится в " желтую " (русское соответствие - в красну) девицу. Мало того: верхний амбар - это чуть ли не белая горница на высоких горах. Эвфемизм для обозначения табуированного " верха " бытия. Так вот где, оказывается, играют игру жених с невестою! И неназванное число девять своей сакральностью (между восемью - значит, девятый) только усиливает высокую символику происходящего. У жениха с невестой в вечности свои игры, своя свадьба. Между ними - шелковый платок, он и есть, и как бы его нет, он такой тонкий, что через него все хорошо видно. В " верхнем " мистическом мире вещи истончаются, но не исчезают - и в этом тонкость, этим доказывается реальность, истинность мистического. Шелковый платок, кроме того, становится в один ряд с уже упоминавшимся узким стеклянным мостом - это та же граница между двумя мирами, между двумя, на сей раз, полами, которые, как и должно быть, играют между собой в свои игры. Но и этого мало.
Вещность этой вечности не равна себе самой, она все время себя превышает, превосходит, и в этом шелковом платке, то есть, на грани, на стыке двух играющих миров " прибавляет себе душу " птенец перепелки. Разве не стал нам теперь понятнее скворчонок, пьющий воду из текущего с журчанием ручья?
Тонкая вещность вечного тем и хороша, что порождает третий мир, хотя мир этот все один и тот же. Птенец перепелки - в который раз удивимся святой стыдливости языка! - символ непорочного зачатия, если угодно до-христианский символ, или, во всяком случае, нехристианский. Всякое зачатие от любви - непорочно. И святость такого зачатия подтверждается полнотой цветовой гаммы: в песне представлены все чстыре основных цвета чувашского фольклора.
Разумеется, у этого текста много разных планов, и разные задачи решаются одновременно в разных плоскостях. Нетрудно увидеть в нем, например, бесхитростную мудрость негероического созерцания: мол, все в мире устроено как надо, нет ни незрелых женихов, ни некрасивых невест, все устроится, ибо, есть, говорят, между амбарами еще какой-то амбар. Но - тут сразу два " но ". Слово " между " , без которого, кажется, уже никак не обойтись. И слово " говорят ". " Есть, говорят " . То есть, может быть, есть, а, может быть, и нет, кто его знает, никто не проверял, да и проверять не будет. Но раз говорят, то это не просто так. Потому что чересчур уж резко слово " говорят " контрастирует со словами " не говорите " в конце песни. Не говорите, чего не знаете, не чешите языками просто так, из зависти ли, от скуки ли, не говорите о том, что все знают и без вас: что парень бел, то есть молод еще, и что девушка черна, то есть, чернява, некрасива. Слово же " говорят " , напротив, совсем о другом - о том, что не увидишь и чего не проверишь. Вот об этом только и стоит говорить. И тогда не человеческую речь слышит чуваш, а пение птиц.
СХVIII: " Рано кукует утренняя кукушка; ее кукованье слышится из-за леса; кажется, что это голос тещи. Вышел я, посмотрел - нет никого. Рано щебечет утренняя ласточка, ее щебетанье слышится из-за леса, кажется, что это голос свояченицы (сестра жены). Вышел я и посмотрел - никого нет. Рано поет утренний соловей, его пение слышится через Сундырь; кажется, что это голос Арины: как услышу, так и проникает в сердце (буквально: сердце рядом лежит) ".
Все так. В третий раз не говорится: никого нет. Любимая, о тебе нельзя сказать, что тебя нет. Может, ты есть. А может... Но лучше об этом не говорить.
Ну разве недостоин чуваш, смирением своим нечаянно прикоснувшийся к тайнам мироздания, разве недостоин он того вывернутого наничку мира, который он сам же себе и создал: вещи этого мира чисты, ярки, праздничны и непреходящи, а голос возлюбленной... нет, наоборот, пение птицы - это голос любимой. " ...кажется, что это голос Арины: как услышу, так сердце рядом лежит ".
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Языковая ситуация в Арморике в V-VII веках
Языковая ситуация в Арморике в V-VII веках Анна Мурадова В V-VII веках произошло переселение части бриттов в Арморику, в результате которого
- Жизнь древнего Рима: женщины
Сергеенко М.Е. Мы говорили уже, что братья и сестры росли вместе, и эта совместная жизнь продолжалась и тогда, когда дети менее состоятель
- Возможности выявления субстратных элементов в культурно-значимой лексике
В.П. Калыгин Какой бы ранней ни была датировка появления кельтов в Ирландии, кельты пришли в туда значительно позднее создателей мегалит
- К вопросу о политическом могуществе галльских друидов
- Теории американского мультикультурализма и проблемы развития гражданского общества
- Новозаветные сюжеты в живописи: Призвание Петра, Андрея, Иакова, Иоанна и Матфея на апостольское служение
Проходя же близ моря Галилеиского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо о
- Жизнь древнего Рима: распорядок дня
Сергеенко М.Е. Жизнь римского населения была, конечно, очень пестрой. Бедняк, зачисленный в списки получавших хлеб от государства, претор
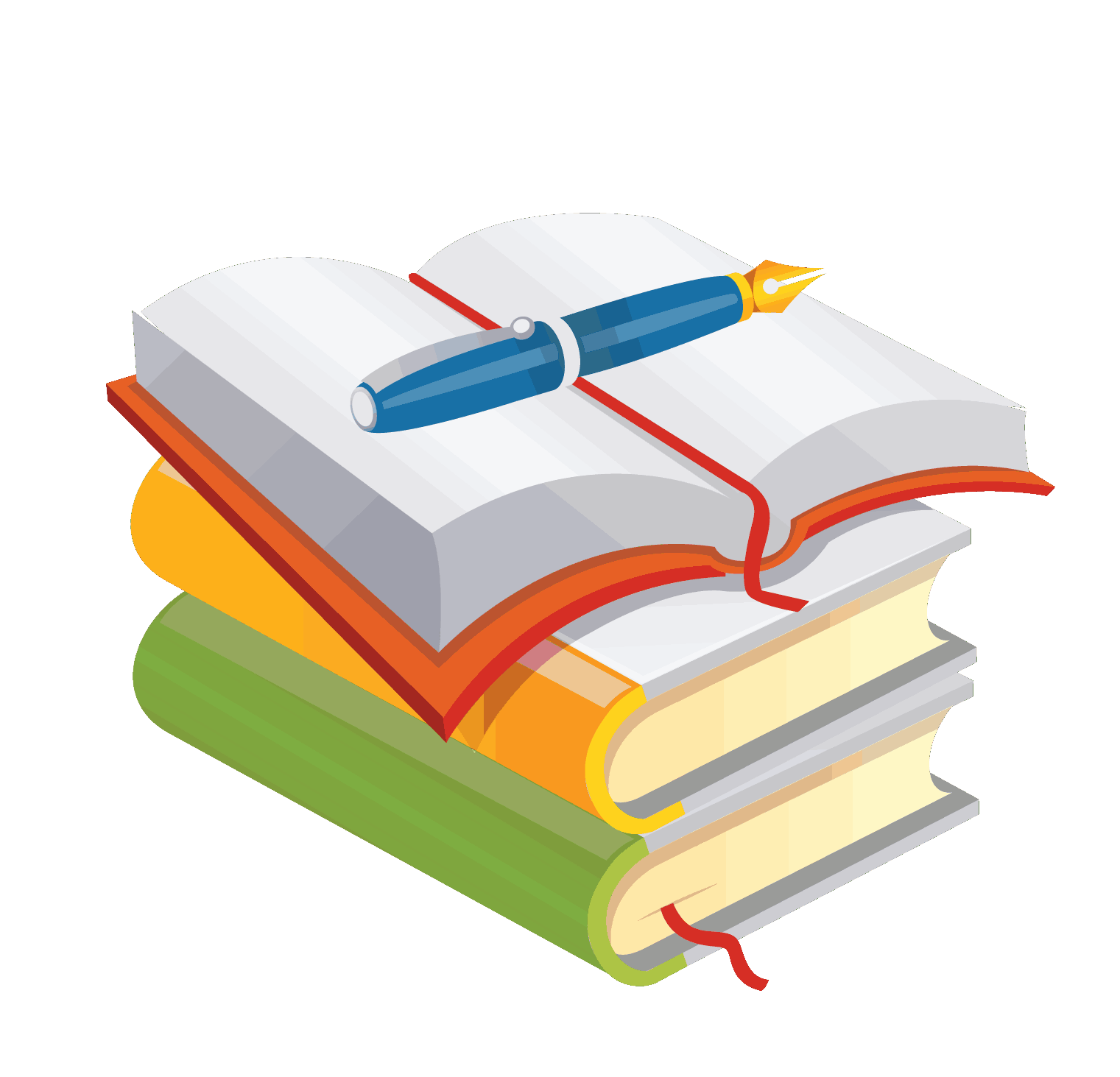 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.