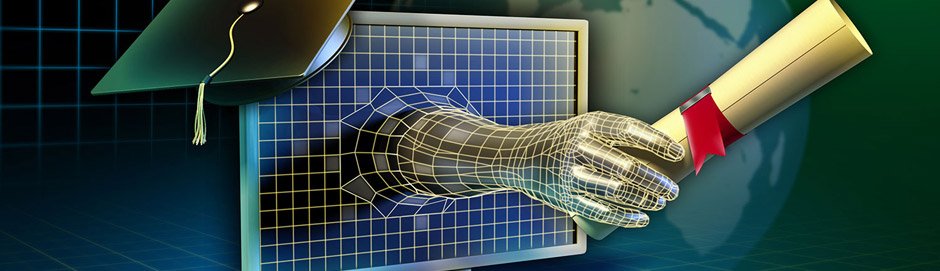Константин Паустовский
НЕСКОЛЬКО ОТРЫВОЧНЫХ МЫСЛЕЙ.
(вместо предисловия).
Обычно писатель знает себя лучше, чем критики и литературоведы. вот почему я согласился на предложение издательства написать краткое предисловие к своему Собранию сочинений. Но, с другой стороны возможность говорить о себе у писателя ограничена. Он связан многими трудностями, в первую очередь – неловкостью давать оценку собственным книгам. Кроме того, ждать от автора собственных вещей – дело бесполезное. Чехов в таких случаях говорил: “Читайте мои книги, у меня же там все написано”. Я с охотой могу повторить эти чеховские слова.
Поэтому я выскажу лишь некоторые соображения относительно своего творчества и вкратце передам свою биографию. Подробно рассказывать ее нет смысла. Вся моя жизнь с раннего детства до начала тридцатых годов описана в шести книгах автобиографической “Повести о жизни”. Работу над “Повестью о жизни” я продолжаю и сейчас.
Родился я в Москве 31 мая 1892 года в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика. Отец мой происходил из запорожских казаков, переселившихся после разгрома Сечи на берега реки Рось, около Белой Церкви. Там жили мой дед - бывший николаевский солдат – и бабка-турчанка.
Несмотря на профессию статистика, требующую трезвого взгляда на вещи, отец был неисправимым мечтателем и протестантом. Из-за этих своих качеств он не засиживался долго на одном месте. После Москвы служил в Вильно, Пскове и, наконец, осел, более или менее прочно, в Киеве. Моя мать – дочь служащего на сахарном заводе – была женщиной властной и суровой.
Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, в карты, спорили, благоговейно любили театр.
Учился я в 1-й киевской классической гимназии. Когда я был в шестом классе, семья наша распалась. С тех пор я сам должен был зарабатывать себе на жизнь и учение. Перебивался и довольно тяжелым трудом – так называемым репетиторством. В последнем классе гимназии я написал первый рассказ и напечатал его в киевском литературном журнале “Огни”. Это было, насколько я помню, в 1911 году. После окончания гимназии я два года пробыл в Киевском университете, а затем перевелся в Московский университет и переехал в Москву.
В начале мировой войны я работал вожатым и кондуктором на московском трамвае, потом – санитаром на тыловом и полевом санитарных поездах.
Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвижа в Белоруссии.
В отряде из попавшегося мне обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день убиты на разных фронтах оба мои брата. Я вернулся к матери – она в то время жила в Москве, но долго высидеть на месте не смог и снова начал свою скитальческую жизнь: уехал в Екатеринослав и работал там на металлургическом заводе Брянского общества, потом переехал в Юзовку на Новороссийский завод, а оттуда в Таганрог на котельный завод Нев-Вильдэ. Осень 1916 года ушел с котельного завода в рыбачью артель на Азовском море.
В свободное время я начал писать в Таганроге свой первый
роман – “Романтики”.
Потом переехал в Москву, где меня застала Февральская революция, и начал работать журналистом.
Мое становление человека и писателя происходило при Советской власти и определило весь мой дальнейший жизненный путь. В Москве я пережил Октябрьскую революцию и стал свидетелем многих событий 1917-1919 годов, несколько раз слышал Ленина и жил напряженной жизнью газетных редакций.
Но вскоре меня “завертело”. Я уехал к матери (она снова перебралась на Украину), пережил в Киеве несколько переворотов, из Киева уехал в Одессу. Там я впервые попал в среду молодых писателей – Ильфа, Бабеля, Багрицкого, Шенгели, Льва Славина.
Но мне не давала покоя “муза дальних странствий”, и я, пробыв два года в Одессе, переехал в Сухум, потом – в Батум и Тифлис. Из Тифлиса я ездил в Армению и даже попал в северную Персию.
В 1923 году вернулся в Москву, где несколько лет проработал редактором РОСТА. В то время я уже начал печататься.
Первой моей “настоящей” книгой был сборник рассказов “Встречные корабли” (1928). Летом 1932 года я начал работать над книгой “Кара-Бугаз”. История написания “Кара-Бугаза” и некоторых других книг изложена довольно подробно в повести “Золотая роза”. Поэтому здесь я на этом останавливаться не буду.
После выхода в свет “Кара-Бугаза” я оставил службу, и с тех пор писательство стало моей единственной, всепоглощающей, порой мучительной, но всегда любимой работой.
Ездил я по-прежнему много, даже больше чем раньше. За годы своей писательской жизни я был на Кольском полуострове, жил в Мещоре, изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, Дон, Днепр, Оку и Десну, Ладожское и Онежское озера, был в Средней Азии, в Крыму, на Алтае, в Сибири, на чудесном нашем северо-западе – в Пскове, Новгороде, Витебске, в пушкинском Михайловском.
Во время Великой Отечественной Войны я работал военным корреспондентом на Южном фронте и тоже изъездил множество мест. После окончания войны я опять много путешествовал. В течение 50-х и в начале 60-х годов я посетил Чехословакию, жил в Болгарии в совершенно сказочных рыбачьих городках Несебре (Мессемерия) и Созополе, объехал Польшу от Кракова до Гданьска, плавал вокруг Европы, побывал в Стамбуле, Афинах, Роттердаме, Стокгольме, в Италии (Рим, Турин, Милан, Неаполь, Итальянские Альпы), повидал Францию, в частности Прованс, Англию, где был в Оксфорде и шекспировском Страдфорде. В 1965 году из-за своей упорной астмы я довольно долго прожил на острове Капри – огромной скале, сплошь заросшей душистыми травами, смолистой средиземноморской сосной – пинией и водопадами (вернее, цветопадами) алой тропической бугенвилии, - на Капри, погруженном в теплую прозрачную воду Средиземного моря.
Впечатления от этих многочисленных поездок, от встреч с самыми разными и – в каждом отдельном случае – по-своему интересными людьми легли в основу многих моих рассказов и путевых очерков (“Живописная Болгария”, “Амфора”, “Третья встреча”, “Толпа на набережной”, “Итальянские встречи”, “Мимолетный Париж”, “Огни Ла-Манша” и др.), которые читатель тоже найдет в этом Собрании сочинений.
Написал я за свою жизнь немало, но меня не покидает ощущение, что мне нужно сделать еще очень много и что глубоко постигать некоторые стороны и явления жизни и говорить о них писатель научается только в зрелом возрасте.
В юности я пережил увлечение экзотикой. Желание необыкновенного преследовало меня с детства. В скучной киевской квартире, где прошло это детство, вокруг меня постоянно шумел ветер необычайного. Я вызывал его силой собственного мальчишеского воображения. Ветер этот приносил запах тисовых лесов, пену атлантического прибоя, раскаты тропической грозы, звон эоловой арфы.
Но пестрый мир экзотики существовал только в моей фантазии. Я никогда не видел ни темных тисовых лесов (за исключением нескольких деревьев в Никитском ботаническом саду), ни Атлантического океана, ни тропиков и ни разу не слышал эоловой арфы. Я даже не знал, как она выглядит. Гораздо позже из записок путешественника Миклухо-Маклая я узнал об этом. Маклай построил из бамбуковых стволов эоловую арфу около своей хижины на Новой Гвинее. Ветер свирепо завывал в полых стволах бамбука, отпугивал суеверных туземцев, и они не мешали Маклаю работать.
Моя любимой наукой в гимназии была география. Она бесстрастно подтверждала, что на земле есть необыкновенные страны. Я знал, что тогдашняя наша скудная и неустроенная жизнь не даст мне возможности увидеть их. Моя мечта была явно несбыточна. Но от этого она не умирала.
Мое состояние можно было определить двумя словами: восхищение перед воображаемым миром и – тоска из-за невозможности увидеть его. Эти два чувства преобладали в моих юношеских стихах и первой незрелой прозе.
С годами я ушел от экзотики, от ее нарядности, пряности, приподнятости и безразличия к простому и незаметному человеку. Но еще долго в моих повестях и рассказах попадались ее застрявшие невзначай золоченые нити.
Часто мы ошибочно соединяем в одно целое два разных понятия – то, что мы называем экзотикой, и то, что называем романтикой. Мы подменяем романтику чистой экзотикой, забывая о том, что это последнее является лишь одной из оболочек романтики и лишена самостоятельного содержания. Сама по себе экзотика оторвана от жизни, тогда как романтика уходит в нее всеми корнями и питается всеми ее драгоценными соками. Я ушел от экзотики, но я не ушел от романтики, и никогда от нее не уйду – от очистительного ее огня, порыва к человечности и душевной щедрости, от постоянного ее непокоя. Романтическая настроенность не позволяет человеку быть лживым, невежественным, трусливым и жестоким. В романтике заключена облагораживающая сила. Нет никаких разумных оснований отказывать от нее в нашей борьбе за будущее и даже в нашей обыденной трудовой жизни.
Разумеется, экзотику можно найти в “Романтиках”, “Блистающих облаках” и во многих моих ранних романтических рассказах. Мне не казалось нужным переделывать эти вещи позднее. На них лежит печать своего времени, моего тогдашнего мироощущения. Поэтому они публикуются здесь в том виде, в каком появились на свет. Лишь кое-где пришлось исправить явные ошибки и стилистические погрешности.
Не без внутреннего сопротивления порвал с чистой экзотикой и написал об этом рассказ под названием “Морская прививка”. В этом разрыве последним толчком было посещение Московского планетария. Его только что открыли. Строитель планетария архитектор Синявский повел меня на первый показ искусственного звездного неба. Я был, как и все, захвачен этим зрелищем.
Мы вышли из планетария поздним вечером. Стоял сухой октябрь. На улицах пахло палым листом, и вдруг как бы впервые я увидел у себя над головой огромное, живое, кипящее звездами небо. Дым легких облаков пролетал в вышине, но не застилал звезд. Казалось, черный воздух осени усиливал пылание небесного свода.
И вот - почти все, написанное мною до этого вечера представилось мне таким же искусственным, как небо планетария – бетонный купол с фальшивыми созвездиями. В начале оно поражало, но в нем не было глубины, воздуха, объема, слияния с мировым пространством. После того вечера я уничтожил некоторые наиболее нарядные и искусственные свои рассказы.
Однако на протяжении своей дальнейшей жизни я убедился в банальной истине, что ничто – даже самая малость не проходит для нас даром. Юношеская приверженность моя к экзотике в какой то мере приучила меня искать и находить живописные и даже подчас необыкновенные черты в окружающем.
С тех пор рядом с действительностью всегда сверкал для меня, подобно дополнительному, хотя бы и неяркому свету, легкий романтический вымысел. Он освещал, как маленький луч на картине, такие частности, какие без него, может быть, не были бы замечены. От этого мой внутренний мир становился богаче.
Это легкое вмешательство вымысла помогло мне в работе над “Кара-Бугазом”, “Колхидой”, “Черным морем” и другими повестями и рассказами. С экзотикой было покончено. Ее сменило стремление к правде и простоте.
Но сравнительно недавно экзотика заставила меня задуматься над ее сущностью. Случилось это во время плавания вокруг Европы.
Наш теплоход отошел от Одессы и двое суток пересекал пасмурную от облачного неба синеватую пустыню Черного моря. Пенистый след ложился за кормой и как бы тянул на буксире стаю чаек с поджатыми красными лапами. Мгла лежала на горизонте. Только на подходе к Босфору она просветлела, и за ней проступили дикие, покрытые черными лесами Анатолийские горы.
Теплоход, круто разворачиваясь, вошел в Босфор.
Перед нами открылась картина, похожая на старинную пышную декорацию приморской страны. Кое-где на этой декорации облетела позолота, кое-где ее подправили свежими красками. Вся эта путаница год, древних башен, минаретов, скал, аркад, замков, маяков, оливковых рощ, парусов, диких роз, вековых кипарисов, мачт и рей показалась мне в огне заката нарочитым и подчеркнуто праздничным зрелищем, придуманным неутомимым и веселым художником.
Десятки пестрых, как попугаи, фелюг – карминных, желтых, зеленых, белых, синих и черных с золотыми обводами по бортам – шли, пеня воду, навстречу нашему теплоходу.
Мы стали на якорь против игрушечного городка. Вечером в домах загорелись огни. Они светили неярко, пробиваясь сквозь зелень. Я увидел с палубы узкую улицу, уходящую в горы. Ее во всю длину перекрывал глухой, почти черный навес из виноградных лоз, растянутых на жердях. Большие зрелые кисти винограда висели низко над улицей. Под ними шел ослик с фонариком на шее. Фонарик был электрический и светил очень сильно.
Этот городок был преддверием Стамбула. С террасы маленькой кофейни, висевшей над водой, доносилась тягучая музыка. Девушки – турчанки в светлых платьях, облокотившись о перила, смотрели на пролив. Их лица, различимые в бинокль, казались очень бледными. С берега пахло олеандрами. В меркнущем небе слабо сиял полумесяц – такой же, как на куполах бесчисленных маленьких мечетей.
Мне все это казалось каким-то нереальным и напомнило вымыслы юности. Но вместе с тем это была действительность.
Я, наконец, поверил, что передо мной легендарный Босфор, что это именно я стою на палубе и что рядом в сумраке тонут древнейшие области земли – Малая Азия, мифическая Троя, Геллеспонт.
Чем больше я воочию знакомился с тем, что недавно еще существовало только в моем воображении в виде экзотических картин, тем яснее становилось, что этот мир, перенесенный из области фантазии в область познания, гораздо интереснее, значительнее и, я бы сказал, сказочнее, чем были мои выдумки о нем.
С тех пор это сознание реальности не покидало меня на всем пути – в лиловом Эгейском море, где тянулась по горизонту торжественное шествие розовых островов, в Акрополе, как бы построенном из старого воска, изъеденного пчелами, в Мессинском проливе с его ослепляющей голубизной воздуха, в Риме, где на простой суровой гробнице Рафаэля в Пантеоне лежала высохшая гвоздика, в Атлантике, в кипучем Париже и в Ла-Манше, когда сквозь туман звонили навстречу кораблю старинные колокола на плавучих бакенах, - всюду и везде…
Мне кажется, что одно из характерных черт моей прозы является ее романтическая настроенность. Это, конечно, свойство характера. Требовать от любого человека, в частности от писателя, чтобы он отказался от этой настроенности, – нелепо. Такое требование можно объяснить только невежеством.
Романтическая настроенность не противоречит острому интересу к “грубой” жизни и любви к ней. Во всех областях деятельности и человеческой деятельности, за редкими исключениями, заложены зерна романтики.
Их можно не заметить и растоптать или, наоборот, дать им возможность разрастись, украсить и облагородить своим цветением внутренний мир человека. Романтичность свойственна всему, в частности науке и познанию. Чем больше знает человек, тем полнее он воспринимает действительность, тем теснее его окружает поэзия и тем он счастливее.
Наоборот, невежество делает человека равнодушным к миру, а равнодушие растет медленно, но необратимо, как раковая опухоль. Жизнь в сознании равнодушного быстро вянет, сереет, огромные пласты ее отмирают, и, в конце концов, равнодушный человек остается наедине со своим невежеством и своим жалким благополучием.
Истинное счастье – это, прежде всего удел знающих, удел ищущих и мечтателей. И меня очень радует то обстоятельство, что после некоторых споров, бурно протекавших в критике еще совсем недавно, романтика опять заняла свое законное место в жизни нашей литературы.
В этом введении к своим книгам я пытаюсь проследить свой собственный путь, сделать его более ясным (в частности, и для себя), определить те явления, какие привели к рождению той или иной моей книги.
Необходимо знать, какие побуждения руководят писателем в его работе. Сила и чистота этих побуждений находятся в прямом отношении или к признанию писателя со стороны народа, или к безразличию и даже прямому отрицанию всего им сделанного.
Желание все знать, видеть путешествовать, быть участником разнообразных событий и столкновений человеческих страстей вылилось у меня в мечту о некоей необыкновенной профессии. Она обязательно должна была быть связана с этой кипучей жизнью.
Но есть ли на свете такая профессия? Чем больше я думал об этом, тем быстрее одна профессия отпадала вслед за другой. В них не было полной свободы. Они не охватывали жизнь целиком в ее стремительном развитии и разнообразии.
Одно время я всерьез думал стать моряком. Но вскоре мечта о писательстве вытеснила все остальное. Писательство соединяло в себе все привлекательные профессии мира. Оно было независимым, мужественным и благородным делом.
Однако тогда я еще не знал, что писательство – это и труд, тяжелый и расточительный, что даже одна – единственная крупица правды, утаенная писателем от людей, - преступление перед собственной совестью, за которое он неизбежно ответит.
Страдания и радости всех людей становятся уделом писателя. Он должен обладать талантом собственного видения мира, непреклонностью в борьбе, лирической силой и общностью жизни с природой, не говоря уже о многих других качествах, хотя бы о простой психологической выносливости.
Решение пришло. Будущее стало ясно. Избранный путь оказался прекрасен, хотя и очень труден. И ни разу за долгие годы у меня не возникло искушение изменить ему.
Моя писательская жизнь, как я уже говорил, началась с желания все знать и все видеть. И, очевидно, на этом она и окончится.
Поэзия странствий, слившись с неприкрашенной реальностью образовала наилучший сплав для создания книг. Почти в каждой повести и каждом моем рассказе видны следы скитаний.
Сначала был юг. С ним связаны “Романтики”, “Блистающие облака”, “Кара-Бугаз”, “Колхида”, “Черное море” и ряд рассказов, в том числе “Этикетки для колониальных товаров”, “Потерянный день”, “Парусный мастер”, “Синева” и некоторые другие.
Первая моя поездка на север – в Ленинград, Карелию и на Кольский полуостров – просто ошеломила меня. Я узнал пленительную власть севера. Первая же белая ночь над Невой дала мне больше для познания русской поэзии, чем десятки книг и многие часы размышлений над ними.
Оказалось, что понятие “север” означает не только тихую прелесть природы, но почему-то еще и стихи “Подруга дней моих суровых…”, написанные Пушкиным в глуши псковских лесов, грозные соборы Новгорода и Пскова, величавый и стройный Ленинград, Неву за окнами Эрмитажа, песни сказителей, спокойные глаза северянок, черную хвою, слюдяной блеск озер, белую пену черемухи, запах коры, звон пил лесорубов, шелест страниц, перечитываемых ночью, когда заря уже проступает над Финским заливом и в памяти поют слова Блока:
…Руку
Одна заря закинула к другой,
И, сестры двух небес, прядут они –
То розовый, то голубой туман,
И в море утопающая туча
В предсмертном гневе мечет из очей
То красные, то синие огни.
Можно исписать много страниц этими неясными приметами, создающими явственный облик севера. Я был захвачен севером сильнее, чем югом.
Пожалуй, ни одному из художников не удалось передать таинственное безмолвие северной сыроватой ночи, когда каждая капля росы и отражения костра в луговом озерке вызывают такую внезапную, сокровенную, такую застенчивую и глубокую любовь к России, что от нее глухо колотится сердце. И хочется жить сотни лет, чтобы смотреть на эту бледную, как полевая ромашка, северную красоту.
Север вызвал к жизни такие книги, как “Судьба Шарля Лонсевиля”, “Озерный фронт”, “Северная повесть”, и такие рассказы, как “Колотый сахар” и “Беглые встречи”. Но самым плодотворным и счастливым для меня оказалось знакомство со средней полосой России. Произошло оно довольно поздно, когда мне было уже под тридцать лет. Конечно, и до этого я бывал в Средней России, но всегда мимоходом и наспех.
Так иногда бывает: увидишь какую–нибудь полевую дорогу или деревушку на косогоре – и вдруг вспомнишь, что уже видел ее когда-то очень давно, может быть даже во сне, но полюбил всем сердцем.
Так же случилось у меня и со Средней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил ее как свою настоящую давнюю родину и почувствовал себя русским до последней прожилки.
С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля.
Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Сейчас я со снисходительной улыбкой вспоминаю юношеские мечты о тисовых лесах и тропических грозах. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску – на ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу.
С этим кустом и с пасмурным небом, помаргивающим дождями, с дымком деревень и сырым луговым ветром отныне накрепко связана моя жизнь.
Я снова здесь в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный…
Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещорском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда.
Средней России – и только ей – я обязан большинством написанных мною вещей. Перечисление их займет много места. Я упомяну только главные: “Мещорская сторона”, “Исаак Левитан”, “Повесть о лесах”, цикл рассказов “Летние дни”, “Старый челн”, “Ночь в октябре”, “Телеграмма”, “Дождливый рассвет”, “Кордон 273”, “Во глубине России”, “Наедине с осенью”, “Ильинский омут”.
В Мещорском краю я прикоснулся к чистейшим истокам народного русского языка. Не буду здесь говорить об этом, чтобы не повторяться. Свое отношение к русскому языку и мысли о нем я высказал в книге “Золотая роза” (в главе “Алмазный язык”).
Возможно, читателям этой статьи покажется странным то обстоятельство, что автор останавливается главным образом на внешней среде, но почти ничего не говорит о своих героях. Я не могу дать своим героям беспристрастной оценки. Поэтому говорить мне о них трудно. Пусть оценку даст им читатель.
Я могу лишь сказать, что всегда жил со своими героями одной жизнью, всегда старался открыть в них добрые черты, показать их сущность, их незаметное порой своеобразие. Не мне судить, удалось ли это.
Я всегда был с любимыми своими героями во всех обстоятельствах их жизни – в горе и счастье, в борьбе и тревогах, победах и неудачах. И с той же силой, с какой любил все подлинно человеческое в самом незаметном и незавидном герое, ненавидел людскую накипь, тупость и невежество.
Каждая моя книга – это собрание многих людей разных возрастов, национальностей, занятий, характеров и поступков. Поэтому меня несколько удивляет упрек некоторых критиков, что я бегло и неохотно пишу о людях. Очевидно, за беглость принимают сжатые характеристики людей.
Ну что ж, это легко проверить. Для этого можно взять любую книгу, хотя бы из автобиографического цикла и посмотреть, кого мы встретим на ее страницах.
Меня всегда интересовала жизнь замечательных людей. Я пытался найти общие черты их характеров – те черты, что выдвинули их в ряды лучших представителей человечества.
Кроме отдельных книг о Левитане, Кипренском, Тарасе Шевченко, у меня есть главы романов и повестей, рассказы и очерки, посвященные Ленину, Горькому, Чайковскому, Чехову, лейтенанту Шмидту, Виктору Гюго, Блоку, Пушкину, Христиану Андерсену, Мопассану, Пришвину, Григу, Гайдару, Шарлю де Костеру, Флоберу, Багрицкому, Мультатули, Лермонтову, Моцарту, Гоголю, Эдгару По, Врубелю, Диккенсу, Грину и Малышкину.
Но все же чаще и охотнее всего я пишу о людях простых и безвестных – о ремесленниках, пастухах, паромщиках, лесных объездчиках, бакенщиках, сторожах и деревенских детях – своих закадычных друзьях.
В своей работе я многим обязан поэтам, писателям, художникам и ученым разных времен и народов. Я не буду перечислять здесь их имена, от безвестного автора “Слова о полку Игореве” и Микеланджело до Стендаля и Чехова. Имен этих очень много.
Но больше всего я обязан самой жизни, простой и значительной. Ее свидетелем и участником мне посчастливилось быть.
Напоследок хочу повторить, что мое становление писателя и человека произошло при советском строе.
Моя страна, мой народ и создание им нового, подлинно социалистического общества – вот то высшее, чему я служил, служу и буду служить каждым написанным словом.
ТВОРЧЕСТВО КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО
Колорит раннего творчества молодого писателя и некоторые особенности позднейшего времени обусловила бросающаяся в глаза книжность юноши Паустовского. Его герои, как правило, характеризуются через их отношение к книгам, картинам, музыкальным пьесам. Они читают Диккенса и Роденбаха, Лермонтова и Гофмана, Гончарова и Метерлинка, Франса и Бабеля, Пруста и Гамсуна, Фаррера и Ренье, они по памяти цитируют любимые автором стихи Пушкина и Батюшкова, Фета и Беранже, Блока и Мея, Волошина и Киплинга. Да и сам писатель видит этих героев похожими то на портреты Ренуара (Хатидже в повести “Романтики”), то на выходцев на романа Стивенсона (старик Эрнест в рассказе “Пневматическая дверь”), то на чеховского Вершинина (дядя Коля в “Повести о жизни”). Любая страна, любая местность или город предстают в произведениях писателя уже преломленными через призму тех или иных историко-культурных представлений. Такова в его изображении даже Колхида в одноименной повести. Несомненная самобытность Колхиды Паустовского, создавшая традицию соответствующих представлений об этой стране, обнаруживает сложную природу: страна становится и “пламенной Колхидой” Пушкина, и Колхидой Гиппократа, и Колхидой аргонавтов.
Свойственным Паустовскому пониманием живой связи поколений, в том числе и поколений “мастеровых литературы”, объясняются некоторые особенности его как новеллиста. Истоки таких образцов прозы писателя, как главы из “Повести о жизни” - “Ночной дилижанс”, “Вода из реки Лимпопо”, “Старик в станционном буфете” и другие, с их особой щеголеватой законченностью, эффектностью, игрой и блеском формы, - едва ли следует искать в традиции русского рассказа. Новелла Паустовского несомненно впитала в себя опыт зарубежной, в частности французской, литературы.
Паустовский - художник длительного идейного и творческого становления. И это во многом объясняется тем, что в пору юности он был не столько участником, сколько “заинтересованным свидетелем” эпохи широких общественных движений и революционных преобразований.
С 1921 года, побродив и поездив по разным городам России, пережив войну, сменив несколько профессий, Паустовский начинает более регулярно выступать в печати, становится газетчиком, проходит школу журналистики. В насыщенной и разнообразной репортерской деятельности - он пишет заметки, корреспонденции, маленькие рассказы, наброски, зарисовки, небольшие статьи, а еще более в создаваемых одновременно крупных вещах, особенно в книге “Романтики” (написаны в 1916—1923 гг., напечатаны в 1935 г.), уже проступают эстетические интересы и симпатии автора.
О ком и как пишет Паустовский в статьях и книгах начальной поры своего творчества? Чья жизнь и судьбы привлекают ею внимание? Это — Максим Горький, “большой человек”, “великий скиталец”, вырвавшийся из чадной, пьяной, пахнущей сапожным варом и сивушной отрыжкой России (“Большой человек”). Это Эдуард Деккер, “Многострадальный”, голландский писатель и революционер, порвавший с фарисейским обществом на родине, чтобы встать на сторону угнетенного народа Явы (“Приговоренные к перу”). Это грузинский художник Нико Пиросманишвили, нищий и гениальный самоучка, вынужденный писать картины за обед в духане, за ночлег, за то, чтобы не умереть с голоду на раскаленных мостовых окраин, и признанный лишь после смерти (“Грузинский художник”). Каждый из них - борец и протестант прежде всего. Они выковывают себя в непрерывных столкновениях со средой. Фанатически преданные большой идее - идее искусства или свободы, - они противопоставлены всем окружающим и со всеми вступают в бой.
Преимущественное право на гениальность и протестантизм, а в особенности резкое противопоставление героя враждебной или заурядной среде, были в творчестве Паустовского связаны с романтической концепцией действительности. В первый период творчества писателя наблюдается огромный и ничем не компенсируемый разрыв между впечатлениями его реального существования и преломлением их в творческой фантазии. В самом деле: житейски сложная, полная нелегкого, черного труда биография Паустовского - репетитора, санитара, репортера, кондуктора трамвая и просто безработного, отделена непроходимой пропастью от бытия героев его первых книг (Берг, Максимов, Батурин), переживающих исключительно утонченные муки творчества, эгоцентрических и освобожденных от треволнений низменной жизни.
Писатель стремится “подтянуть” повествователя “Романтиков” к трагическим и героическим фигурам. Для этого оказывается необходимым резко поделить мир на две неравные части, воздвигнув между ними будто бы непроходимую преграду, по одну сторону которой - гении, по другую - обыватели. Любимые персонажи писателя особо отмечены необыкновенными, исключительными качествами. Если это журналисты, то это фанатики, “приговоренные к перу”. Если моряки, то каждый из них обязательно человек либо феноменальной памяти (“Слава капитана Миронова”), либо редкого, необыкновенного мужества и благородства (“Рапорт капитана Хагера”), либо небывало богатого жизненного опыта и затейливой выдумки. Это эксцентрики, подобные капитану Кравченко в “Блистающих облаках” (1928) да и самому Батурину (там же) с его богемным существованием, неопределенностью занятий, странными, “гриновскими” снами. Таковы же действующие лица “Романтиков” - молодой писатель Максимов и группа его друзей. Откровенно противопоставившие себя устойчивому “мещанскому” прозябанию, они горды своей причастностью к высоким материям искусства, довольны неустроенностью и “скитальчеством” (излюбленное слово раннего Паустовского), попытками “создать свой мир - необычный и чуждый всему окружающему - царапающемуся, жалкому и смешно неразумному”. С закрытыми глазами идут они мимо скучной для них реальности, и ничто не прикрепляет их к эпохе. Их беседы и споры отвлеченно литературны, их порывы неопределенны, их творчество дается ценою лишений, несчастий, разбитых жизней и смертей. Иным - согласно традиционным романтическим представлениям - оно быть не может. Оттого-то Максимов так жаждет потрясений, почти радуется им: “Часто я спрашиваю себя - достаточно ли я страдал, чтобы быть писателем”,- рассуждает он сам с собою. Оттого безрадостна любовь Наташи, нелепа гибель художника Винклера, так странно сталкиваются судьбы двух героинь, влюбленных в Максимова.
Типу романтического героя соответствует и тип романтической героини. Галерею женских образов Паустовского начинают Хатидже и Наташа. Одна - мягкая и всепрощающая, сдержанная и целомудренная; другая - порывистая, увлекающаяся, страстная, но обе женственны, обаятельны и равно прекрасны. Обаяние, простота, одухотворенность - непременные качества романтизированного женского образа Паустовского, которому он остался верен на протяжении всего своего творчества.
Сравнительно небольшому количеству бытовых женских образов - натруженных и несчастных “баб”, горемычных беженок трудных военных лет и разрухи, “замученных проституток” (см. “Романтики”), какой-нибудь “бестолковой и скупой старухи” “в старой паневе, с жилистыми сизыми ногами, измазанными грязью, с бабьими непонятными слезами на глазах” - сопутствует в творчестве писателя образ Женщины с большой буквы, всегда поставленной на некоторое возвышение. Она чиста даже в пороке (Валя в “Блистающих облаках”) а неизменно прекрасна даже в болезни и смерти (Христя и Анфиса в “Золотой розе”). Ее обязательные внешние признаки: бледное, как бы от скрытого волнения, лицо, золотистые легкие волосы, неожиданно темнеющие глаза, девичье стройное тело и тонкие руки. Она вносит в жизнь “легкий, приятный беспорядок”, подобно Мари в “Северной повести”, она прихотлива, беспечна, порою взбалмошна, с точки зрения скучной добропорядочности и мещанской респектабельности, - как поэтичная певунья “тетя Надя” в книге “Далекие годы”. Она не может быть некрасива и непоэтична, потому что автор всегда смотрит на нее глазами влюбленного, и всякая хоть сколько-нибудь снижающая подробность уже отвергается, ибо не отвечает принципам изображения и авторского видения героини.
Романтически-приподнятые женские образы Паустовского могут варьироваться, но у всех у них есть одно высшее назначение - одаривать ожиданием счастья, облагораживать обаянием улыбки, голоса, самого присутствия, благоуханием юности, неизвестности и тайны. Поэтому и любовь, изображаемая Паустовским, - обычно еще не самая любовь, а только ее зарождение, ее предчувствие.
Она появляется незаметно, внезапно и навсегда, ее робкое мерцание озаряет все вокруг особым, немного фантастическим, чудесным светом (“Снег” и “Бриз”, 1944, “Дождливый рассвет”, 1945).
Поэтому и сама женщина, какую бы видимость реальности ни придавал ей автор впоследствии (ср. Невская в “Колхиде”, 1934),- всегда, хоть немного, та “бабочка с острова Борнео”, неуловимую прелесть которой - неуловимую, быть может, оттого, что она лишена четко очерченной индивидуальности и бытовой характеристики, - так хорошо почувствовал и запомнил Паустовский - гимназист и с таким изяществом и тактом нарисовал потом Паустовский - художник (см. главу “Вода из реки Лимпопо” в первой книге “Повести о жизни”).
В лучших произведениях позднего периода Константин Паустовский остался приверженцем лирико-романтического отношения действительности. В “Повести о лесах” (1948), “Дыме отечества” (М., 1964; написано в 1944 г.), “Золотой розе” и “Повести о жизни” художественный метод Паустовского окончательно определился и остался в основном неизменным.
Настоящее и прошлое нашей действительности, полной борьбы, самоотверженности, а иногда - трагизма и лишений, писатель рассматривает теперь преимущественно с точки зрения тех ее элементов, которые принадлежат миру желаемого будущего.
Нравственно-философская основа миросозерцания писателя - вечное “непокорство” идеала, требующего реализации в изменчивом и конфликтном земном бытии. Здесь и его сила, и его слабость.
Слабость - в том, что как только он покидает почву воображаемого и желанного, так все подвохи “суровой правды жизни” становятся у него на пути, как зло, избежать которого куда легче, нежели одолеть. Сила - в неутомимости призыва к человеку и человечности.
Романтический ключ сообщает прозе Паустовского характерные для нее легкость и яркость. Она отталкивается от повседневной “деловитости”, она не может поступиться своей праздничностью, которую автор стремится донести до читателя в чистом, нерасплесканном виде.
Писатель уводит нас в простор полей, продутых свежим ветром, в сумрак влажных, тенистых лесов Мещоры. Его мир - это жизнь, какой она бывает, какой может быть и более всего - какой быть должна. Это храм невраждебной природы, искусства и красоты, где мирно и дружелюбно соседствуют века, народы, культура, где каждая травинка растет для умножения прекрасного.
Закономерно, что новое мироощущение в основном формируется у Паустовского ближе ко второй половине 30-х годов. Он не был одинок в разведке своей темы: она рождена самой обстановкой в литературе и жизни страны тех лет - настроением бодрости и уверенности в будущем, сознанием неизбежного торжества, полной и окончательной победы социализма.
В рассказах и повестях Паустовского человек раскрывается преимущественно в сфере эмоциональной и выступает не в его производственном, профессиональном, собственно “общественном” качестве, но, напротив, предстает в своих “личных” отношениях с миром. Именно они становятся предметом художественного анализа писателя, через них он исследует и утверждает закономерност
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Украинские земли во второй половине XIX века
Министерство Образования УкраиныЗГТУКафедра “Ураиноведения”Реферат по истории УкраиныТема: “ Украинские земли во второй половине XIX
- Экономическое развитие Тобольской губернии в первой половине 19 века
- П.А. Столыпин
- Средневековые государства на территории Казахстана (ХIV-XV века)
- Жизнь Л.Троцкого
- Томас Джефферсон
ТОМАС ДЖЕФФЕРСОНСОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ......................................................................................................3ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМАСА
- Москва - центр важнейших сухопутных и речных путей России XVI века
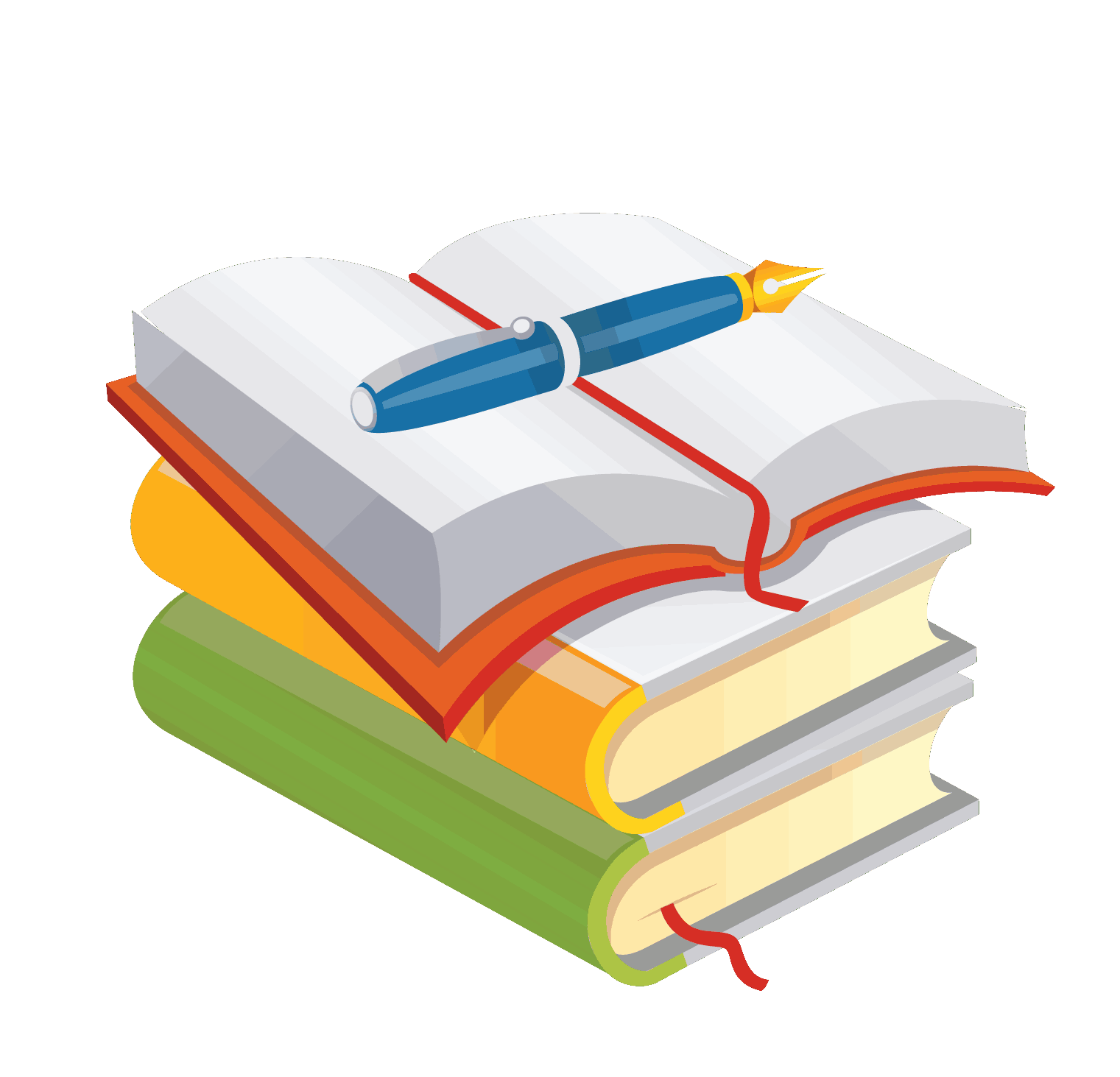 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.