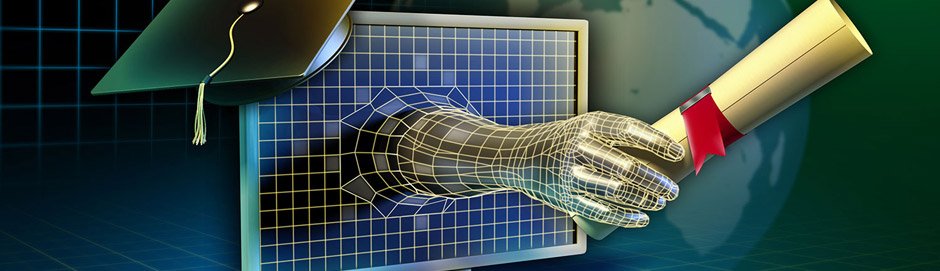Историософия и публицистика Тютчева
Тарасов Б. Н.
Поэт как публицист, политический идеолог и принципиальный полемист является христианским мыслителем и опирается на историософскую основу. Он не только стоит в одном ряду с такими наиболее крупными русскими писателями и философами, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский, В.С. Соловьев и др., но и в постановке ряда существенных задач занимает в нем одно из первенствующих мест. По признанию А.С. Хомякова, Тютчев первым заговорил о судьбах России и Запада в неотрывном единстве с религиозным вопросом. А И.С. Аксаков приходил к заключению, что в лице Тютчева на Западе встретились с "неслыханным явлением": "впервые раздался в Европе твердый и мужественный голос Русского общественного мнения. Никто никогда из частных лиц в России еще не осмеливался говорить прямо с Европою таким тоном, с таким достоинством и свободой" (Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 132 - 133). В подобном прямом разговоре своеобразно отразилась настоятельная общественная потребность, о которой косвенно свидетельствовал А.И. Герцен, отмечая почти полное замалчивание русской официозной и либеральной печатью выпады против России западной прессы: "Бедный русский народ! Некому возвысить голос в его защиту!" (Герцен А.И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 7. С. 331).
Эпоха наполеоновских нашествий и национальных движений, Отечественная война 1812 года, Венский конгресс и Священный союз, восстание декабристов, французская революция 1830 года, оба польских восстания, европейские волнения 1848 года, создание коммунистического манифеста и Интернационала, заговор петрашевцев, Крымская кампания и падение Севастополя, "освобождение крестьян" и "великие реформы" 60-х годов, победоносная война Италии с Австрией и ликвидация светской власти пап, франко-прусская война, разгром Франции и создание Германской империи - вот значимые исторические события, наблюдателем и аналитиком которых оказался поэт. И рассматривал он их не только с точки зрения текущей политики и происходивших государственных и социальных поворотов и перемен, но и в глобальном контексте мировой истории, с ее "началами" и "концами", а также с качественными метаморфозами в ее ходе внутреннего мира и духовных ценностей человека. Способность Тютчева, говоря словами хорошо знавшего его современника, сочетать текущую политику с "политикой всего человеческого рода", под "оболочкой зримой" истории видеть ее самое, во внешних событиях и явлениях жизни раскрывать их духовно-нравственную суть и, соответственно, последующую судьбу определяла и его пророческий дар, не теряющуюся с течением времени, но, напротив, обостряющуюся и непреходящую актуальность его публицистического наследия.
Историософские и публицистические произведения Тютчева изначально написаны на французском языке и каждое из них имеет свою собственную издательскую историю. Первые публикации в России четырех его статей ("Россия и Германия", "Россия и Революция", "Римский вопрос", "Письмо о цензуре в России") в оригинале и переводе на русский язык в номерах "Русского архива" за 1873 и 1886 гг. связаны с именем его редактора и издателя П.И. Бартенева. В конце 1872 г. Тютчев передал ему для публикации рукописи трех, в 40-х гг. анонимно напечатанных в Германии и Франции, статей: "Lettre a Monsieur le D-r Gustane Kolb, redacteur de la Gazette Universelle" ("Письмо господину д-ру Густаву Кольбу, редактору "Всеобщей газеты"), "Memoire presente a l' Empereur Nicolas depuis la Revolution de fevrier par un Russe employe superieur des affaires etrangeres" ("Записка, представленная императору Николаю после февральской революции одним русским чиновником высшего ранга Министерства иностранных дел"), "La Papaute et la Question Romaine" ("Папство и Римский вопрос"). Статья "Lettre sur la censure en Russie" ("Письмо о цензуре в России") дополнила первоначально переданные поэтом П.И. Бартеневу, и все четыре сочинения составили опубликованный в "Русском архиве" основной корпус его публицистических произведений (на французском языке и с параллельными переводами на русский Ф.И. Тимирязева и В.Н. Лясковского), перепечатывавшийся в последующих изданиях.
В 1930 г. немецким исследователем С. Якобсоном атрибутировано <"Письмо русского">, впервые опубликованное в 1844 г. в газете "Allgemeine Zeitung", переведенное с немецкого К.В. Пигаревым и напечатанное им на русском языке в 1935 г. в его книге "Жизнь и творчество Тютчева". К.В. Пигарев же в 1935 г. в 19 - 21 т. Литературного наследства обнародовал свой русский перевод <"Отрывка">, в 1988 г. в первой книге 97 т. Литературного наследства опубликован в полном виде французский источник и его русский перевод (Н.И. Филипович) незавершенного поэтом трактата "Россия и Запад", содержание которого веком ранее обширно цитировалось и пересказывалось И.С. Аксаковым в его биографии Тютчева. Наконец, в первом номере "Нового литературного обозрения" за 1999 г. вышла в свет <"Записка"> (публикация А.Л. Осповата и перевод на русский язык В.А. Мильчиной).
Таким образом, четыре произведения основного корпуса, дополненные не всегда предназначавшимися к печати, неоконченными и печатавшимися в разные годы XIX и XX вв. сочинениями, и составляют восемь текстов публицистического наследия поэта, дающего достаточное представление о своеобразии его историософской и политической мысли.
А.С. Пушкин подчеркивал, что поэта должно судить по законам его собственного творчества. То же самое можно отнести и к мыслителю, каковым в своей публицистике является Тютчев, неповторимо и органично сочетающий в ней "злободневное" и "непреходящее", оценивающий острые проблемы современности sub speciаe аeternitatis*, в контексте первооснов человеческого бытия и "исполинского размаха" мировой истории. По словам И.С. Аксакова, "Откровение Божие в истории <…> всегда могущественно приковывало к себе его умственные взоры" (Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 45). В историософской системе поэта мир относительного (государственного, общественного или идеологического) подчинен миру абсолютного (религиозного), а христианская метафизика определяет духовно-нравственную антропологию, от которой, в свою очередь, зависит подлинное содержание социально-политической деятельности. В такой причинно-следственной связи и ценностной иерархии разные грани публицистического творчества Тютчева соприкасаются с отечественным историко-культурным контекстом, с высшими достижениями русской литературы и философии, с мыслями А.С. Пушкина или Ф.М. Достоевского, А.С. Хомякова или В.С. Соловьева. На те или иные проявления этой связи указывали различные мыслители и исследователи. "Родственным Хомякову по своим устремлениям" считал пота Л.П. Карсавин (Карсавин Л.П. А.С. Хомяков // Карсавин Л.П. Малые соч. Спб., 1994. С. 369). По мнению другого исследователя, "та самая политическая мудрость, которую упорно разрабатывал мало талантливый Погодин, которая нашла свое выражение в "Выбранных местах из переписки с друзьями" Гоголя, и в политических стихах и статьях Тютчева, та же самая мудрость расцвела в философии Леонтьева" (Козловский Л.С. Мечты о Царьграде. II. Константин Леонтьев // Голос минувшего. 1915. №1. С. 46). Современный историк полагает, что поэт "во многом приближается к Достоевскому, с его сложной системой философских и политических взглядов, окрашенных сильным консервативным оттенком" (Черепнин Л.В. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968. С. 184). Н.А. Бердяев заключает: "У Тютчева было целое обоснование теократического учения, которое по грандиозности напоминает теократическое учение Владимира Соловьева" (Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 116). А современный философ подчеркивает: "Как социальный мыслитель Тютчев формировался под влиянием славянофилов, особенно И. Киреевского и А. Хомякова <…> Многое сближает взгляды Тютчева с мировоззрением славянофилов. Например, признание определяющей роли религии в духовном складе каждого народа и православия как главной отличительной черты самобытности русской культуры" (Русская идея. М., 1992. С. 91).
Для адекватного восприятия историософии и публицистики Тютчева необходимо иметь представление о целостном и полномерном горизонте и контексте его мысли, в котором свое место занимает м своеобразие личностных устремлений поэта. "Только правда, чистая правда, - признавался он дочери, - и беззаветное следование своему незапятнанному инстинкту пробивается до здоровой сердцевины, которую книжный разум и общение с неправдой как бы спрятали в грязные лохмотья" (Литературное наследство. М., 1989. Т. 97. Кн. 2. С. 221).
Поэт принадлежит к наиболее глубоким представителям отечественной культуры, которых волновала в первую очередь (разумеется, каждого из них на свой лад и в особой форме) "тайна человека" (Ф.М. Достоевский), как бы не видимые на поверхности текущего существования и неподвластные рациональному постижению, но непреложные законы и основополагающие смыслы бытия и истории. Такие писатели пристальнее, нежели "актуальные", "политические" и т.п. литераторы, всматривались в злободневные проблемы, но оценивали их не с точки зрения модных идей "книжного разума" или "прогрессивных" изменений, а как очередную временную модификацию неизменных корневых начал жизни, уходящих за пределы обозреваемого мира. Тютчеву свойственно стремление заглянуть "за край" культурного, идеологического, экономического и т.п. пространства и времени и проникнуть в заповедные тайники мирового бытия и человеческой души, постоянно питающие и сохраняющие ядро жизненного процесса при всей изменяемости в ходе истории (до неузнаваемости) его внешнего облика. Можно сказать, что за "оболочкой зримой" событий и явлений поэт пытался увидеть саму историю, подобно тому как, по его словам, под "оболочкой зримой" природы А.А. Фет узревал ее самое. Без учета этой онтологической и человековедческой целеустремленности подлинное содержание поэтической или публицистической "фактуры" в тех или иных его произведениях или размышлениях не может получить должного освещения.
Мировоззрение и творчество Тютчева изначально окрашено "вопросами" (название переведенного в молодости стихотворения Г. Гейне "Fragen"): "…что значит человек? Откуда он, куда идет, и кто живет под звездным сводом?" Л.Н. Толстой относил поэта к "чуждым путешественникам" на "пустынной дороге" жизни, которых тем не менее сближает насущная озабоченность безответными вопросами: "кто мы такие и зачем и чем мы живем и куда мы пойдем…" (Современники о Ф.И. Тютчеве (воспоминания, отзывы и письма). Тула, 1984. С. 69 - 70). Взлеты и падения человеческого духа, "ужасающая загадка" смерти, "какое-то таинственное осязание бесконечности, какое-то смутное чуяние беспредельности" (К.С. Аксаков), самое главное и роковое противостояние двух основополагающих принципов антропоцентрического своеволия и Богопослушания (по убеждению Тютчева, между самовластием человеческой воли и законом Христа немыслима никакая сделка) - подобные вопросы составляют скрытый мировоззренческий фундамент не только лирики, но и историософских и политических раздумий поэта. Однако выявление соотношений и взаимодействий между "вечными" и "временными", "метафизическими" и "физическими" уровнями его творчества представляет для всякого исследователя весьма сложную задачу. "Тютчеву, - подчеркивал Д.С. Мережковский, - достаточно несколько строк; солнечные системы, туманные пятна "Войны и мира", "Братьев Карамазовых" сжимает он в один кристалл, в один алмаз. Вот почему критика так беспомощно бьется над ним. Его совершенство для нее почти непроницаемо. Этот орешек не так-то легко раскусить: глаз видит, а зуб неймет. Толковать Тютчева - превращать огонь в уголь" (Мережковский Д.С. Вечные спутники. М., 1996. С. 538).
Выделение принципиальных "кристаллов" мировоззрения и мысли Тютчева, как бы растворенных в ткани его и публицистических текстов, тем более важно по отношению к историософии поэта, что она нередко растворяется в идеологии, никнет в ближайшем социально-политическом контексте и к тому же отрывается от своих онтологических и антропологических корней. Такое разведение "метафизики" и "политики" и главенство второй над первой существенно нарушает истинный иерархический и смысловой строй тютчевской мысли. Например, понимание божественного происхождения монархической власти или антихристианской сущности Революции как восстания человеческого Я против Высшей Воли является первичным в логике поэта и совершенно необходимо для адекватной интерпретации тех или иных, вполне конкретных, проблем внутренней или внешней политики.
Здесь будет уместным привести принципиальные возражение Тютчева Ф.В. Шеллингу, сделанное в начале 30-х гг.: "Вы пытаетесь совершить невозможное дело. Философия, которая отвергает сверхъестественное и стремится доказывать все при помощи разума, неизбежно придет к материализму, а затем погрязнет в атеизме. Единственная философия, совместимая с христианством, содержится в Катехизисе. Необходимо верить в то, во что верил святой Павел, а после него Паскаль, склонять колена перед Безумием креста или же все отрицать. Сверхъестественное лежит в глубине всего наиболее естественного в человеке. У него свои корни в человеческом сознании, которые гораздо сильнее того, что называют разумом…" (Литературное наследство. М., 1989. Т. 97. Кн. 2. С. 37).
Применительно к публицистике в споре поэта с Ф.В. Шеллингом важно выделить его историософский "кристалл", непосредственно связанный с христианским онтологическим и антропологическим основанием. Тютчев в резко альтернативной форме, так сказать по-достоевски (или-или), ставит самый существенный для его сознания вопрос: или апостольско-паскалевская вера в Безумие креста - или всеобщее отрицание, или примат "божественного" и "сверхъестественного" - или нигилистическое торжество "человеческого" и "природного". Третьего, как говорится, не дано. Речь в данном случае идет о жесткой противопоставленности, внутренней антагонистичности как бы двух сценариев ("с Богом" и "без Бога") развития жизни и мысли, человека и человечества, теоцентрического и антропоцентрического понимания бытия и истории. "Человеческая природа, - подчеркивал поэт незадолго до смерти, - вне известных верований, преданная на добычу внешней действительности, может быть только одним: судорогою бешенства, которой роковой исход - только разрушение. Это последнее слово Иуды, который, предавши Христа, основательно рассудил, что ему остается лишь одно: удавиться. Вот кризис, чрез который общество должно пройти, прежде чем доберется до кризиса возрождения…" (Цит. по: Аксаков. С. 198). О том, насколько владела сознанием Тютчева и варьировалась мысль о судорогах существования и иудиной участи отрекшегося от Бога и полагающегося на собственные силы человека, можно судить по его словам в передаче А.В. Плетневой: "Между Христом и бешенством нет середины" (Литературное наследство. М., 1988. Т. 97. Кн. 1. С. 567).
Представленная альтернатива типологически сходна с высшей логикой Ф.М. Достоевского (достаточно вспомнить образ Ставрогина в "Бесах" или рассуждения "логического" самоубийцы в "Дневнике писателя"), неоднократно предупреждавшего, что "раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов" и что, "начав возводить свою "вавилонскую богиню" без всякой религии, человек кончит антропофагией". И по Тютчеву, и по Ф.М. Достоевскому, без веры в Бога невозможно нормальное развитие, гармоничный ум и подлинная жизнеспособность личности, общества, государства, ибо в ней удовлетворяется глубинная, более или менее осознанная, потребность человека в обретении не теряемого со смертью смысла жизни, естественно укрепляются духовные начала и утверждается высшая нравственная норма бытия. В свете вечности, безусловных ценностей и неколебимой разумности и обретается человеческое в человеке, который тогда не довольствуется собственной греховной природой и стремится к ее преображению.
Забывая Бога и отрываясь от своих мистических корней (сверхъестественного в глубине всего наиболее естественного - в терминологии Тютчева, от живоносного соприкосновения мирам иным - в лексике Ф.М. Достоевского), человек утрачивает высшую нравственную норму бытия и истинную свободу, теряет способность постоянного различения добра и зла и становится "бешеным", ибо безысходно блуждает в поисках иллюзорного бессмертия и подлинно разумного оправдания жизни. Если нет Бога и высшего смысла, то их место занимают смерть и нигилизм, а личность предает самое себя, лишается бесконечного содержания, опустошается в безуспешном "вавилонском" строительстве и обманчивой погоне за "счастьем", что лишь умножает семена бытийной досады и усиливает гедонистические "судороги", желание урвать все от кратковременной жизни.
Обозначенная альтернатива входит в саму основу мировоззрения Тютчева, пронизывает его философскую и публицистическую мысль и иллюстрируется в таком качестве фундаментальной логикой В.С. Соловьева: "Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отнести к себе и все определить собою, - пока эта темная основа у нас налицо - не обращена - и этот первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нее никакое настоящее дело и вопрос что делать не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления <…> Истинное дело возможно, только если в человеке и в природе есть положительные силы добра и света; но без Бога ни человек, ни природа таких сил не имеет" (Соловьев В. Соч.: В 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 311, 315).
Точки зрения Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьева подчеркивают, в русле какой традиции и какого подхода находится мышление Тютчева, которое в такой типологии не получило должного освещения в его философии истории. Согласно логике поэта, "без Бога" и без следования Высшей Воле темная и непреображенная основа человеческой природы никуда не исчезает, а лишь принаряживается и маскируется, рано или поздно дает о себе знать в "гуманистических", "научных", "прагматических", "государственных", "политических" и иных ответах на любые вопросы "что делать?". Более того, без органической связи человека "с Богом" историческое движение естественно деградирует из-за гибельной ослабленности высшесмыслового и жизнеутверждающего христианского фундамента в человеке и обществе, самовластной игры отдельных государств и личностей, соперничающих идеологий и борющихся группировок, господства материально-эгоистических начал над духовно-нравственными. Именно в таком господстве поэт видел принципиальную причину непрочности и недолговечности древних языческих цивилизаций, казалось бы, несокрушимых империй, изнутри своей мощи никак не подозревавших о подспудном гниении и грядущем распаде.
Эта связь исторического процесса с воплощением в нем или невоплощением (или искаженным воплощением) христианских начал, а соответственно и с преображением или непреображением "первородного греха", "темной основы", "исключительного эгоизма" человеческой природы заключает глубинное смысловое содержание философско-публицистического наследия Тютчева. По его мнению, качество христианской жизни и реальное состояние человеческих душ является критерием восходящего или нисходящего своеобразия той или иной исторической стадии. Чтобы уяснить возможный исход составляющей сокровенный смысл истории борьбы между силами добра и зла, "следует определять, какой час дня мы переживаем в христианстве. Но если еще не наступила ночь, то мы узрим прекрасные и великие вещи" (Старина и новизна. Пг., 1915. Кн. 19. С. 205).
Между тем в самой атмосфере общественного развития, господстве нарождавшегося капиталистического и социалистического панэкономизма в идеологии, а также грубых материальных интересов и псевдоимперских притязаний отдельных государств в политике поэт обнаруживал "нечто ужасающее новое", "призвание к низости", воздвигнутое "против Христа мнимыми христианскими обществами". В год смерти он недоумевает, почему мыслящие люди "недовольно вообще поражены апокалипсическими признаками приближающихся времен. Мы все без исключения идем навстречу будущего, столь же от нас сокрытого, как и внутренность луны или всякой другой планеты. Этот таинственный мир может быть целый мир ужаса, в котором мы вдруг очутимся, даже и не приметив нашего перехода" (Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 198). Не преображение, а, напротив, все большее доминирование (хитрое, скрытое и лицемерное) ведущих сил "темной основы нашей природы" и служило для него основанием для столь мрачных пророчеств. В этом смысле он присоединяется к евангельской апокалиптике, в которой (вопреки материальной мощи и внешним достижениям) именно первичный духовный уровень, реальное нравственной состояние людей играют первостепенную роль: "Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся" (2 Тим. 3, 1 - 6).
Именно на стыке христианской метафизики, антропологии и историософии появляется понятие "христианской империи" как одно из центральных в тютчевской мысли (а не вообще империи или секулярного государства, как утверждают многие исследователи). По его убеждению, истинная жизнеспособность подлинной христианской державы заключается не в сугубой державности и материальной силе, а в чистоте и последовательности ее христианства, дающего духовно и нравственно соответствующих ей служителей. Основной пункт историософии Тютчева определен в словах Иисуса Христа, обращенных к Понтию Пилату: "Царство Мое не от мира сего" (Иоанн 18, 36). Он всецело разделяет противоположное всяким "гуманизирующим" и "адаптирующим" представлениям антиутопическое понимание христианства, которое уточнено в Нагорной проповеди и предполагает собирание сокровищ на небе, а не на земле. С его точки зрения, перенесение внимания с "сокровищ на небе" на "сокровища на земле" склоняет историю на путь гибельного антропоцентризма с его разнообразными иллюзиями и злоупотреблениями. Богоотступничество, самоначалие и самочиние сами в себе несут наказание, рано или поздно, всем ходом истории и внутренней логикой событий "свершается заслуженная кара за тяжкий грех, тысячелетний грех…"
По заключению Тютчева, "самовластие человеческого я" изнутри подрывало само христианское начало в католицизме, который разорвал с преданием Вселенской Церкви и проглотил ее в "римском я", отождествившем собственные интересы с задачами самого христианства и устраивавшем "Царство Христово как царство мира сего", способствовавшем образованию "незаконных империй" и закреплению "темных начал нашей природы". В его историософской логике искажение христианского принципа в "римском устройстве", отрицание "Божественного" в Церкви во имя "слишком человеческого" в жизни и проложило дорогу через взаимосвязь католицизма, протестантизма и атеизма безысходной драме и внутренней тупиковости современной истории, ибо духовная борьба в ней разворачивается уже не между добром и злом, а между различными модификациями зло, между "развращенным христианством" и "антихристианским рационализмом", между мнимо христианскими обществами и революционными атеистическими принципами.
Подобно Ф.М. Достоевскому, противопоставлявшему основным этапам европейского развития православно-славянские основы иной цивилизации, Тютчев также и ранее его искал спасительного выхода из овладевавшей Россией западной духовно-исторической традиции в неповрежденных корнях восточного христианства, сосредоточенного на духовном делании и преодолении внутреннего несовершенства человека, сохраняющего в полноте и чистоте принципы вселенского предания и переносящего их на идеалы социально-государственного устройства. Подлинная христианская империя, наследницу которой Тютчев видел в России, вместе с объединенным ею славянством, тем и привлекала его, что само ее идеальное начало (искажавшееся в реальной действительности) предполагает неукоснительное следование Высшей Воле, соотнесение всякой государственной деятельности с религиозно-этическим началом, духовно-нравственную наполненность "учреждений", что гораздо важнее для скрепляющего единства и истинного процветания державы, нежели внешняя сила и материальное могущество. Именно люди, обладающие не только обширными познаниями и отменными профессиональными качествами, но и - главное - не отклоняющиеся от христианских принципов идеального самодержавия, и составляют основное богатство страны. Царь же как Помазанник Божий и надсословная сила должен руководствоваться не интересами политических партий и конкурирующих придворных групп, а исходить из любви к добру и правде, опираться на Закон Божий, что его реально и объединяет со всем народом.
Для Тютчева именно в рамках подлинной самодержавной монархии, через связывающие человека с Богом ее традиции и понятия открываются широкие возможности для творческого почина и личностной самодеятельности народа. "Самодержавие же признавалось им тою национальною формой правления, - отмечал И.С. Аксаков, - вне которой Россия покуда не может измыслить никакой другой, не сойдя с национальной исторической формы, без окончательного, гибельного разрыва общества с народом" (Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 56 - 57). В понимании поэта единство веры, государства и народа в монархическом правлении предполагало в идеале развитие всех сторон социальной, экономической и политической жизни, при котором разные слои общества не утрачивали бы ее духовного измерения, добровольно умеряли бы эгоистические страсти и корыстные расчеты в свете совестного правосознания и свободного устремления к общему благу, органически сохраняли бы живые формулы человеческого достоинства: "быть, а не казаться", "служить, а не прислуживаться", "честь, а не почести", "в правоте моя победа". Он полагал, что через свободное и добровольное движение "вперед", осознанную солидарность и активность граждан, сочетание элементов внешнего прогресса с лучшими традициями и человеческими качествами цементируют монархию как высшую форму государственного правления, которой отдавали дань и другие выдающиеся представители русской культуры (А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский и др.).
Основой такой монархии для Тютчева служит "истинное христианство" в православии, противопоставляемое им, как и впоследствии Ф.М. Достоевским, "искаженному христианству" в католицизме. Последний писал о торгашестве, личных выгодах, обоготворенных пороках на Западе, существующих "под видом официального христианства, которому на деле никто, кроме черни, не верит" (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1981. Т. 23. С. 50). Напротив, Россия "несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, - православие", она - "хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах" (Там же. С. 43). В подобных противопоставлениях Ф.М. Достоевский повторяет ход мысли Тютчева, не раз подчеркивавшего двусмысленную роль и понижающую функцию "ложного", "испорченного", "развращенного" христианства.
Вместе с тем в монархическом устройстве современной ему России поэт обнаруживает ослабление первенствующей роли православного начала и соответственно проявление на свой лад "самовластия человеческого я", падение духовно-нравственного состояния служителей христианской империи, усиление самочиния бюрократического государства. В результате монархия таит в себе опасности властного произвола, чрезмерной опеки чиновничества над народом, погашения личностной самодеятельности и творческого почина, необходимых для преодоления вечно подстерегающего застоя и расцвета плодотворной жизнедеятельности. Подобные опасности, разрушавшие духовно-нравственный фундамент и идеальные принципы христианской державы индивидуальным несовершенством ее официальных представителей, вызывали самое пристальное внимание Тютчева. "Русское самодержавие как принцип, - подчеркивал он в письме от 2/14 января 1865 г. к А.И. Георгиевскому, - принадлежит, бесспорно, нам, только в нашей почве оно может корениться, вне русской почвы оно просто немыслимо… Но за принципом есть еще и личность. Вот чего ни на минуту мы не должны терять из виду" (Литературное наследство. М., 1988. Т. 97. Кн. 1. С. 388).
Но именно качество "личности" того или иного государственного лица или важного правительственного чиновника нередко терялось из виду и приводило поэта к самым отчаянным вопрошаниям: "Почему эти жалкие посредственности, самые худшие, самые отсталые из всего класса ученики, эти люди, стоящие настолько ниже нашего собственного, кстати очень невысокого уровня, эти выродки находятся и удерживаются во главе страны, а обстоятельства таковы, что нет у нас достаточно сил, чтобы их прогнать?" (Там же. С. 334). Среди самых разных "обстоятельств" его особенно поражает "одно несомненное обстоятельство", свидетельствующее о том, что "паразитические элементы органически присущи святой Руси": "Это нечто такое в организме, что существует за его счет, но при этом живет своей собственной жизнью, логической, последовательной и, так сказать, нормальной в своем пагубно разрушительном действии. И это происходит не только вследствие недоразумения, невежества, глупости, неправильного понимания или суждения. Корень этого явления глубже и еще неизвестно, докуда он доходит" (Там же).
С точки зрения Тютчева одна из главных задач и заключается в том, чтобы обнаружить истинную почву и корень "этого явления" и преодолеть бессознательность и невменяемость по отношению к нему. В его представлении умудренная власть должна по возможности изолироваться от "паразитических элементов" и обходиться без посредничества самодовлеющих бюрократов, осознать свою безнародность и отказаться от "медиатизации русской народности" (т.е. низведения ее на уровень объекта приложения разных сил и идей): "чем народнее самодержавие, тем самодержавнее народ" (Там же. С. 272). По его мнению, таков "закон нашей возможной конституции". Без реального же и полноправного представительства народа в земстве "всякое представительство будет ложь, колоссальный пуф", инструмент для удовлетворения партийно-корыстных интересов. Потому-то поэт и выступал принципиальным оппонентом тех, кто ратовал за "конституционные затеи", за скороспелое перенесение на русскую почву европейских институтов и парламентских учреждений, что они не только не соответствуют историческому опыту России, но и заключат в себе скрытую ложь, "невидимое" препятствие для подлинно свободного и творческого развития. "Как убедить народ Русский, чтобы он согласился дать себя опутать, в лице своего единственно законного представителя, царя, - этою ухищренною паутиною, так сказать, обрек себя на умышленную неподвижность, чтобы при каждом живом действии невольно и нечаянно не порвать на себе всей этой ухищренности?" (Там же).
Описанная логика составляет основу историософии и публицистики Тютчева, проступает в его политических статьях и придает им истинный масштаб и непреходящее значение. Она также расставляет по своим местам и в надлежащей иерархии такие важнейшие для его мысли понятия, как Христианство, Церковь, Империя, Православие, Католицизм, Протестантизм, Революция, Славянство, Россия, Запад, Человек, Свобода, Разум, Любовь, которые определяют ход Истории. Поэт признавался, что связывать прошлое и настоящее на, так сказать, больших расстояниях, совмещать время и вечность, уяснять возможные судьбы человеческого рода есть настоятельная потребность его существа. "Ближайший исход так же невозможно предугадать, - писал он об историческом процессе, - как нельзя предугадать, какая будет погода через неделю, но что касается окончательного результата, то это совсем иное: он может быть вычислен, как вычисляют затмение, которое произойдет через пятьсот лет" (Литературное наследство. М., 1935. Т. 31 - 32. С. 758).
Отличительные особенности личности и методологии Тютчева отметил после беседы с ним летом 1842 г. К.А. Фарнгаген фон Энзе: он "имеет дар всеобъемлющего взгляда на вещи при одновременном чувствовании всего своеобразного" (Литературное наследство. М., 1989. Т. 97. Кн. 2. С. 459). Годом позже в дневниковой записи он вновь подчеркивает: "С необычайным проникновением Т.<ютчев> говорит о своеобразии русских и славян вообще, о языках, нравах, формах правления; обнаруживает широкий исторический взгляд на древний спор и национальную борьбу греческой и латинской церквей" (Там же. С. 460). Уже в первой половине 30-х гг. всеобъемлющий взгляд поэта проявлялся в его разговорах с А.И. Тургеневым "о религиях, о католицизме, о Лютере и Риме", с Ф.В. Шеллингом о фундаментальном выборе между "Безумием креста" и тотальным отрицанием или в стихах "Как дочь родную на закланье…" (1831), где говорится о "звезде в незримой высоте" и "высшем сознаньи" народа, о "подвиге просвещенья" и целостности державы, об "общей свободе" и единстве "родных поколений" славян.
Когда речь заходит о западных источниках, влиявших на формирование мировоззрения и всеобъемлющего взгляда Тютчева, приходится сталкиваться с известным парадоксом: однозначность тех или иных оценок нередко не подкрепляется их содержательным наполнением, а отдельные факты биографии толкуются весьма расширительно. Например, по словам К. Пфеффеля, поэт испытывал серьезное воздействие теократических идей Ж. де Местра и "на всю жизнь сохранил их отпечаток" (Там же. С. 33). И.С. Гагарин утверждал, что в петербургских салонах Тютчев исполнял "роль православного графа де Местра" (Там же. С. 45). С последним сравнивал русского поэта и французский публицист Э. Форкад. За подобными выводами следуют многие позднейшие исследователи.
Действительно, можно говорить о чисто внешнем сходстве Тютчева и Ж. де Местра в их понимании божественного происхождения монархической власти, легитимизма или антихристианской сущности революции как восстания человеческого Я против Высшей Воли. Однако в более принципиальном и содержательном плане трудно представить менее сопоставимых мыслителей. Если для Ж. де Местра Католицизм является главным проводником религиозно-исторического единства и сопротивления разрушительным революционным тенденциям, то у Тютчева он, напротив, и порождает (через искажение христианства корыстной политикой) Протестантизм, Атеизм и Революцию, истинным противовесом которой выступает у него абсолютно неприемлемое для французского мыслителя Православие. По мнению католического публициста П. Лоранси, историософские построения Тютчева представляют собой "блестящую противоположность теориям христианского единства, изложенным г-ном де Местром" (Литературное наследство. М., 1988. Т. 97. Кн. 1. С. 238). К.В. Пигарев хотя и полагает вслед за П.Н. Сакулиным решающим воздействие представителей французского католического консерватизма и роялизма (Ж. де Местр, Ф.Р. Шатобриан, Л.Г. Бональд) на перенесение поэтом политических вопросов в религиозную сферу, тем не менее характеризует тютчевскую "систему великого славянского единства" как "систему Жозефа де Местра наизнанку" (Пигарев К.В. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 127).
Такое отталкивание и движение "от противного" становилось своеобразной чертой тютчевской мысли, которая, несмотря на свои личностные особенности, входила также в резонанс с ближайшим культурно-идеологическим контекстом в России, в частности, со спором А.С. Пушкина с П.Я. Чаадаевым. Тютчев на свой лад выражал общую для эпохи тягу сознания к историзму, к всеобъемлющему пониманию протекших и грядущих веков. Так, в начале 30-х годов Н.В. Гоголь, по свидетельству В.В. Григорьева, был убежден, что он создан историком и призван к преподаванию судеб человечества. Сам Н.В. Гоголь, осуждая узкую фактографическую методологию, словно в тютчевском духе обращался к современному историку: "Вооружился взглядом современной бли
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Денис Иванович Фонвизин 1745-1792
Коровин В. Л. 1745-1762: Московский университетРод Фонвизиных восходил к ливонским рыцарям: в XVI в., при Иоанне Грозном, рыцарь-меченосец фон В
- Зеркало Шекспира
Юрий Зеленецкий Вместо предисловия В издании in-folio 1623 года пьес В. Шекспира помещены четыре посвященные его памяти стихотворения, написа
- Песни о богах
Песнь о Хюмире Старшая Эдда (Eddadigte) вторая половина XIII в. Сборник древнеисландских песен Исландская литература Раз боги с охоты возвраща
- "...Моим стихам, как дpагоценным винам, настанет свой чеpед"
"..."М.Цветаева Русская поэзия наше великое духовное достояние, наша национальная гоpдость. Hо многих поэтов и писателей забыли, их не печа
- Фантастическое в ранней прозе Н.В.Гоголя
Сперва настроим оптику, наведем фокус. Чем удаленней от нас автор, тем больше риск совместить его собственную жизнь с жизнью его персона
- Ю. В. Манн. У истоков русского романа
I В 1825 году П. А. Вяземский опубликовал в "Московском телеграфе" "Письмо в Париж", в котором сообщал самые важные литературные новости: гово
- Орест Сомов и его проза
Н. Н. ПетрунинаЛитературная судьба Ореста Сомова удивительна. После полутора десятилетий живого участия в самых разнообразных журналах
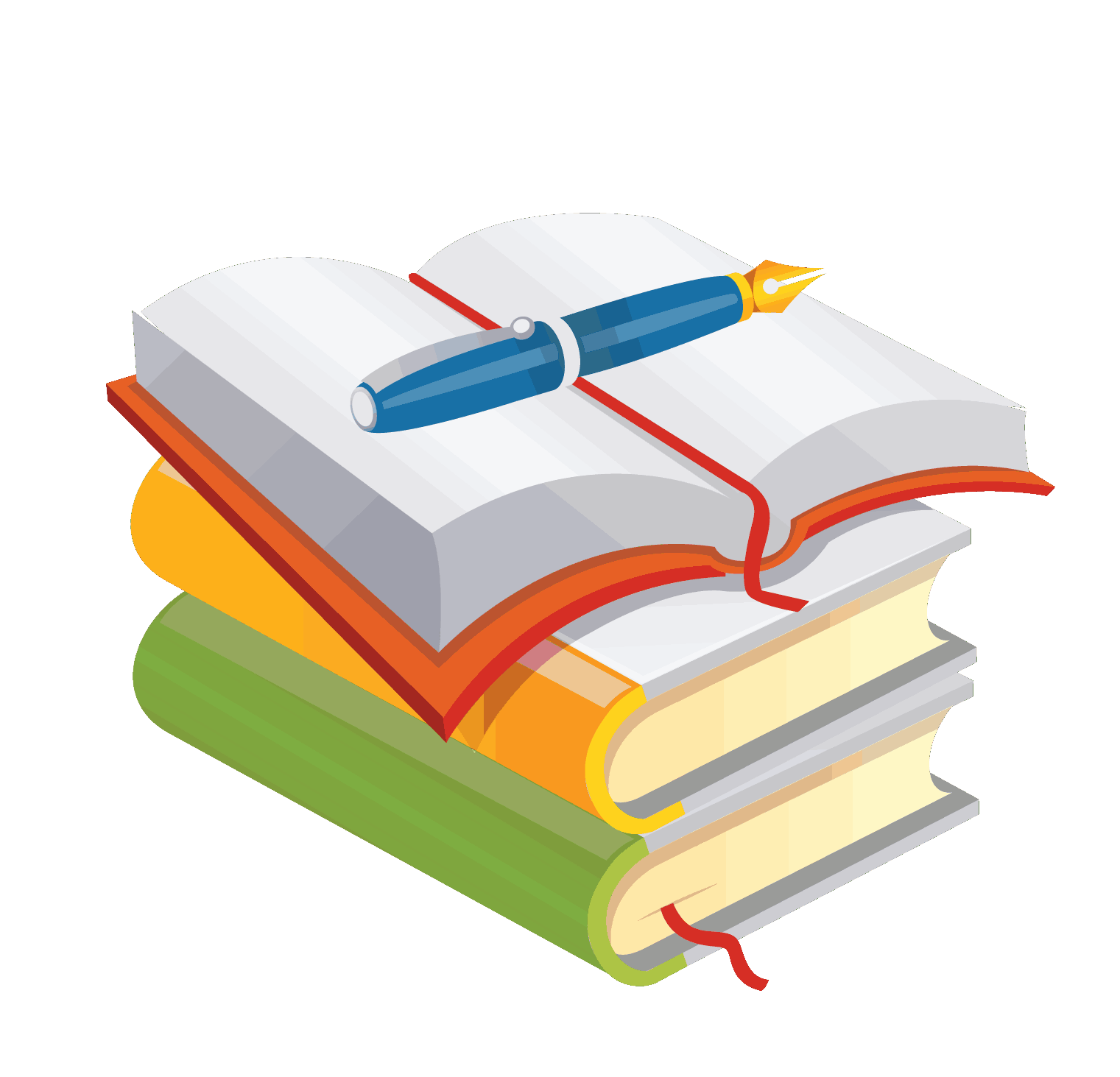 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.