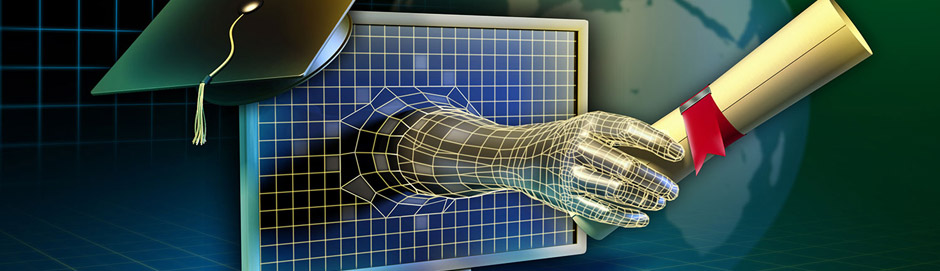Западники и славянофилы - дискуссия по поводу цивилизационной политической идентичности России
СОДЕРЖАНИЕ
Введение. 2
1 Историческое развитие течений западников и славянофилов. 5
1.1 Развитие России в 19 веке, предпосылки и условия возникновения течений западников и славянофилов. 5
1.2 Зарождение западничества и славянофильства. 14
2 Славянофилы и западники: дискуссии о России и ее судьбе (с 40-х годов) 31
2.1 Взгляды славянофилов (Гегель, Шеллинг) 31
2.2 Взгляды западников (Герцен, Бакунин, Белинский) 41
2.3 Основные противоречия западничества и славянофильства. 49
3 Новая Россия – выбор пути развития. 52
3.1 Проблема западничества и славянофильства в современной России (Тютчев) 52
3.2 Перспективы развития России. 56
Заключение. 66
Список использованной литературы.. 68
Актуальность исследования обусловлена тем, что в переломные времена Россия, ее интеллектуальная элита, стремясь найти адекватные ответы на вызовы истории и обрести достойное место в мире, неизбежно обращаются к истокам народной жизни и культуры, самобытным духовным началам и основаниям русского бытия. Лишь на этом пути может быть продолжен процесс развития национального самосознания и идентификации как условие достижения тех результатов, которые соответствуют высоким притязаниям.
Поэтому понятен устойчивый интерес к прошлому отечественной мысли и крупнейшим ее представителям, принадлежащим к различным идейным течениям и философским направлениям. Важное место среди них занимают славянофилы, творчество которых оставило ярчайший след в русской истории и культуре.
Та роль, которую играют идеи славянофильства в духовной жизни современного русского общества, острота вызываемых ими интеллектуальных дискуссий подтверждают актуальность темы данного исследования.
За последние десятилетия к идейному наследию славянофилов обращались профессиональные отечественные и зарубежные философы, литературоведы, историки, культурологи, социологи, религиоведы, представители других областей знания и науки. В результате создан значительный массив литературы (монографий, статей, сборников), защищены десятки диссертаций, опубликованы новые источники. Исследованы самые различные стороны славянофильства. При этом редкое направление русской мысли вызывало столь разноречивые суждения и оценки.
Появилось немало трудов, в которых видно стремление глубоко разобраться в проблеме, освоить неизвестные источники и материалы, использовать новейшие методы исследования.
В то же время интерес к творчеству славянофилов реализуется в контексте недостаточной разработанности и развитости историографии русской философии как важного подраздела историко-философской науки. В современной отечественной литературе наблюдается «крен» в сторону «концептуализма», построения разного рода общих концепций и «моделей», часто не подтвержденных эмпирическим материалом из истории русской философии. Это явление можно квалифицировать как своего рода «историографический дефицит», обнаруживающийся прежде всего в незнании источников.
В результате для современного этапа историко-философской мысли, ряда ее представителей нередко характерны недостаточный учет, игнорирование или вовсе отрицание сложившихся традиций, а также точек зрения и результатов, выработанных предшествующими поколениями исследователей различных тем русской философии. Такие авторы пишут как бы «впервые» на разные темы, включая и славянофильство.
Отсюда очевидны актуальность и важность квалифицированного историографического подхода к изучаемой историко-философской проблеме как необходимого условия и предпосылки эффективного исследовательского процесса. При этом, однако, такой подход не должен трактоваться как простое реферирование, библиографический обзор или указатель источников. Нам известна лишь одна работа, удовлетворяющая этим требованиям – статья Б.В. Емельянова «Историография русской философии» в словаре «Русская философия» (1995) под редакцией Маслина М.А.. Однако она посвящена русской философии в целом, но не историографии философии славянофилов и западников.
Существуют и другие теоретико-методологические трудности. Нередко исследователи, имея в виду специфические задачи различных философских и других дисциплин, сосредоточиваясь на каком-либо одном аспекте творчества славянофилов, иногда изолируя избранный ракурс от остальных и, естественно, привлекая соответствующие источники и материалы, приходят к односторонним суждениям, выводам и оценкам. И сегодня, например, распространенными являются утверждения о приверженности славянофилов патриархальной жизни, попытках вернуть Россию к допетровским временам, неприязни к Западу. Подчас славянофилов отождествляют с теоретиками «официальной народности». Только игнорированием принципа историзма можно объяснить еще встречающееся расширительное толкование термина «славянофильство», когда исследователи ведут начало этого феномена от ХVII века, доводят его до 1917 года, а иногда – даже до наших дней.
Все это убеждает в актуальности научного анализа и обобщения проведенных в последние десятилетия в стране историко-философских исследований славянофильства, а также подведения итогов, систематизации и оценки полученных в них результатов, с тем чтобы точнее и отчетливее наметить ориентиры и направления будущих исследований. В отечественной философской литературе сегодня отсутствуют обобщающие работы, специально посвященные исследованию той разновидности знания, которое ориентировано на анализ философии славянофилов и западников.
Целью настоящей дипломной работы является исследование различий во взглядах на дальнейшее развитие России в философии славянофилов и западников. Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:
1. охарактеризованы исторические предпосылки развития славянофильства и западничества;
2. проанализированы особенности их течений, раскрыты основные противоречия между ними;
3. на основе проведенного анализа сделаны выводы о путях дальнейшего развития России.
Дипломная работа написана на 70 листах и состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы..
1 Историческое развитие течений западников и славянофилов
1.1 Развитие России в 19 веке, предпосылки и условия возникновения течений западников и славянофилов
Общественно-политическая история России первой половины XIX в. представляет собой широкую сферу для научного изучения. Пути эволюции страны, борьба различных социальных сил за новый государственный строй, судьбы крестьянства — все эти проблемы в последнее время привлекают особое внимание(1). Одним из главных для историков является вопрос: почему осуществление кардинальных и давно назревших реформ (введение конституции и освобождение крестьян) столь затянулось? Этому, безусловно, способствовали самодержавие как политическая система, а также противодействие консервативного дворянства. Однако осознание передовым общественным мнением отставания России от стран Запада, понимание того, что страна переросла самодержавие, обусловили появление программ коренных преобразований. Попытка изменить исторический путь развития Российского государства закончилась, как известно, победой Николая I на Сенатской площади. Так началась эпоха, которая в историографии обозначена как торжество реакции, идейный кризис и упадок, трагедия сломленного последекабристского поколения.
Но так ли это? Ведь и в последекабристские годы общественно движение, принимая разные формы и исходя от различных социальных групп, несомненно, развивалось. Оно, конечно, не достигло уровня декабризма, но подъем гражданского самосознания в русле этого движения протекал весьма интенсивно.
Отметим, что идейные искания последекабристского пятнадцатилетия изучены не в полной мере. Они рассматривались или в общем контексте истории освободительного движения всей первой половины XIX в., или только в рамках революционной традиции(2).
Необходимо поставить вопрос об отношении русского общества к делам и людям 14 декабря 1825 г., поскольку все идейные и общественные настроения этого времени были связаны с реакцией на декабризм и были вовсе не однозначными. “Дело всей России”, как было названо восстание в Манифесте 13 июля 1826 г., действительно стало таковым и отражало поиски путей преобразования страны.
“Когда вопрос не разрешен,— писал почти через 10 лет после восстания декабристов М.С.Лунин,— а только замят или обойден, то он всплывет опять... Постепенно зреющая мысль в краю нашем должна снова обратить общее внимание на дело Тайного общества(3)”. В последекабристские годы вновь встали давно назревшие и неразрешенные задачи коренных изменений в государственном и общественном строе страны.
Расправившись с декабристами, правительство стремилось устранить возможность повторения подобного в будущем. С этой целью — предотвратить и пресекать все формы оппозиционности — в 1826 г. было создано III Отделение, т. е. учреждение, призванное осуществлять тайный надзор “за настроением общественного мнения” и “народного духа(4)”. 14 декабря показало правительству всю опасность недостаточного внимания или пренебрежения к внутренней жизни общества. По мнению А. X. Бенкендорфа, это невнимание привело к ослаблению связи между правительством и обществом, что влекло за собой “обманутые ожидания, обоюдные ошибки и, наконец, разрыв, породивший заговор наших мятежников(5)”.
В мемуаристике николаевской эпохи, а вслед за ней в исторической литературе утверждается, что в эти годы выражения общественного мнения, по крайней мере “гласного и открытого”, не существовало(6). Отчасти это верно. В николаевское царствование общество не только не принимало никакого участия в управлении, но даже толком не было осведомлено о государственных проблемах. Прессы в том виде, какой она приобрела позже, по существу не было.
Однако процесс роста национального самосознания общества продолжался. Попытки выразить общественное мнение имели место и в эти годы, пусть они и не могли получить должного общественного резонанса, как в более позднее время. Только в делах Комитета 6 декабря 1826 г., хранящихся в Российском государственном историческом архиве, собрано около 40 записок и всеподданнейших докладов конца 1820—1830-х гг., относящихся к проблеме государственного преобразования страны и освобождения крестьян от крепостной зависимости. Причем, если по первому вопросу чаще встречаются записки “неизвестного”, то в отношении крестьян — это чаще всего записки и другие материалы популярных государственных деятелей того времени — II. С. Мордвинова, В. П. Кочубея, С. С. Уварова.
В других фондах того же архива имеется также ряд записок по крестьянской тематике, сводящихся к необходимости постепенной отмены крепостного права в России.
При отсутствии свободы печати особой формой выражения общественного мнения становились перлюстрированные письма. Так, П. А. Вяземский в своей переписке и в “Моей исповеди” повторял, что всегда писал откровенно “в надежде, что правительство наше, лишенное независимых органов общественного мнения, узнает через перехваченные письма, что есть, однако же, мнение в России, что посреди глубокого молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный, представитель мнения общего(7)”. Подобную цель преследовал и М. С. Лунин, посылая письма сестре из Сибири. Он знал, что его письма ходят в рукописных списках в обществе и известны правительству, и был рад этому. Этот способ он считал единственно возможным, чтобы воздействовать на правительство и напомнить ему о необходимости разрешить “органические вопросы быта общественного”. “Гласность, какою пользуются письма мои... обращает их в политическое оружие, коим я должен пользоваться для защиты дела свободы”,— писал он(8).
Значение общественного мнения хорошо понимали и руководители III Отделения. Так, А.X. Бенкендорф полагал, что “общественное мнение для власти то же, что топографическая карта для начальствующего армией(9)”. Его нельзя навязать, за ним надо следовать, так как оно никогда не останавливается. “Можно уменьшить, ослабить свет... но погасить это пламя — не во власти правительства, (его) не засадишь в тюрьму, а прижимая, только доведешь до ожесточения(10)”. Ежегодные отчеты III Отделения за 1827—1830 гг. о состоянии общественных настроений по сути своей являются собранием проектов реформ в аграрной, финансовой, юридической и других сферах. Они также содержат анализ политического состояния и настроений в Польше, прибалтийских провинциях, в Финляндии, характеризуют отношение общественного мнения страны к войнам с Персией и Турцией, французской и польской революциям 1830 г. Причем в обзорах, рассматривающих позиции всех классов общества, подчеркивается, что высшее общество лишено теперь морального авторитета и общественное мнение исходит из кругов средних классов, которые составляют “душу империи”, за исключением двора, “все недовольны”. Разбирая причины недовольства каждого слоя, авторы отчетов уделяют особое внимание изменению положения крепостного крестьянства и спасению дворянства от “неминуемого банкротства”. Чрезвычайно интересна характеристика крепостных, данная управляющим канцелярией III Отделения М. Я. Фон Фоком: “Среди этого класса встречается гораздо больше рассуждающих голов, чем можно было предположить... они хорошо знают, что во всей России только народ-победитель — русские крестьяне находятся в состоянии рабства; все остальные — финны, татары, латыши... и т. д.— свободны... В начале каждого нового царствования мы видим бунты, потому что народные страсти не довольствуются желаниями и надеждами...(11)”.
Вместе с тем ни Бенкендорф, ни Фок не считали общественное мнение “эквивалентом разума или истины”, хотя призывали его учитывать. С их точки зрения, оно может быть благом, когда просвещенно, и является злом, когда заблуждается, становясь силой, оппозиционной правительству(12). Интересно, что сходные мысли прослеживаются в “Апологии сумасшедшего” П. Я. Чаадаева, который считает, что “общее” мнение не тождественно безусловному разуму и истина не рождается в толпе(13). Каково было мнение Николая I — неизвестно, хотя издатель отчетов III Отделения А. А. Сергеев, анализируя маргиналии, оставленные императором при чтении этих отчетов, замечает, что он находил в них мысли и взгляды, совпадающие с его собственными.
Ценность характеристик этих обзоров в том, что они отражают взаимоотношения между обществом и правительством. Эта проблема крайне сложна и нуждается в самом тщательном конкретном изучении применительно к разным этапам развития общества и государственной власти, разумеется, с учетом национальных и исторических традиций. Несомненно, в обществе всегда есть силы, оппозиционно настроенные по отношению к правительству. Но в определенные периоды их оппозиционность выражается в большей или меньшей степени и различными средствами. При этом всякое очередное оживление оппозиционных настроений в обществе связано с решением назревших объективных задач развития страны.
Планы преобразования государства занимают особое место в общественной мысли уже с конца XVIII — начала XIX в. Кризис самодержавия в это время усилился, становилось все более ясно, что государственный механизм не справляется с управлением страной. Это поняли и сами монархи, и их ближайшее окружение. “Нерешительный постепеновец” Александр I, как его метко охарактеризовал С. Г. Сватиков(14), и его “молодые друзья” стали осознавать, что самодержавие уже не соответствует духу времени”. Опыт Французской революции подсказывал, что только конституционализм может предохранить общество от назревающей революционной опасности. Но они боялись ограничения самодержавия до проведения реформ, считая его наиболее удобным механизмом их осуществления. Эти идеи были широко распространены в обществе среди передовой части дворянства 1810-х гг. В “Записке о необходимости перемен в России”, предназначенной для Александра I, известный либерал-конституционалист А. И. Тургенев настойчиво проводил мысль, что уничтожение крепостного права всего легче осуществить при просвещенном и умном монархе. С его точки зрения, “неограниченная власть правителя (...) позволяет ему приказанием уничтожить сей позорный институт(15)”.
Кроме того, правительственные реформаторы начала века видели препятствие проведению реформ в сопротивлении большинства дворянства и потому предпочитали не вступать с ним в конфликт. Тем более, что суть всякой власти такова, что она желает реформации только в рамках той государственной системы, в которой она существует. Она не может желать уничтожения самой себя.
Первая же радикальная антиправительственная оппозиция, ставшая совершенно новым явлением в общественной жизни России, закончила свои поиски изменения социально-экономической системы страны попыткой совершить “военную революцию” на Сенатской площади. Актуальность тайного союза до 1821 г. была очевидна как для самих его членов, так и для правительства и либерального меньшинства, поскольку он был основан, по словам М. С.Лунина, на “обетах власти(16)”. Ведь в своей речи на Варшавском сейме Александр I твердо заявил о намерении дать “благотворное конституционное правление всем народам, провидением мне вверенным(17)”. Но неспособность правительства решить основные проблемы социально-экономического развития страны привела к тому, что русское оппозиционное движение вскоре превратилось в революционное.
После 1825 г. осмысление событий 14 декабря представители почти всех слоев русского общества способствовало еще большей его поляризации(18). Общим было убеждение в необходимости перемен, а выход каждый видел свой, хотя не все сознавали, что какой бы ни был выбран путь — эволюционный или революционный,— ни тот, ни другой не могли полностью исключить или заменить друг друга.
Следует сказать, что и до 14 декабря отношение общественного мнения к декабристской идеологии было далеко не однородным. В конце 1820—1830-х гг. для русского общества тоже было характерно различное отношение к декабризму — как к нравственному символу героизма, как к идеологии вообще и конкретно к восстанию 14 декабря как ее радикальному проявлению(19).
Благородство, самоотверженность, жертвенность и мировоззренческие ценности декабристов были близки современникам. “И через 100 лет эшафот послужит пьедесталом для статуй мучеников”,— писал Н. И. Тургенев(20). А.И. Герцен неустанно повторял, что 14 декабря стало нравственным переворотом и пробуждением для целых поколений российских интеллигентов(21). Деятельность тайных обществ представлялась многим как проявление общеевропейского “духа преобразований”, а 14 декабря — “как вспышка общего неудовольствия(22)”. В 1826 г. П. А. Вяземский писал В.А.Жуковскому: “Я охотно верю, что ужаснейшие злодейства, безрассуднейшие замыслы должны рождаться в головах людей насильственно и мучительно задержанных”, тогда как “правительство, опереженное временем, заснуло на старом календаре(23)”.
Именно вопрос, каким путем должен быть изменен государственный строй России — революционным или реформаторским,— стал для “Союза Благоденствия” камнем преткновения еще в 1819—1821 гг. Эти расхождения привели к массовому выходу из этой организации. Такие видные участники организации, как А. II. Муравьев, Ф. II. Глинка, Д. В. Давыдов и люди близкие к ним — А. С. Грибоедов, С. Е. Раич и другие, впоследствии так и не вошли ни в “Северное”, ни в “Южное” общества и остались на позициях раннего либерально-просветительского декабризма. В 1822 г. отделился от общества один из самых талантливых людей эпохи — М. С. Лунин. Главной причиной тому было все более усиливающееся разногласие между умеренным крылом Союза и его радикальной группой в “предположенной цели и в средствах к достижению оной”. Последние были готовы бороться за будущую Россию с использованием вооруженной силы, тогда как “сокровенной целью” умеренных было “водворение законно-свободного правления в России(24)”. С другой стороны, намерение радикалов преобразовать общество в организацию с более четкой революционной программой заставляло их избавиться от людей, не разделявших крайних взглядов руководства. Таким образом, стремясь прямолинейно следовать передовым западным образцам, они в своем реформаторстве забегали далеко вперед и отрывались от политических установок и позиций прогрессивно мыслившего меньшинства русского дворянства. Именно этот факт сыграл свою роль в решении многих умеренных либералов-конституционалистов (П. А. Вяземского, А. И. Тургенева), близких к декабристским кругам, отказаться от предложений вступить в тайное общество, куда их не раз приглашали. Это понимали как сами декабристы, так и правительство. В 1826 г. в секретном приложении № 3 к Всеподданнейшему докладу Следственной комиссии говорилось, что “злоумышленники думали... что найдут себе пособие и в общем расположении умов... они воображали, что все... изъявляющие неудовольствие, пристанут к ним и уже в душе их сообщники(25)”.
Та же причина лежала в основе негативного отношения к выступлению 14 декабря людей социально и мировоззренчески близких к декабристам. Об этом свидетельствуют письма за 1825— 1826 гг. А. И. Оленина, Ф. И. Тютчева, В. А. Жуковского, А. С., Ф. С. и С. А. Хомяковых, в которых действия декабристов характеризуются как насилие и преступление(26). Они тоже видели — так дальше жить нельзя, нужны перемены, но опасались, что в такой отсталой стране, как Россия, революция приведет к террору и трагедии.
1.2 Зарождение западничества и славянофильства
В 1876 г. П. А. Вяземский, встречавшийся с уже вернувшимися из ссылки декабристами, рассуждал, что “сама затея совершить государственный переворот на тех началах и при тех способах и средствах, которые были в виду... доказывает политическую несостоятельность и умственное легкомыслие этих мнимых и самозванных преобразователей... Они мечтали, что стоит им только захотеть, обязать себя клятвою, и дело народного спасения и перерождения... возникнет само собой. Это были утописты, романтические политики или политические дилетанты...(27)”.
Так же думал и А. С. Грибоедов, заметив однажды, что 100 прапорщиков желают перевернуть государственный строй России(28), а будущий теоретик славянофильства А. С. Хомяков еще до восстания, полемизируя с К. Ф. Рылеевым, говорил: “из всех революций самая беззаконная есть военная революция(29)”.
Сомневались в законности намерений тайного общества и в моральном праве революционеров сделать счастливым свой народ, но без его участия, т. е. насильственным путем, А. С. Пушкин, П.Я. Чаадаев, В. Ф. Одоевский(30).
Таким образом, в либеральных кругах, наиболее близких к тайным обществам 1820-х гг., тактика “военной революции”, использованная 14 декабря, не нашла поддержки. Неудача декабристов еще более убедила либералов в неоправданности насильственной революции как средства преобразования страны. Причем трагедия на Сенатской площади воспринималась ими как крах радикальных средств борьбы, а не широкого декабризма как политической программы(31).
Декабристы, в их представлении, имели право пойти самостоятельным от правительства путем, но путем законного сопротивления произволу властей, а не замены единодержавия “тиранством вооруженного меньшинства(32)”.
Правы были и те современники, которые полагали, что причины неудачи декабристов во многом в недостаточном осмыслении ими исторического прошлого и настоящего развития России, игнорировании ее национальных особенностей и слепом восприятии западных образцов. “Возникнув из совершенно чуждого нам общественного строя, они (западные образцы)не могут иметь ничего общего с потребностями нашей страны”,— писал П. Я. Чаадаев(33). Возникло убеждение, что России незачем бежать за другими, а следует откровенно оценить себя и понять, каков должен быть путь развития, адекватный российским условиям.
В поисках своих дорог одни (Н. Г. Устрялов, П. И. Надеждин, М. Т. Каченовский) вглядывались в прошлое и, осмысливая историю России, находили в ней рецепты для будущего страны, обосновывали историческими традициями охранительные начала самодержавия, православия и народности (М. П. Погодин) или, предпочитая национальную почву, усиленно защищали российские традиции от западных посягательств (братья И. В. и Н. В. Киреевские и А. С. Хомяков).
Другие, пытаясь осознать опыт декабристов с позиций легального дворянского либерализма, вели поиск в теоретико-философском и религиозном направлениях. Это — кружок “любомудров”, кружок И. В. Станкевича, студенческий кружок “11 нумера” В. Г. Белинского, либерально-просветительский литературный кружок В. Д. Сухорукова в Новочеркасске, литературные общества в Харьковском университете, в Нежинском лицее. Причем либеральный лагерь был весьма широк и многолик — от аристократической “фронды” до истоков оппозиционности будущих славянофилов и западников.
Однако в эти годы в русском общественном движении были иные силы, которые преклонялись перед декабристами, считая себя “осколками” их движения, и создали “золотую легенду” о 14 декабря, которую подхватил А. И. Герцен(34). Это были представители наиболее радикальной части студенчества, разночинной молодежи и мелкопоместного дворянства, которые, пытаясь продолжить начатое декабристами дело, создавали тайные политические кружки. Такие кружки, более широкие по социальному составу, чем декабристские, возникали уже начиная с 1826 г. в Москве, Оренбурге, Курске и т. д. (кружки бр. Критских, бр. Раевских, тайное общество Н. П. Сунгурова и др.), причем центр движения переместился из Петербурга в Москву(35).
Кружки оставались в рамках декабристской революционности. Это подтверждается тем, что социальный состав их участников был представлен в основном выходцами из дворянского сословия, хотя с декабристами, конечно, исчез “чистый” элемент дворянства(36). В идеологическом отношении взгляды членов этих объединений представляли собой смесь революционных и либеральных воззрений с общими для того времени просветительскими идеями. Их политические установки (хотя документально оформленными программами они не подтверждены и прослеживаются только по показаниям в следственных делах) преимущественно сводились к насильственному политическому перевороту и установлению “конституционного правления(37)”.
И тем не менее “примитивная” революционность дворянской молодежи последекабристского периода вызывала страх повторения “14 декабря” в правительственных кругах. Вот что писал М. Я. фон Фок об этих “возмутителях спокойствия”: “Молодежь, то есть дворянчики от 17 до 25 лет, составляет в массе самую гангренозную часть империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыш якобинства, революционный и реформаторский дух... Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении в России, ни об общем ее состоянии, мечтает... о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения(38)”.
Начало 1830-х гг. стало рубежом в истории освободительного движения в России и связано с возникновением “русского социализма”. Но почему в столь отсталой в социально-экономическом отношении стране нашли поддержку идеи, которые явно опережали уровень ее развития. Вероятно, правы те исследователи, которые полагают, что в истории нередко случаются периоды относительно самостоятельного развития идеологии, опережающей социально-экономические условия жизни общества и государства(39).
Думается, связано это было и с тем, что утопический социализм удовлетворял столь сильную в обществе жажду “обновления”. В письме к Н. П. Огареву в 1833 г. А. И. Герцен писал, что “мир ждет обновления... Надобно другие основания положить обществам Европы... более права, более нравственности, более просвещенности(40)”. Не последнюю роль играло и осознание новым поколением того, что поражение декабристов не было случайным, что нужно, как писал Герцен, “перейти декабризм”. В своем дневнике за 1842 г., говоря о М. Ф. Орлове, он заключал, что “молодое поколение кланялось ветерану своих мнений, но шло мимо(41)”.
По вопросу об отношении Герцена к декабризму и вообще к революционности как методу ниспровержения старого социально-экономического и политического уклада жизни общества, в историографии нет полного единодушия. Но большинство исследователей справедливо считают, что переоценка декабристского опыта, а также крах польского восстания привели его к отрицанию “политики” как способа изменений в жизни страны(42).
В поисках нового мировоззрения Герцен, Огарев и их друзья остановились на утопическом социализме с его идеями социального переустройства общества путем длительных и мирных экономических преобразований и морально-этического совершенствования человека. Но вся эта программа сочеталась с надеждами на реформы “сверху”. При весьма отрицательном отношении к Николаю I Герцен все же полагал, что в России ведущую роль всегда играло правительство, а не народ. С его точки зрения, которая отражена в записке 1836 г. “Отдельные замечания о русском законодательстве”, правительство является не только “прогрессивным началом” в обществе, но нигде не стоит “настолько перед народом, как в России(43)”. Дворянство — оппозиционная сила, сдерживающая произвол власти, а народ пассивен, поскольку “не умеет понять своих прав”, считал он. Таким образом, желая сделать счастливым свой народ, Герцен в своем социализме все же активную роль отводит дворянству и правительству.
Интересно, что, заканчивая записку, Герцен сравнивает Россию и Америку как страны, по его мнению, лишенные сословных традиций. Предрекая, вслед за А. Токвилем, им обеим великое будущее, он писал: “Россия и Америка — две страны, которые поведут дальше юридическую жизнь человечества. Россия — как высшее развитие самодержавия на народных основаниях, а Америка — как высшее развитие демократии на монархическом основании(44)”
Однако уже после революции 1848 г. Герцен отчаянно спрашивал последователя социалистических идей: “Где лежит необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу. Почему мы должны думать, что новый мир будет строиться по нашему плану?(45)”.
Итак, в эти годы в России появился и получил распространение мирный просветительский социализм. Его последователям было присуще стремление понять личность в связи с обществом, т.е. социальность, а высочайшей целью общественного развития они считали “совершенствование личности”. Эти же идеи проповедовали II. В. Станкевич, В. Ф. Одоевский, А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, а также П. Я. Чаадаев(46).
Именно у Чаадаева идея об особом историческом пути и предназначении России получила наиболее четкое и яркое выражение. Чаадаев был как бы “мостом”, соединяющим эпоху декабристов с либеральным движением 1840-х гг. Имея тесные связи в декабристской среде и являясь членом “Союза Благоденствия”, он в 1821 г. уехал за границу и прекратил всякие отношения с тайным обществом. Почему? В отличие от своих мятежных друзей Чаадаев никогда не был склонен к практической политической деятельности(47). Для него самым важным была нравственная и умственная свобода. Во многом это было связано с воспитанием, которое он получил в иезуитском пансионе. Глубокая западная образованность иезуитов, их католическая диалектика привили ему любовь к западной цивилизации и широту взглядов. Вообще же следует заметить, что воспитанники пансиона (а ими были А. С. Меншиков, П. А. Вяземский, С. Г. Волконский, М. Ф. и А. Ф. Орловы) были лишены той односторонности, о которой писал Чаадаев в 1-м философическом письме(48). Так, и с точки зрения П. А. Вяземского, “честному человеку не следует входить ни в какое тайное общество”, так как “всякая принадлежность к тайному обществу есть уже порабощение личной воли своей тайной воли вожаков. Хорошо приготовление к свободе, которое начинается закабалением себя(49)”.
“Россия и Запад”, “русский путь” и западные образцы — сама постановка этой проблемы подразумевала для Чаадаева не географические понятия, а два порядка вещей, два мировоззрения. Анализируя особенности исторического пути развития России и находя именно в нем причины отсталости страны, он писал: “Одна из наиболее печальных черт пашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах... Это происходит от того, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим... ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций не того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не затронуты всемирным воспитанием человеческого рода(50)”. И все же отсталость для страны, с точки зрения Чаадаева, не только минус, но имеет ряд преимуществ, главное из которых — возможность избежать социальных конфликтов Запада.
Но если Чаадаев видел в “особом пути России” как позитивные, так и негативные моменты, то славянофилы усматривали в нем исключительно достоинства. Славянофильство в России явилось не только проявлением подъема национального самосознания, но и реакцией на практику западных моделей, использованных декабристами. Вообще же в зарождении в 1830-х гг. двух основных направлений будущего либерального течения — славянофильства и западничества — отразилась его внутренняя противоречивость. “Оба направления,— писал о них И. П. Огарев,— выходили из движения двадцатых годов. Слитые у декабристов — негодование на русскую действительность и любовь к России — раздвоились, одна сторона пошла в отрицание всего русского, другая — в отрицание всего нерусского(51)”. И будущие западники, и славянофилы, объединенные в годы своей юности в кружке II. В. Станкевича, исходили в своих построениях из осознания необходимости перемен в стране. Расхождения начались тогда, когда у одних возникла убежденность в избранности русского народа, обладающего преимуществами российской истории и потому истинными ценностями (община, земщина, православие); другие, наоборот, вслед за Чаадаевым считали, что мы не были затронуты общеевропейским воспитанием, у нас нет традиций и единства, а стало быть, и подлинной истории. Поэтому, полагали они, чтобы выйти из хаоса, необходимо ускорить развитие буржуазных отношений, а за образец правления взять конституционные монархии Западной Европы.
Касаясь отношения русского общества к вопросу о роли Запада в судьбах России, нужно отметить, что в эти годы в либеральной среде возникает своеобразное неприятие буржуазных отношений. Социальные контрасты и противоречия нарождающегося капитализма Запада, так называемые “язвы пролетариатства”, критиковали в своих работах А. С. Пушкин (“Путешествие из Москвы в Петербург”), П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский(52), а также М. А. Фонвизин и Н.
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Идеи традиционализма и модернизма работах русских консерваторов конца XIX–начала ХХ века
В последнее время в российском обществе часто поднимается проблема "традиции и модернизации". В 90 е годы прошлого XX века с их крайним и не
- Идейные истоки политической науки
1. Политическая мысль классической древности2. Политические идеи средневековья и эпохи Возрождения3. Политические концепции Нового врем
- Идеология "третьего пути"
- Имидж политических партий
Имидж не является сегодняшним изобретением. В XIX в. высшие сановники Российской империи были озабочены модернизацией страны, брали на се
- Ирак, кризис ООН
- Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района
Преддипломную практику проходила с 9 ноября 2006 года по 3 декабря 2006 года в Исполнительном комитете Альметьевского муниципального района
- История политической мысли
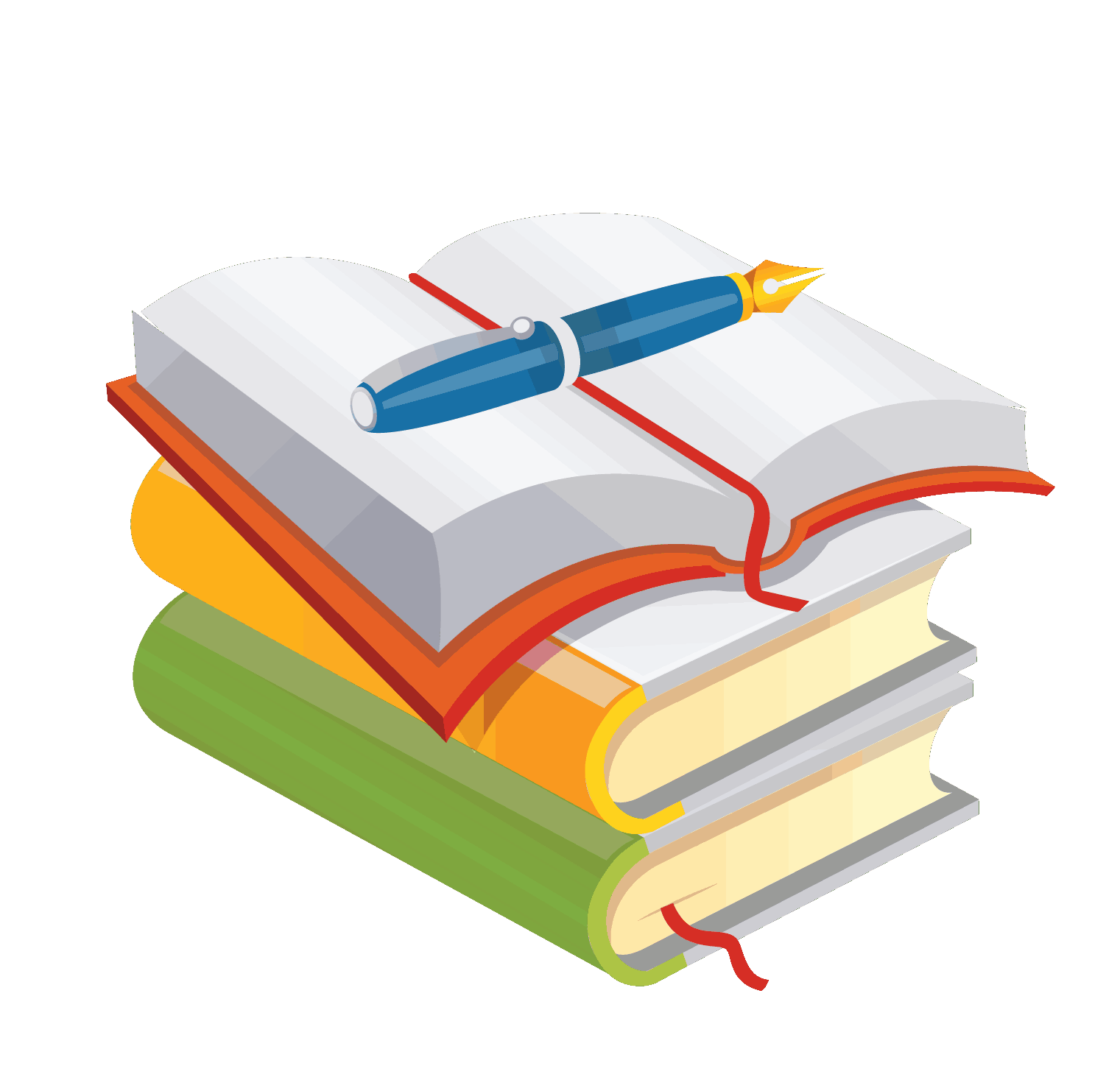 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.