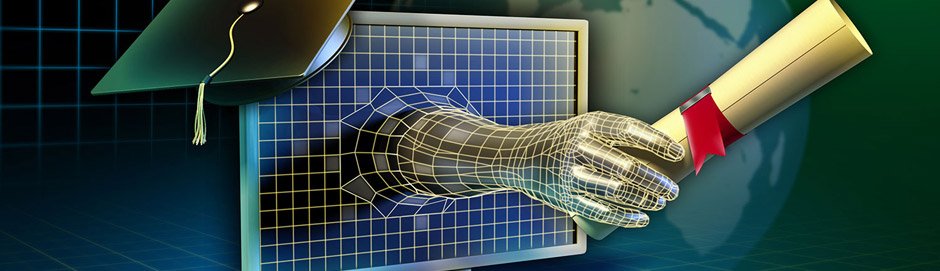Барокко в русской архитектуре
Барокко в русской архитектуре
На рубеже XVII и XVIII вв. в России закончилось Средневековье и началось Новое время. Если в западноевропейских странах этот исторический переход растягивался на целые столетия, то в России он произошёл стремительно — в течение жизни одного поколения.
Русскому искусству XVIII в. всего за несколько десятилетий суждено было превратиться из религиозного в светское, освоить новые жанры (например, портрет, натюрморт и пейзаж) и открыть совершенно новые для себя темы (в частности, мифологическую и историческую). Поэтому стили в искусстве, которые в Европе последовательно сменяли друг друга на протяжении веков, существовали в России XVIII столетия одновременно или же с разрывом всего в несколько лет.
Реформы, проведенные Петром I (1689—1725 гг.), затронули не только политику, экономику, но также искусство. Целью молодого царя было поставить русское искусство в один ряд с европейским, просветить отечественную публику и окружить свой двор архитекторами, скульпторами и живописцами. В то время крупных русских мастеров почти не было. Пётр I приглашал иностранных художников в Россию и одновременно посылал самых талантливых молодых людей обучаться “художествам” за границу, в основном в Голландию и Италию. Во второй четверти XVIII в. “петровские пенсионеры” (ученики, содержавшиеся за счёт государственных средств — пенсиона) стали возвращаться в Россию, привозя с собой новый художественный опыт и приобретённое мастерство.
XVIII столетие в истории русского искусства было периодом ученичества. Но если в первой половине XVIII в. учителями русских художников были иностранные мастера, то во второй они могли учиться уже у своих соотечественников и работать с иностранцами на равных.
По прошествии всего ста лет Россия предстала в обновлённом виде — с новой столицей, в которой была открыта Академия художеств; со множеством художественных собраний, которые не уступали старейшим европейским коллекциям размахом и роскошью.
В конце XVII в. в храмовой архитектуре возникает новый стиль - нарышкинское (московское) барокко. Самым значительным памятником его является московская церковь Покрова в Филях, отличающаяся изяществом, безукоризненными пропорциями, применением во внешней отделке таких декоративных украшений, как колонны, капители, раковины, а также своим "двуцветием"; использованием только красного и белого цветов; ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ в Санкт-Петербурге, памятник архитектуры русского барокко. Построен в 1754 - 62 В.В. Растрелли. Он был резиденцией российских императоров, с июля по ноябрь 1917 - Временного правительства. Мощное каре с внутренним двором; фасады обращены к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. Парадное звучание здания подчеркивает пышная отделка фасадов и помещений. В 1918 часть, а в 1922 все здание передано Эрмитажу; СМОЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ (бывший Воскресенский Смольный монастырь), памятник архитектуры в Санкт-Петербурге. В ансамбль входят собственно
монастырь, построенный в стиле барокко (1748 - 64, архитектор В.В. Растрелли; интерьер собора и корпуса келий - 1832 - 35, архитектор В.П.Стасов), и Смольный институт благородных девиц, первое в России женское среднее общеобразовательное учебное заведение (1764 - 917).
НАРЫШКИНСКИЙ СТИЛЬ (нарышкинское барокко, московское барокко), условное (по фамилии бояр Нарышкиных) название стилевого направления в русской архитектуре конца 17 - начала 18 вв. Характерны светски-нарядные многоярусные церкви, палаты знати с резным белокаменным декором, элементами ордера.
Яркими представителями этого стиля были:
Антропов Алексей Петрович(1716 - 95), Зарудный Иван Петрович, Франческо Барталомео Растрелли ...
МОСКОВСКОЕ БАРОККО: Процессы образования нового стиля наиболее активно развернулись в Москве и во всей зоне ее культурного влияния. Декоративность, освобожденная от сдерживающих начал, которые несла в себе традиция XVI столетия, в московской архитектуре исчерпала себя, сохранившись в хронологически отстававших провинциальных вариантах. Но процессы формирования светского мировоззрения развивались и углублялись. Их отражали утвердившиеся изменения во всей художественной культуре, которые не могли миновать и зодчество. В его пределах начались поиски новых средств, позволяющих объединить, дисциплинировать форму, поиски стиля.
Горностаев назвал его “московским барокко”. Термин (как, впрочем, и все почти термины) условный. Развернутая Г. Вёльфлином система определений барокко в архитектуре к этому явлению неприменима. Но предметом исследований Вёльфлина было барокко Рима; он сам подчеркивал что “общего для всей Италии барокко нет”. Тем более “не знает единого барокко с ясно очерченной формальной системой” Европа севернее Альп. Московская архитектура конца XVII-начала ХVIII в. была, безусловно, явлением прежде всего русским. В ней еще сохранялось многое от средневековой традиции, но все более уверенно утверждалось новое. В этом новом можно выделить два слоя: то, что характерно только для наступившего периода, и то, что получило дальнейшее развитие. Во втором слое, где уже заложена программа зрелого русского барокко середины XVIII в., очевидны аналогии с западноевропейскими пост ренессансными стилями - маньеризмом и барокко.
Главным новшеством, имевшим решающее значение для дальнейшего, было обращение к универсальному художественному языку архитектуры. В произведениях русского средневекового зодчества форма любого элемента зависела от его места в структуре целого, всегда индивидуального. Западное барокко, в отличие от этого, основывалось на правилах архитектурных ордеров, имевших всеобщее значение. Универсальным правилам подчинялись не только элементы здание но и его композиция в целом, ритм, пропорции. К подобному использованию закономерностей ордеров обратились и в московском барокко. В соответствии с ними планы построек стали подчинять отвлеченным геометрическим закономерностям, искали “правильности” ритма в размещении проемов и декора- Ковровый характер узорочья середины века был отвергнут; элементы декорации располагались на фоне открывшейся глади стен, что подчеркивало не только их ритмику, но и живописность. Были в этом новом и
такие близкие к барокко особенности, как пространственная взаимосвязанность главных помещений здания, сложность планов, подчеркнутое внимание к центру композиции, стремление к контрастам, в том числе - столкновению мягко изогнутых и жестко прямолинейных очертаний. В архитектурную декорацию стали вводить изобразительные мотивы.
В то же время, как и средневековая русская архитектура, московское барокко оставалось по преимуществу “наружным”. Б, Р. Виппер писал: “Фантазия русского зодчего в эту эпоху гораздо более пленена языком архитектурных масс, чем специфическим ощущением внутреннего пространства”. Отсюда - противоречивость произведений, разнородность их структуры и декоративной оболочки, различные стилистические характеристики наружных форм, тяготеющих к старой традиции, и форм интерьера, где стиль развивался более динамично.
Ярким иностранным представителем работавшим в России был Антонио Ринальди (1710-1794 г.). В своих ранних постройках он еще находился под влиянием “стареющего и уходящего” барокко, однако в полной мере можно сказать что Ринадьди представитель раннего классицизма. К его творениям относятся: Китайский дворец (1762-1768 г.) построенный для великой княгини Екатерины Алексеевны в Ораниенбауме, Мраморный дворец в Петербурге (1768-1785 г.) ,относимый к уникальному явлению в архитектуре России, Дворец в Гатчине (1766-1781 г.) ставший загородной резиденцией графа Г.Г. Орлова . А.Ринальди выстроил также несколько православных храмов, сочетавших в себе элементы барокко-пятеглавие куполов и высокой многоярусной колокольни.
В конце XVII в. в московской архитектуре появились постройки, соединявшие российские и западные традиции, черты двух эпох: Средневековья и Нового времени. В 1692— 1695 гг. на пересечении старинной московской улицы Сретенки и Земляного вала, окружавшего Земляной город, архитектор Михаил Иванович Чоглоков (около 1650—1710) построил здание ворот близ Стрелецкой слободы, где стоял полк Л. П. Сухарева. Вскоре в честь полковника его назвали Сухаревой башней.
Необычный облик башня приобрела после перестройки 1698— 1701 гг. Подобно средневековым западноевропейским соборам и ратушам, она была увенчана башенкой с часами. Внутри расположились учреждённая Петром I Школа математических и навигацких наук, а также первая в России обсерватория. В 1934 г. Сухарева башня была разобрана, так как “мешала движению”.
Почти в то же время в Москве и её окрестностях (в усадьбах Дубровицы и Уборы) возводились храмы, на первый взгляд больше напоминающие западноевропейские. Так, в 1704—1707 гг. архитектор Иван Петрович Зарудный (? — 1727) построил по заказу А. Д. Меншикова церковь Архангела Гавриила у Мясницких ворот, известную как Меншикова башня. Основой её композиции служит объёмная и высокая колокольня в стиле барокко.
В развитии московской архитектуры заметная роль принадлежит Дмитрию Васильевичу Ухтомскому (1719—1774), создателю грандиозной колокольни Троице-Сергиева монастыря (1741—1770 гг.) и знаменитых Красных ворот в Москве (1753—1757 гг.). Уже существовавший проект колокольни Ухтомский предложил дополнить двумя ярусами, так что колокольня превратилась в пятиярусную и достигла восьмидесяти восьми метров в высоту. Верхние ярусы не предназначались для колоколов, но благодаря им постройка стала выглядеть более торжественно и была видна издали.
Не сохранившиеся до наших дней Красные ворота были одним из лучших образцов архитектуры русского барокко. История их строительства и многократных перестроек тесно связана с жизнью Москвы XVIII в. и очень показательна для той эпохи. В 1709 г., по случаю полтавской победы русских войск над шведской армией, в конце Мясницкой улицы возвели деревянные триумфальные ворота. Там же в честь коронации Елизаветы Петровны в 1742 г. на средства московского купечества были построены ещё одни деревянные ворота. Они вскоре сгорели, однако по желанию Елизаветы были восстановлены в камне. Специальным указом императрицы эта работа была поручена Ухтомскому.
Ворота, выполненные в форме древнеримской трёхпролётной триумфальной арки, считались самыми лучшими, москвичи любили их и назвали Красными ("красивыми”). Первоначально центральная, самая высокая часть завершалась изящным шатром, увенчанным фигурой трубящей Славы со знаменем и пальмовой ветвью. Над пролетом помещался живописный портрет Елизаветы, позднее заменённый медальоном с вензелями и гербом. Над боковыми, более низкими проходами располагались скульптурные рельефы, прославлявшие императрицу, а ещё выше — статуи, олицетворявшие Мужество, Изобилие, Экономию, Торговлю, Верность, Постоянство, Милость и Бдительность. Ворота были украшены более чем пятьюдесятью живописными изображениями.
К сожалению, в 1928 г. замечательное сооружение было разобрано по обычной для тех времён причине — в связи с реконструкцией площади. Теперь на месте Красных ворот стоит павильон метро, памятник уже совсем другой эпохи.
Для архитектуры середины 17в. главной движущей силой была культура посадского населения. Московское барокко, как и барокко вообще, стало культурой прежде всего аристократической. Типами зданий, где развёртывались основные процессы стиле образования, стали дворец и храм.
Новый тип боярских каменных палат, в которых уже обозначились черты будущих дворцов 18в., сказывался в последней четверти 17 столетия.
Голландия в конце XVII в. широко посредничала между русской и западноевропейской художественной культурой. Тот же круг прообразов, что повлиял на форму завершения Сухаревой башни, был отражен в декоративной надстройке Уточьей башни Троице-Сергиевой лавры и колокольни ярославской церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Несомненно голландское происхождение ступенчатого фигурного фронтона, расчлененного лопатками, которым в 1680-е гг. О. Старцев украсил западный фасад трапезной Симонова монастыря в Москве. Увражи с гравированными изображениями построек западноевропейских городов (“чертежами полатными”) в это время были уже довольно многочисленны в крупнейших книжных собраниях Москвы.
Важное место в развитии архитектуры конца XVII в. занимают здания монастырских трапезных, образовавшие связующее звено между светской и церковной архитектурой. Пространственная структура этих зданий была однотипной. Над низким хозяйственным подклетом возвышался основной этаж. По одну сторону его смещенных к западу сеней находились служебные помещения, по другую - открывалась перспектива протяженного сводчатого зала, связанного через тройную арку с церковью на восточной стороне. Пространство, объединенное по продольной оси, определяло протяженность асимметричного фасада, связанного мерным ритмом окон,
обрамленных колонками, несущими разорванный фронтон. На фасаде трапезной Новодевичьего монастыря (1685-1687) этот ритм усилен длинными консолями, спускающимися от карниза по осям простенков. Самое грандиозное среди подобных зданий - трапезная Троице-Сергиевой лавры (1685-1692) - имеет в каждом простенке коринфские колонки с раскрепованным антаблементом; в местах примыкания поперечных стен колонки сдвоены. Их ритму на аттике вторят кокошники с раковинами (мотив, который повторен в завершении верхней части церкви, поднимающемся над главным объемом как второй ярус). Плоскость, подчиненная ритму ордера, его дисциплине, стала главным архитектурным мотивом храмов с прямоугольным объемом.
Дальнейшее развитие подобного типа посадского храма, восходящего к московской церкви в Никитниках, особенно ярко проявилось в постройках конца ХVII - начала XVIII в., обычно именуемых “строгановскими” (их возводил “своим коштом” богатейший солепромышленник и меценат Г.Д.Строганов, на которого работала постоянная артель, связанная со столичными традициями зодчества). Тройственное расчленение фасадов строгановской школы не только традиционно, но и обдуманно связано с конструктивной системой, в которой сомкнутый свод с крестообразно расположенными распалубками передает нагрузку на простенки между широкими светлыми окнами. Архитектурный ордер стал средством выражения структуры здания; вместе с тем он, как считает исследователь строгановской школы 0. И. Брайцева, был ближе к каноническому, чем на каких-либо других русских постройках того времени, свидетельствуя о серьезном знакомстве с архитектурной теорией итальянского Ренессанса .
Дисциплина архитектурного ордера, системы универсальной, стала подчинять себе композицию храмов конца XVII в., ее ритмический строй. Началось освобождение архитектурной формы от прямой и жесткой обусловленности смысловым значением, характерной для средневекового зодчества. Вместе с укреплением светских тенденций культуры возрастала роль эстетической ценности формы, ее собственной организации. Тенденцию эту отразили и поиски новых типов объемно-пространственной композиции храма, не связанных с общепринятыми образцами и их символикой.
Новые ярусные структуры поражали своей симметричностью, завершенностью” сочетавшей сложность и закономерность построения. Вместе с тем в этих структурах растворялась традиционная для храма ориентированность. Кажется, что зодчих увлекала геометрическая игра, определявшая внутреннюю логику композиции вне зависимости от философско-теологической программы (на соответствии которой твердо настаивал патриарх Никон).
В новых вариантах сохранялась связь с традиционным типом храма-башни, храма-ориентира, центрирующего, собирающего вокруг себя пространство; в остальном поиски выразительности развертывались свободно и разнообразно. Начало поисков отмечено созданием композиций типа “восьмерик на четверике”, повторяющих в камне структуру, распространенную в деревянном зодчестве.
И в то же время очевидна преемственность между Меншиковой башней и типом “церкви под колоколы”, представленным храмом в Филях. Связь очевидна и в построении объема, и в размещении декора, и в его характере, восходящем к резкому дереву иконостасов. Традиционна по существу и главная новация - вертикальность, подчеркнутая высоким шпилем. Рисунок последнего, если приглядеться к гравированной панораме Москвы И.Бликландта, был трансформацией шатрового венчания. Ново прежде всего сопряжение тонкого, облегченного шатра (прообразом которого могли быть не только северно-европейские шпили, но и завершения башен Иосифо-Волоколамского монастыря, созданные во второй половине XVII в.) с храмом-башней. Традиционна и двойственность масштаба, определяющая взаимопроникновение малых - величин декора и величин, связанных с расчленением объема (к последним смело приведены очертания гигантских волют-контрфорсов западного фасада). “Главной новинкой” башни И.Грабарь назвал карнизы, изогнутые посредине грани и образующие полукруглый фронтон, смягчающий переходы между членениями объема, - прием, много использовавшийся в XVIII в. Его барочный характер не вызывает сомнений, но также очевидна и связь со средневековой русской архитектурой, с приемом перехода между объемами через кокошники.
Меншикова башня в истории русского зодчества стала связующим звеном между “московским барокко” конца XVII-начала XVIII в. и архитектурой Петербурга, для некоторых характерных построек которого она, по-видимому, служила образцом. Это здание ближе к русской архитектуре последующих десятилетий, чем к другим московским постройкам 1690-х гг.; тем не менее, как мы видели, его новизна стала результатом постепенного развития традиций конца XVII в. Начало петровских реформ лишь ускорило темп постепенных изменений. Качественный скачок был связан уже со строительством новой столицы. Он был определен прежде всего изменением приемов пространственной организации всего городского организма.
ПЕТЕРБУРГ И МОСКВА. Противопоставление двух крупнейших центров России - Москвы и Петербурга - Ленинграда, более двухсот лет выступавшего в качестве “новой столицы”, - бытует с давних лет. Привычная оппозиция подчеркивается в разных гранях городской культуры и в традициях художественных школ, в психологии жителей и их поведении, но более всего - в характере пространственной организации городской ткани. Сопоставлением Москвы и Петербурга обычно иллюстрируется мысль о противоположности живописного и регулярного, интуитивного и рассудочного начал русского градостроительства. Однако и здесь реальная картина сложнее, чем противопоставление раздельно бытовавших и несовместимых качеств, что особенно ясно показывает история формирования города на Неве.
Некая гибридность была присуща и архитектуре собора. Строил его швейцарец из италоязычного кантона Тессин Доменико Трезини (около 1670-1734). Это был первый иностранный зодчий, приехавший работать в Петербург (он прибыл сюда уже в 1706 г. из Копенгагена; где работал при дворе короля Фридриха IV). Умелый профессионал, не отличавшийся дерзкой фантазией, но обладавший безошибочным вкусом, подчиненным трезвой рассудительности, он оказался хорошим исполнителем архитектурных идей, которые обуревали Петра I (в 1709 г. писал Трезини Петру о своей работе в Петропавловской крепости: “... я со всяким радением рад трудиться против чертежа вашего ...”). Вкусы и идеальные представления заказчика соединялись в композиции собора с тем, что шло от профессионального опыта архитектора, выступавшего исполнителем его “художественной воли”.
Петербургское здание, однако, отнюдь не было повторением московского прообраза. Его общие очертания более динамичны, решительны и жестки, что подчеркивает и квадратное сечение башни, заменившее восьмигранник. Декор его скорее графичен, чем объемен. Уже ясно ощутим трезвый рационализм, утверждавшийся в архитектуре Петербурга петровского времени. Главным отступлением от традиции стал “латинский” интерьер собора, подчиненный продольной оси, с тремя нефами, перекрытыми сводами одинаковой высоты (заметим, однако, что такая его структура позволила наиболее простым и эффектным приемом связать горизонтальный объем и колокольню в динамичной композиции). Место традиционных округлых апсид заняла прямоугольная пристройка, фасад которой, обращенный к главным воротам крепости, своим высоким барочным фронтоном как бы откликается на их архитектурную тему триумфальной арки. Соединение национальной традиции с иноземным, воспринимавшимся как новация, столь определенно намеченное в этом важнейшем монументальном здании молодой столицы, стало ключевым для характера архитектуры петровского Петербурга.
Все это было вполне обычным для русского города. Не была новацией и двухчастность городского организма - очевидную аналогию ей можно видеть, скажем, в Новгороде. Пожалуй, несколько непривычна для русского города растянутость вдоль реки, которую получило левобережное поселение. Впрочем, и это встречалось на берегах крупных судоходных рек. На первом этапе строительства Петербурга новое, пожалуй, - лишь та целеустремленная энергия, с которой ресурсы всей страны направлены на создание нового города. Даже при Иване Грозном и Борисе Годунове градостроительная деятельность не имела подобного размаха и организованности. Знамением Бремени стало изменение ценностей, отраженное в городских структурах. Центральную позицию в левобережной части города занял не храм или дворец, а утилитарная постройка, Адмиралтейская верфь. Подобные здания вместе с жильем стали “жанром” архитектуры, ведущим в процессах стилеобразования. Н.Ф.Гуляницкий отметил, что панорама обеих частей Петербурга за первые полтора десятилетия его существования сохраняла вполне традиционный характер. Шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора были вехами, выделявшими центры главных частей города, второстепенные узлы отмечались меньшими вертикалями, которыми дополнялась система ориентации54. Тяготение к планообразующему центру подчиняло себе уличную сеть, живописную, вопреки попыткам размечать их “линии” и подчинять им застройку.
Все изменилось, когда постепенно вызревавшая у Петра -I мысль - перенести в Петербург столицу - превратилась в 1714г. в твердое решение. Для столицы стихийно сложившаяся двухчастность была неприемлема. Создание импозантного центра, которому подчинен весь город, стало вопросом престижа российского государства, а к этому Петр относился с обостренной чувствительностью. Начался поиск объединяющей идеи.
Встал, несомненно, и вопрос о том образе, который должно нести новое. Размышления Петра об этом отражали мифологический канон, которому подчинялось самоосмысление эпохи, - миф о полном и совершенном перерождении страны, о том, что распалась связь времен, старое стало противостоять новому и молодому, прошлое - будущему. Насильственно бритые бороды утверждали ориентацию на молодость. Новым стал с конца XVII столетия сам отсчет времени - 20 декабря 1699г. вышел Указ о введении нового летосчисления и праздновании новолетия 1 января. Новое на Руси исстари связывала с необычным, “иным”, иностранным. Петр поэтому переодел высшие сословия в венгерское, потом немецкое платье. Но что должно было обозначить новизну и энергичную молодость северной столицы?
Петр I не должен был опираться на сведения, полученные из третьих рук. Первым среди русских государей он выезжал за пределы своей страны, видел многие города Европы. Самыми яркими воспоминаниями остались деловитый Амстердам с его ровными рядами кирпичных домов над спокойной водой каналов и символ абсолютного единовластия - Версаль, с бесконечными прямыми перспективами его “огорода”, ставшего символом вселенной, подчиненной воле абсолютного монарха.
Регулярность, опирающаяся на всепроникающую регламентацию, стала для Петра принципом, который должен объединить будущий “парадиз”, противопоставляя его тому произволу, который виделся в прихотливо-живописной застройке старых русских городов. Развернуть без помех этот принцип лучше всего там, где “дорегулярное” строительство еще не велось. И Петр отбирает у своего любимца, А. Д. Меншикова, ранее подаренный ему Васильевский остров, занимающий срединное положение в Невской дельте.
Здесь, как бы на чистом месте, Петр и решил создать сбой регулярный город, застроенный в строгом порядке. “Для этого он повелел сделать различные чертежи (проекты) нового города, считаясь с местностью острова, пока один из них, соответствовавший его замыслу, ему не понравился”. “Опробованный” и утвержденный подписью Петра чертеж был исполнен Д.Трезини в конце 1715г. План этот, основанный на прямоугольной сетке каналов, как бы наложенной на территорию, следовал схеме неосуществленной планировки города на острове Котлин, которую разработал в 1712г. английский командор Э.Лейн. Однако проблема целостности столицы, создания объединяющего ее представительного центра решена не была.
Петра, отправившегося в свое второе долгое зарубежное путешествие, эта проблема, видимо, чрезвычайно беспокоила. В 1716г. Петр, находясь на водах в Пирмонте, встретился с французским архитектором Жаном-Батистом-Александром Леблоном (1679-1719), последователем А. Маневра, художником большого дарования, умелым практиком и влиятельным теоретиком. Размах строительства Петербурга увлек Леблона, и Петр пригласил его на русскую службу, назначив “генерал-архитектором” и наделив большими полномочиями: “все дела, которые вновь начинать будут, чтобы без его подписи на чертежах не строили, также и старое, что можно еще исправить”.
Проект Леблона не был отвергнут официально, но и не был утвержден к исполнению. Автор его, умерший в 1719 г., как будто не повлиял существенно на дальнейшие работы. Но две идеи, которые впервые обрели зримую форму в леблоновском чертеже, принципиально важны для Петербурга: во-первых, синтез градостроительных традиций - русской, принадлежащей XVII в., но восходящей к средневековью, и европейской международной, идущей от культуры итальянского Возрождения и барокко; во-вторых, образование центрального ядра Петербурга на основе трехчастного единства (Адмиралтейская часть - Васильевский остров - Петропавловская крепость и восточная часть Городского острова), связанного водным простором Невы. Возникли эти идеи у Леблона, архитектора незаурядного, стоявшего в профессиональном отношении на голову выше других иностранцев, работавших тогда в Петербурге, или у самого Петра, искавшего лишь человека, способного их воплотить (как это было с первыми планами Васильевского острова или, на-. пример, с генеральным планом Нижнего парка в Петергофе, для которого Петр рисовал эскизы), - нет нужды гадать. Важно, что стратегия развития города и конкретная тональность его образа определились. Далее они осуществлялись неуклонно.
Сходство плана Петербурга с системой Москвы - если оно было осознано - делало для Петра еще более откровенным соперничество с не любимой им старой столицей. Новое поощрялось за счет ограничения старого. Быстрое развертывание каменного строительства в Петербурге обеспечивал указ от 1714г., которым запрещено строительство каменных домов везде, кроме новой столицы - “пока здесь удовольствуются строением”. Тем самым создавался “не только образ России будущего, но и образ России прошлого - России деревянной”, которой и противопоставлялся каменный регулярный Петербург.
В 1720-1730-егг. Московская сторона города, удобно связанная с внешними сухопутными дорогами, жила и разрасталась особенно активно. Прямоугольная планировка с мелкими кварталами осуществлялась здесь по частям, общие очертания которых определяли традиционно радиальные улицы, направленные па Адмиралтейство и вертикальную веху его шпиля. Наиболее четко обозначенным среди этих радиусов стал направленный на юг Вознесенский проспект.
Однако лишь в послепетровское время, когда разрушительные пожары (1736-1737) почти полностью уничтожили слободы Адмиралтейского острова, была создана “Комиссия о санкт-петербургском строении” (1137), которая перешла от решения локальных и “сиюминутных” вопросов к осмыслению и формальному завершению общей концепции пространственной структуры города. Главным архитектором комиссии был П.М. Еропкин (1698-1740). Канвой послужил первый точный план существующей застройки Петербурга, составленный инженер-майором Ф. Зихгеймом (1737). На Московской стороне города четко выделялись два ее главных луча - сходившиеся к адмиралтейской башне Невский и Вознесенский проспекты. Среди промежуточных, едва намечавшихся лучей Еропкин выделил и ввел в систему средний, делящий пополам угол между проспектами - Гороховую улицу. Тем самым была заложена основа “трезубца” главных направлений, подчинившего себе обширную часть города.
Форма эта, известная к тому времени по знаменитым планам барочного Рима и классицистического Версаля, позволила привести к органичному единству две планировочные традиции, до того лишь выступавшие рядом в развитии города, - средневековую русскую, с ее .стремлением к радиальным структурам, ориентацией по объемным “вехам”, живописностью, и ренессансно-барочную, с ее прямоугольными структурами, ориентацией по жестко обрамленным застройкой направлениям, регулярностью и рационализмом. Главенствующая .роль Адмиралтейства в части города южнее Невы была закреплена. Завершили систему этого городского массива дуговые улицы, соединившие лучи трезубца. Проект окончательно утвердил за этой частью города значение главной в столице.
После того как Еропкин уточнил стратегию формирования города в конкретной системе, развитие, обогащение и уточнение этой системы продолжалось. Пространственный каркас обрастал архитектурной плотью. Существеннейшими составляющими этого развития были постепенное уточнение очертаний системы площадей, охватившей с трех сторон Адмиралтейство, и освоение восточной оконечности Васильевского острова.
Любопытно сравнить систему площадей центра Петербурга в ее завершенной форме с площадями западноевропейских городов. Очевидно, что ни ее построение - цепью взаимосвязанных пространств, обтекающих объемы-“островки”, - ни ее просторность, подчеркнутая широкими раскрытиями к Неве, ни, наконец, ее асимметрия не
имеют аналогий в композициях международного классицизма и барокко. Лишь в ансамбле Лувр - Тюильри - площадь Согласия в Париже можно найти некоторые отдаленные параллели с открытостью перспектив и пространственным размахом северной столицы. С другой стороны, несомненна аналогия в топологическом характере построения анфилады площадей Петербурга с Красной площадью Москвы - та же протяженность основного пространства, предопределенная образованием из “полых мест” (гласиса) перед фронтом укреплений, то же сочетание периметральной обстройки и стоящих “островом” главных объемов, та же асимметрия целого при симметричности отдельных частей.
Ансамбль стрелки Васильевского острова, в начале XIX в. созданный Ж. Тома де Гомоном, завершил реализацию идеи триединого центра Петербурга, связав панорамы невских берегов. В пестумской дорике здания Биржи очевидны отголоски неогреческих увлечений, распространившихся в Европе, и архитектурных фантазий времени французской буржуазной революции. Однако можно увидеть и другое - ансамбль, смело обращенный навстречу громадному пространству Невы, напоминает “перси” древнерусских городов, так же решительно выступающие вперед на слиянии рек, так же принимающие на себя речные дали (вспомним кремль Пскова). Попытки застроить стрелку, пренебрегая этой аналогией, заканчивались полной неудачей. Томон нашел решение, единственно верное в данной ситуации, несущее в себе аналогию, которой продолжено двуединство художественной традиции Петербурга.
Создание городского ансамбля Петербурга стало кульминацией века перемен в архитектуре России, его вершиной. Уникальной его особенностью была открытость системы, заложенной Петром I, к развитию и совершенствованию. Город более тридцати лет не имел жестко зафиксированного генерального плана. Однако с самого па-чала его развитие направлялось художественной идеей, образом молодой столицы обновленного государства, дерзко выставленной на его край, открытой всем ветрам, открытой ко всей обширности мира.
Образ этот, вызревавший поначалу в воображении Петра I, вошел в массовое сознание его времени, стал реальностью культуры, получив собственную жизнь. Он направлял не только рост городских структур, но и стилеобразование тех конкретных форм, в которые воплощалась архитектура города. На его основе в 1710-1750-е гг. развертывались ключевые явления развития русского барокко, а в последующем - переход от него к классицизму и развитию русского классицизма.
Поэтому трудно говорить о росте Петербурга, расчленяя его процесс в соответствии с хронологическими границами периодов истории архитектуры, если главной темой являются традиции русского зодчества. Потенциал “генетического кода”, заложенного в динамику градообразования северной столицы Петром I, сохранял свое значение до 40-х годов XIX столетия. Вместе с тем возник и целый ряд явлений, ключевых для “века перемен” в русской архитектуре. Важный урок для будущего заключал в себе самый процесс развития Петербурга, его непрерывность.
В постепенном развитии города богатство и сложность его облика накапливались благодаря тому, что новое дополняло и развивало, а не отменяло старое, и благодаря тому, что построенное не перекрывало путей к еще не определившимся целям и далям. Национальная традиция, лежавшая в первооснове формирования города, была не стерта, но ассимилирована новой традицией, связанной с общеевропейской культурой своего времени. Их синтез стал фундаментом своеобразия города, его особого места в городской культуре вообще. Возникли необычные версии барокко, а затем и классицизма, выходящие далеко за пределы общераспространенных стереотипов этих международных стилей.
Петербург полнее всего отразил значение петровских реформ для русской культуры. Оно далеко превосходит самые смелые конкретные цели, выдвигавшиеся по мере развития преобразований. Проникновенно писал об этом Ф. М. Достоевский: “В самом деле, что такое для нас Петровская реформа, и не в будущем только, а в том, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки ... Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее, то есть в смысле ближайше-утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр несомненно повиновался некоему затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несравненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу... Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому' Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций... и тем уже высказали готовность и наклонность нашу... ко всеобщему общечеловеческому воссоединению... Да, назначение русского человека есть бесспорно всечеловеческое и всемирное. Стать настоящим русским... может быть и значит только... стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите”.
“ПЕТРОВСКОЕ БАРОККО”. Русское градостроительство уже в XVI в. использовало приемы регулярной планировки для крупных элементов городской структуры, при строительстве Петербурга принцип регулярности был впервые обращен на формирование ткани города. Внутри системы, сохранявшей живописность общего построения, связанную с ландшафтом, застройка выстраивалась в сплошные, жестко выравненные фронты. Уже само по себе это казалось требующим правильных очертаний объемов и четких плоскостей, простого, ясного ритма повторения или чередования зданий в ряду и столь же ясной ритмической организации из фасадов (при постановке домов “в линию” не объем, а плоскость фасада несла основную художественно-образную информацию). Предписанная сверху регулярность отражала дух неукоснительной регламентации, который придал российскому абсолютизму Петр I. Вместе с тем в ней воплотился дух наивно-прямолинейного рационализма новой светской культуры.
Возник практический вопрос: как внедрить новые принципы в массовое строительство, которое велось “по обычаю) “по образцу” (а извечным образцом служил избяной сруб)? Решение найдено в том, чтобы заменить традиционный образец проектом-образцом, гравированным и размноженным. Метод этот Петр испытал еще в Москве (“образцовые” дома для погоревшего села Покровского, 1701). Так облегчалось реальное внедрение нового в рядовую ткань города, а вместе с тем обеспечивалась унификация величины домов и их формальных характеристик.
За рационалистической эстетикой Двенадцати коллегий проступает и влияние барочной идеи пространственности. Вместе с прямыми улицами и проспектами Петербурга в образное мышление архитекторов входили перспективы, где мерность членений подчеркивала глубинность, восприятие дали. Это особенно остро ощущалось внутри бесконечных аркад здания коллегий, как и в аркадах гостиных дворов. В интерьерах привычную пространственную обособленность помещений сменяло их объединение в анфилады, которое стало характерно для домов-дворцов. Тем самым архитектура петровского Петербурга соприкоснулась с концепцией западноевропейского барокко. Однако ее трезвый рационализм ставил жесткие пределы экспериментам с организацией пространства. Изощренная сложность очертаний, размытость частей, неопределенность самой границы между пространством и массой, характерные для барокко Италии и южной Германии, остались ей чужды.
Городские и загородные дворцы царской семьи и дома-дворцы “именитых” людей, предназначенные для открытой жизни и многолюдных парадных приемов, вошли в число типов зданий, определявших развитие архитектуры Петербурга первой половины XVIII в. Их функции, отражавшие правила нового этикета и требования представительства, решительно отличались от замкнутой жизни, протекавшей в дворцовых зданиях XVII в, К. поискам соответствующей формы привлекались наиболее умелые зодчие, прежде всего - приглашенные в Россию иностранцы. Дворцы размешали в ключевых точках городской структуры или пригородного ландшафта; проблемы их композиции поэтому тесно связывались с градостроительными.
В 1710-е гг. распространился тип, связанный с французскими прообразами второй половины XVII в. (как замок Во-ле-Виконт архитектора Л. Лево или Шато де Мезон Ф.Мансара), - симметричное здание в два-три этажа “на погребах” с подчеркнутым центром и сильно выступающими ризалитами на флангах. Систему его интерьеров начинает парадный вестибюль с колоннами” обычно сквозной, выводящий от главного входа к регулярному саду за домом. Связанная с вестибюлем лестница ведет к парадному залу, обычно двухсветному, занимающему центр второго этажа, несущего основные функции представительства. Парадные и жилые комнаты располагаются по сторонам зала и вестибюля. Трехчастное ядро, как правило, дополняли боковые галереи и флигеля с анфиладами комнат.
Принципиальный: для развития типа дворцового здания шаг сделан в Петергофе, первой из загородных резиденций Петра (где деревянный домик у высокой природной террасы появился еще в 1704г.). Здесь возникло продолжение и развитие композиции здания во внешнем пространстве, постепенно разраставшееся до размаха самых грандиозных ансамблей западноевропейского барокко. Первоначальная идея - дворец над обрывом с гротом и фонтанами под ним, соединенный с морем прямым каналом - принадлежит Петру I, что подтверждают его собственноручные наброски. Позже с такой же широтой замысла был затеян дворец в Стрельне (заложен в 1720г. Н.Микетти), где симметричный водный сад с каналом по оси здания, еще до того, как оно было заложено, распланировал Леблон. Особенно эффектна тройная аркада, пронизавшая посредине протяженный объем дворца, - через этот открытый аванвестибюль связано пространство нижнего и верхнего парков. Драматичная выразительность стрельнинского ансамбля, основанная на взаимном проникновении интерьера и внешнего пространства, как бы протекающего сквозь протяженную пластину здания, образует, пожалуй, точку самого близкого соприкосновения раннего петербургского барокко с поздним западноевропейским. Декор центральной части дворца получил пластичность и пространственное развитие, не имеющие аналогия в архитектуре петровского времени. Трезвый рационализм здесь отступил.
Архитектурные темы, возникшие в композиции построек дворцового типа, переходили на здания вполне утилитарные - как Адмиралтейство, перестроенное в 1727-1738 гг. архитектором И. К. Коробовым, Партикулярная верфь (1717-1722, И. Маттарнови), Конюшенный двор (1720-1723, Н.Гербель) и др. Они же возникали и на зданиях церквей, получавших вполне светский характер, что вполне отвечало содержанию процесса слияния церкви с государственной властью, происходившего в петровское время. Суховатая рациональность построения объема и ордерной декорации и характер силуэта сближали Петропавловский собор и Троицкую церковь в Петербурге не только со светскими дворцовыми постройками, но и с такими деловыми зданиями, как Адмиралтейство.
Все вместе складывалось в очень определенный, легко опознаваемый стиль, соединивший где-то заимствованное и свое, традиционное, но и то и другое - переработанным в соответствии с задачами, которые выдвигало время. Трезвый рационализм определял общую тональность петербургского варианта стиля петровского времени. Но - задает вопрос И.Грабарь: “как могло случиться, что участие в строительстве итальянских, немецких, французских, голландских и русских мастеров не привело в архитектуре Петербурга к стилистической анархии, к механическому собиранию воедино всех национальных стилей, властвовавших в начале XVIII в. в Европе? ... Почему Петербург... получил и до сих пор сохраняет свое собственное лицо, притом лицо вовсе не чужеземное, а национальное русское?” И. Грабарь связывал это прежде всего с огромной, решающей ролью личности Петра в создании облика Петербурга и с постепенно возраставшим участием русских мастеров, учившихся у иноземцев. Нет сомнения в значении того и другого. Однако главным была, конечно, жизнеспособность русской архитектурной традиции, открытой к развитию, гибкой, но вместе с тем имеющей прочную общекультурную основу. Многое из того, что определило новизну петровского барокко, созрело в процессах ее внутренних изменений, восприятие иного также было подготовлено ее саморазвитием. Традиция оказалась обновленной, но не разрушенной, не замененной, во обогащенной чужеземным опытом, который она ассимилировала.
Русская традиция прорвалась ко “всемирному и всечеловеческому”, вошла в систему общеевропейской культуры, оставаясь ее ясно выделяющимся, своеобычным звеном. Не только трезвый рационализм целевых установок и его отражение в стилеобразовании (простота и ясная очерченность объемов, скупость декора и пр.), но и прочная традиционная основа, по-прежнему задававшая характер пространственных и ритмических структур, определяли своеобразие русского в рамках общих характеристик европейского зодчества XVIII в. Важно и то, что новые ценности, воспринятые русским зодчеством, отбирались на основе критериев, связанных со специфически национальным восприятием пространства и массы, природного и рукотворного. Изменения отнюдь не были измышленными и искусственно навязанными; их с необходимостью определила логика развития историко-культурных процессов.
Сама значительность роли Петра I определялась тем, что он верно угадал не только необходимость перемен, но и их плодотворное направление. Сумев подняться над замкнутостью русской культуры, он мог увидеть то, что, будучи привито ей извне, обещало прижиться в ней и обогатить ее, связывая со всечеловеческим. Прагматик и реалист, в сфере синтеза культур Петр умел руководствоваться образными представлениями, которые рождала его интуиция. В этом он следовал логике и метопу художественного творчества. Любитель и мастер парадоксов Сальвадор Дали характеризовал первого российского императора, отметив: “По-моему, самым великим художником России был Петр I, который нарисовал в своем воображении замечательный город и создал его на огромном холсте природы”.
Петр, не будучи архитектором, был, пожалуй, первым, кто мог бы претендовать на личную принадлежность идей, осуществлявшихся в строительстве, то есть на роль автора в современном понимании. В его время уже совершалась исторически назревшая смена методов деятельности - проектирование обособлялось от строительства, его цикл завершался созданием чертежа. Чертеж, однако, воспринимался еще как “образец”, допускавший достаточно свободное толкование (как и образец в старом понимании, здание-образец, или изображение в книге, со второй половины XVII в. расширившее сферу образцов). Такое отношение традиционно предполагало гибкую динамичность первоначального замысла и его анонимность, отчужденность от конкретной личности - участники строительного процесса по-прежнему считали себя вправе отступать от него или дополнять его, делая “как лучше”.
Не случайно, что столь условно определяется авторство построек первой половины XVIII в., ответственность за которые часто передавалась из одних рук в другие. Начатое одним продолжал, изменяя по своему разумению, другой (так, па строительстве “Верхних палат” - Большого дворца в Петергофе - сменялись И.-Ф.Браунштейн, Ж.-Б.Леблон, Н.Микетти, М.Г.Земцов, Ф.Б.Растрелли; атрибуция других крупных построек того времени, как правило, не менее сложна). К тому же за сделанным архитекторами часто просматриваются идеи Петра I (вряд ли можно, например, в творчестве Д.Трезини уверенно отделить принадлежащее его индивидуальности от задуманного и пред у казанного Петром). В этих условиях и у зарубежных зодчих, приехавших в Россию сложившимися творческими личностями, индивидуальность размывалась, оказывалась подчиненной “общепетербургским” процессам стилеобразования. Сохранявшаяся анонимность творчества была одним из свойств архитектуры петровского времени, отделявших её от последующих периодов развития зодчества.
ФРАНЧЕСКО БАРТОЛОМЕО РАСТРЕЛЛИ(1700-1771)
Во времена Елизаветы Петровны в русской архитектуре расцвёл стиль барокко. Его главным представителем был итальянец по происхождению Франческо Бартоломео Растрелли, получивший в России более привычное для русского уха имя Варфоломей Варфоломеевич. Вместе с отцом, скульптором Бартоломео Карло Растрелли, он приехал в Петербург в 1716 г. и состоял на службе у русских монархов с 1736 по 1763 г. Важнейшие его проекты осуществлены в царствование Елизаветы. Для неё в 1741—1744 гг. Растрелли построил в Санкт-Петербурге, у слияния рек Мойки и Фонтанки, Летний дворец (не сохранился).
В 1754—1762 гг. Растрелли возвёл новый Зимний дворец примерно на том же месте, где стоял Зимний дворец Петра I. Вот что писал об этом сам архитектор: “Я построил в камне большой Зимний дворец, который образует длинный прямоугольник о четырёх фасадах... Это здание состоит из трёх этажей, кроме погребов. Внутри... имеется посредине большой двор, который служит главным входом для императрицы... Кроме... главного двора имеется два других меньших... Число всех комнат в
этом дворце превосходит четыреста шестьдесят... Кроме того, имеется большая церковь с куполом и алтарём... В углу... дворца, со стороны Большой площади, построен театр с четырьмя ярусами лож...”.
Зимний дворец представлял собой целый город, не покидая которого можно было и молиться, и смотреть театральные представления, и принимать иностранных послов. Это величественное, роскошное здание символизировало славу и могущество империи. Его фасады украшены колоннами, которые то теснятся, образуя пучки, то более равномерно распределяются между оконными и дверными проёмами. Колонны объединяют второй и третий этажи и зрительно делят фасад на два яруса:
нижний, более приземистый, и верхний, более легкий и парадный. На крыше располагаются декоративные вазы и статуи, продолжающие вертикали колонн на фоне неба.
Растрелли работал и в окрестностях Петербурга. Им был построен и расширен Большой дворец в Петергофе (1747 — 1752 гг.), а также Екатерининский (Большой) дворец в Царском Селе (1752—1757 гг.) — загородной резиденции Елизаветы. Оба фасада этого дворца (один обращен к регулярному парку, а другой — к обширному двору) щедро украшены объёмными архитектурными и скульптурными деталями, которые зрительно уменьшают горизонтальную протяженность, здания длиной триста шесть метров. Особенно наряден парковый фасад, где позолоченные лепные фигуры атлантов поддерживают парадный второй этаж. Сочетание ярких цветов — голубого, белого, золотого — дополняет общее праздничное впечатление от фасада. Возможно, образцом для Растрелли послужил королевский дворец в Версале: у него также два протяжённых главных фасада и система анфилады залов. Растрелли соорудил в Царском Селе и несколько парковых павильонов (“Грот”, “Эрмитаж”).
Великолепные церкви и соборы Растрелли соединяют традиции древнерусской архитектуры и европейского барокко. Центральная часть ансамбля Смольного монастыря — грандиозный собор Воскресения (1748—1757 гг.) играет важную роль в облике Петербурга. Он виден издали с обоих берегов Невы. Здание, подобно древнерусским храмам, увенчано пятиглавием с луковичными куполами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Итак, как мы видим, этот великолепный и пышный стиль барокко просуществовал недолго и уже во второй половине VIIIв. на смену ему приходит строгий и величественный классицизм, для которого характерна ясность форм, простота и в то же время монументальность, утверждавшие мощь и силу государства, ценность человеческой личности.
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Башни Кремля
Башни КремляТАЙНИЦКАЯ БАШНЯ В 1485 году, когда Иван III развернул в Кремле строительство, итальянский зодчий Антон Фрязин заложил первую ба
- Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли в XII-XIII веках
- Бульварное кольцо
- Возрождение
ВозрождениеПЛАНВСТУПЛЕНИЕПРОТОРЕНЕССАНСАРХИТЕКТУРАСКУЛЬПТУРАЖИВОПИСЬРАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕАРХИТЕКТУРАСКУЛЬПТУРАВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
- Город Ломоносов
ЛомоносовДворцы-музеи и парки города Ломоносова - ценнейшие памятники русской культуры и искусства 18-го века, созданные выдающимися арх
- Горододелец Федор Конь
Горододелец Федор Конь Горододелец Федор Конь родился 4 июля 1556 г. в семье тверского плотника Савелия Петрова. В 1566 г. плотника (с семьей)
- Государственное строение России в XIV-XV вв
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РОССИИв XIV-XVI в.в. Московское государство оставалось еще раннефеодальной монархией. В силу этого отношения меж
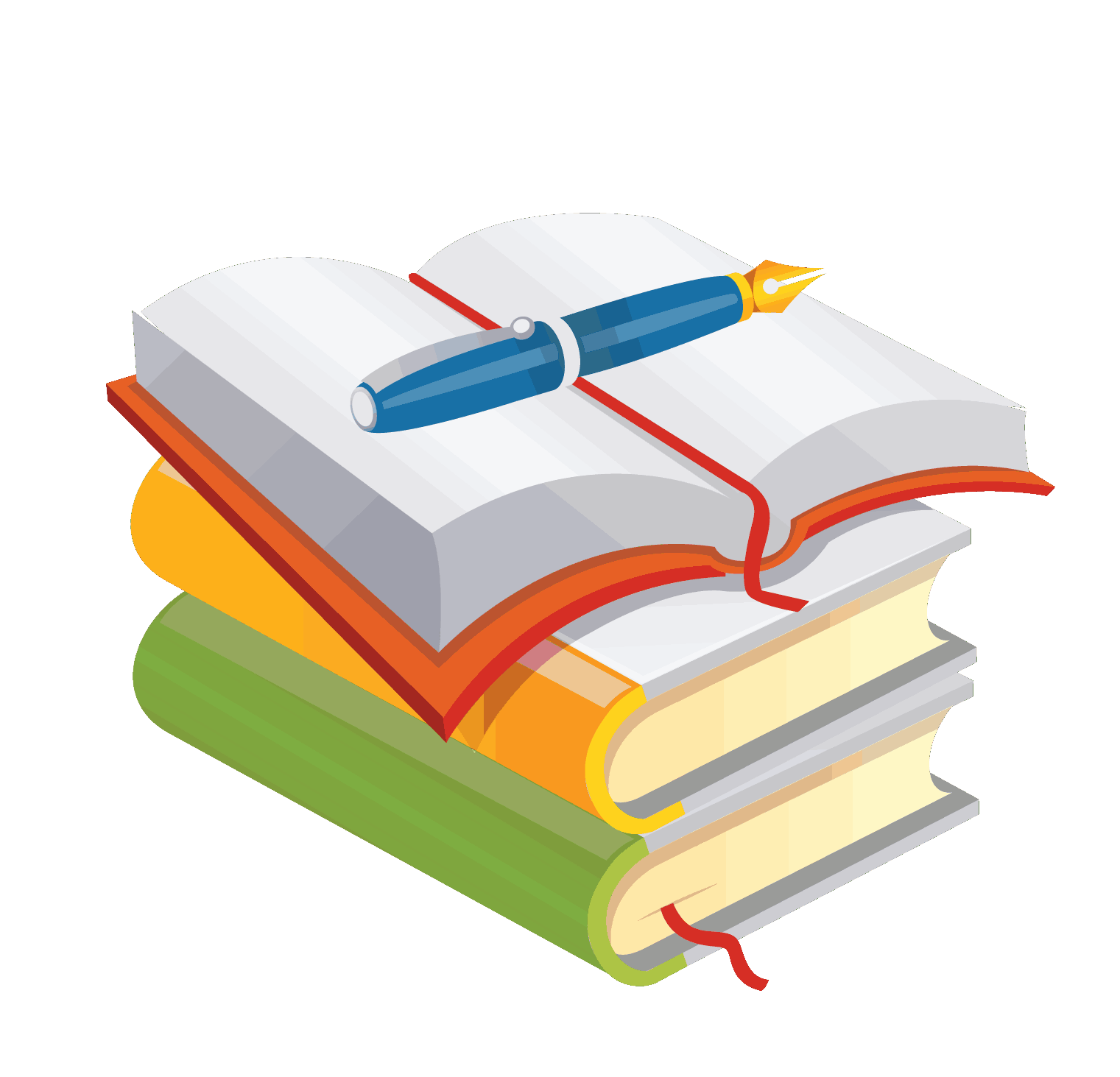 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.