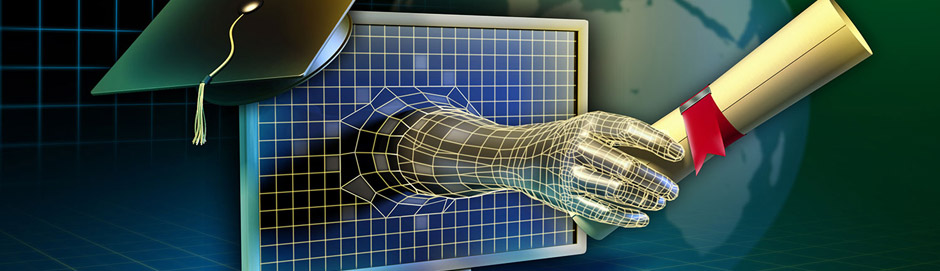Аналитическая философия сознания
Блинов А.К.
Философский интерес к сознанию исторически был обусловлен не только важностью этого понятия для понимания рациональности и разумности, но еще и тем, что существование сознания бросало самый серьезный вызов идее существенно эмпирического характера всякого подлинного (сиречь, научного) познания. Главный вопрос (или группа вопросов), задававшийся в этой связи, получил название проблемы связи тела и сознания (в англоязычной литературе – mind - body problem ), или, в несколько иной терминологии, - психофизической проблемы: проблемы взаимодействия сознания и сферы ментального (т.е. относящегося к уму и мыслительной деятельности) в целом с материальным миром, преимущественно описываемым физикой. Однако, трудности, с которыми сталкивается изучение сознания могут быть истолкованы и в более пространном смысле: ведь значительная часть загадочности сознания состоит в том, что, с одной стороны, оно вроде бы достаточно ясно и отчетливо нам дано, что имеет место, иначе говоря, феномен сознания, а с другой стороны, оно систематически ускользает от понимания и определения, и не только в рамках эмпирического исследования. В такой расширенной трактовке вопроса о связи сознания и тела под «телом», скорее, правильнее будет понимать все, на что распространяется наше эффективное понимание, включая способность определять и объяснять. А сам вопрос тогда окажется вопросом о том, как (эффективно) расширить объем нашего понимания таким образом, чтобы оно могло распространяться и на сознание. Как указывает Томас Нагель, если бы психофизическая проблема не распространялась на сознание, она потеряла бы для философии всякий интерес. Но именно то, что психофизическая проблема охватывает сознание, делает ее, по мнению того же Нагеля, практически безнадежной(1) . В самом деле, если кроме сознания ничто не принципиально не отличает нас от других видов существ, то мы можем рассчитывать на то, что наши стандартные методы изучения психики этих существ, в первую очередь животных, тривиально экстраполируемы и на изучение нашей собственной человеческой психики, и что полученные нами в этом случае результаты по всем интересующим нас, как ученых, параметрам аналогичны результатам психологии животных и других существ. Но если сознание есть то, что нас как вид отличает, то мы уже не может рассчитывать просто экстраполировать какие-то методы, применимые к другим видам, на изучение нас самих и на желаемую аналогию; мы должны решать эпистемологическую проблему – проблему метода. Однако, в какой степени указанная трудность составляет основание скептицизма, насколько безнадежна эта проблема – отдельный вопрос.
Проблема психологического объяснения
1. Понятие сознания
Сознание, конечно, не исчерпывает предмет психологии; часть вопросов, которые психология нацелена решить относительно сознания, задаются ею относительно более широкого круга ментальных феноменов вообще. К сфере ментального обычно относят разные виды явлений: 1) ощущения или, иначе, впечатления, под которыми понимают, как правило, некие элементарные результаты восприятий, шире – опыт, переживания, т.е. какое-то содержание, которое мы можем хранить в памяти и извлекать из нее или же забывать; 2) собственно память и ее феномены, а именно: что какое-то содержание (опыт) «живее», чем другой, что, будучи дано (вспомнено) в разные моменты жизни, то, что мы считаем одним и тем же опытом, может «тускнеть», утрачивать четкость, изменять свои феноменальные качества, иначе говоря, или вовсе забываться (не возникать при усилии вспомнить), а потом вдруг возникать вновь в переживании, да еще с необычайной яркостью, и т.д.; 3) мысли и образы – соответственно, вербальные и невербальные содержания сознания; 4) эмоции, воления, интенции, а также – установки и склонности – свойства, лишь спорадически, время от времени «дающие о себе знать», фиксируемые, но, тем не менее, полагаемые сохраняющими свою идентичность на некой последовательности жизни индивида и описываемые, как правило, в терминах диспозиций. (Хотя существует точка зрения, согласно которой язык диспозиций пригоден и адекватен как язык описания всех вообще ментальных феноменов.) Другие ментальные феномены, такие, например, как рассуждения, решения, рефлексии, мы склонны охватывать понятием сознания ( consciousness ).
Практически во всех фундаментальных работах, посвященных сознанию, есть раздел (обычно вначале), посвященный разбору распространенных значений слова «сознание». Обычно их насчитывают довольно много. Этимологически исходным считается смысл, описываемый как коллективное знание, знание, которым владеют больше одного индивида ( con - scientia ). С одной стороны, этим подчеркивается социальный контекст развития индивидуального сознания – по меньшей мере, определенных конституент индивидуальных мыслительных способностей, индивидуальной разумности. С другой стороны, это может быть поводом говорить о носителе сознания не только как об индивиде, но и как об объединении индивидов того или иного вида; ср.: классовое сознание, народное сознание, массовое сознание и т.п.
Под сознанием в психологическом смысле могут пониматься также разные вещи. Прежде всего, это некое общее свойство, которое обычно ассоциировано с понятием разумного существа: в этом отношении сознание синонимично разуму, быть в сознании значит быть разумным, т.е. обладать определенными способностями – которые обычно называют мыслительными и в которых можно, очевидно, выделить разные уровни (рассудочные способности, теоретические, практические, логические и т.д.) и степени (большая или меньшая степень разумности, гениальность, тупость и т.д.). С другой стороны, есть расхожее выражение «быть без сознания»: человек без сознания, в обмороке, в коме или во сне, тем не менее, вполне может еще считаться обладающим сознанием в первом смысле, но, при этом, лишенным чего-то, что мы ассоциируем со вторым смыслом слова «сознание»: а именно, возможности действовать, а возможно, и мыслить в данный период времени (хотя сама способность мыслить у него вроде как остается). Этот смысл до некоторой степени синонимичен понятию бодрствования – нахождение в сознании, т.е. в состоянии действовать интенционально и разумно. Но другой случай – гипноз; человек бодрствует и вроде как в состоянии действовать разумно, но все же в каком-то еще дополнительном смысле он не находится в сознании – этот смысл можно сопоставить понятию самоконтроля – нахождения в состоянии действовать разумно и по своей собственной воле.
Далее, можно выделить еще один смысл слова «сознание»: иногда под этим понимают определенные характеристики определенных (человеческих) действий – фрагментов поведения – отличая их от других; этот смысл хорошо передается словосочетанием осознанность: некое действие осознанно, в отличие от другого – неосознанного – например, инстинктивного или рефлекторного или сделанного, что называется, автоматически, «не задумываясь», между делом и т.д. Этот смысл транслируется в рамках определенных концепций сознания также и на состояния организма: одни состояния признаются состояниями сознания, а другие – например, боль или страх, вообще – эмоции – нет. Существенно, что здесь имеется в виду не характеристика некоего существа как такового и не ситуации, в которой оно находится, а определенного состояния, в котором находится это существо (вернее, его организм). (Этот смысл мы подробнее рассмотрим в свое время, поскольку в некотором отношении он полагается базисным для прояснения остальных.)
Иногда, «сознание» ассоциируется с другим смыслом, который можно назвать предметным: мы говорим, «Ты сознаешь, что ты делаешь?», «Ты о чем думаешь?» и т.д. Соответственно, смысл, который отсюда извлекается (в основном, конечно, в рамках определенных философских подходов) – сознание о чем-то или предметное сознание (ср. работы Брентано и Гуссерля): в этом смысле сознание выступает как характеристика всякого момента, когда индивид находится в сознании – т.е. опять как синоним разумности, но характеризует в этом смысле не индивида в целом, а его феноменологически выделяемые моменты – это, можно сказать, его феноменальная (и, конечно, феноменологическая) характеристика. Наконец, последний смысл слова «сознание», на который здесь стоит обратить внимание, также, в принципе, связан с предыдущим: если предметом сознания о чем-то является сам субъект этого сознания о…, то мы получаем как бы предметное сознание второго порядка Декартово cogito , иначе говоря, самосознание.
Вопрос о сознании также не свободен от неоднозначности. Иногда его ставят как вопрос о природе феноменального сознания, т.е. как вопрос о том, что есть; иногда же этот вопрос ставиться как вопрос о смысле или понятии «сознание». Оба эти подхода поддерживаются определенными общими идеями, касающимися того, какого вида связи вообще могут быть источником знания. Одна идея состоит в том, что методы эмпирического исследования в конечном счете могут дать адекватный результат – знание; и что вопрос о сознании, в конечном счете, есть эмпирический вопрос. Другая идея, нашедшая, в частности, свое наивысшее воплощение в так называемой аналитической философии, состоит в том, что любой эмпирический результат может обладать желаемой надежностью только в том случае, если это допускается связями, существующими в языке, на котором он получен. С этой точки зрения именно вопрос о сознании как о понятии, исследование его значения, его концептуальных связей, является приоритетным. И, как минимум, в той мере, в какой философия сознания сформировалась под влиянием аналитической философии, ее деятели именно так понимают свою первостепенную задачу.
2. Психофизический дуализм и скептические следствия
Первичные наши интуиции, относящиеся к определению сознания или, шире, ментального отдают должное тому факту, что ментальное(2) и физическое различаются феноменально, т.е. по своим способам данности субъекту познания; причем, не исключено, что характер этого различия имеет какое-то существенно отношение к пониманию сознания. Базисная эпистемологическая презумпция относительно физических вещей состоит в том, что они полагаются интерсубъективно наблюдаемыми, т.е. такими, как будто разные наблюдатели в разное время и с разных точек наблюдения могут наблюдать одни и те же характеристики. Субъекты наблюдения в этом случае полагаются взаимно заменимыми подобно другим инструментам наблюдения. Эта идея в совокупности с некоторыми дополнительными требованиями, такими, как требование не заинтересованности наблюдателя в результатах наблюдения, лежит в основании требования наблюдаемости «от третьего лица», сформировавшегося вместе с действующей концепцией научного познания окружающего мира как существенная часть его методологии. Феноменальное сознание, существование которого мы склонны обычно допускать, никак не доступно наблюдению от третьего лица; следовательно, как таковое, оно оказывается вне сферы эмпирического познания, легитимным источником данных для которого признается исключительно интерсубъективное наблюдение. Базисная эпистемологическая презумпция относительно ментальных «вещей», в свою очередь, состоит в том, что, если они вообще познаваемы и познаваемы в каком-то аналогичном или параллельном эмпирическому смысле, т.е. как нечто непосредственно данное в опыте, а не просто абстрактное, то основываться такое познание может на наблюдении какого-то другого типа, а именно на самонаблюдении или, по-другому, интроспекции. Интроспекция представляет собой наблюдение, так сказать, «от первого лица»: только сам субъект (и никто другой) может наблюдать свою ментальную жизнь, включая, согласно дополнительной презумпции, феноменальное сознание. Субъекты интроспекции не взаимно заменимы. Более того, сомнительным выглядит и выполнимость требования не заинтересованности наблюдателя применительно к интроспективному наблюдению, поскольку, по меньшей мере, находясь в определенном психическом состоянии и в то же время наблюдая его, субъект вряд ли может, как наблюдатель, быть каким-то образом независимым от своего собственного интроспектируемого психического состояния; особенно, если это состояние еще и сильно эмоционально окрашено. Кроме того, в отличие от результатов наблюдения «от третьего лица», интроспективные результаты не являются предметом эмпирической верификации. Если, усомнившись в том, что именно наблюдается – настоящее яблоко, лежащее на столе, или искусно выполненный муляж из папье-маше, субъект может изменить точку наблюдения, средства наблюдения (потрогать рукой) и, наконец, дополнить свои результаты результатами наблюдения данного объекта другим субъектом, то в случае интроспекции ничто из этого не применимо. К интроспектируемому нельзя ни приблизится, ни потрогать его рукой, ни позвать на помощь другого. В этом отношении трудности корректировки результатов опыта, ставшие источником скептицизма даже в отношении научного познания, основанного на наблюдении, в случае познания методом самонаблюдения выглядят просто непреодолимыми. Классическая концепция интроспекции, правда, предполагает, что интроспективные результаты совершенно достоверны в силу непогрешимости метода, так как интроспективно наблюдаемое непосредственно само дано, а субъект не может ошибаться относительно того, что он непосредственно в момент наблюдения переживает. Но существуют альтернативные концепции самонаблюдения. Согласно одной из них самонаблюдение состоит в ретроспекции, т.е. исследовании субъектом своих ментальных состояний с точки зрения момента времени более позднего, чем время исследуемого ментального события, через посредство непосредственной памяти только что происшедшего(3) . Наблюдая свои внутренние состояния, субъект как бы «смотрит назад» на то, что он только что или какое-то время назад переживал, и этот опыт наша память «удерживает» для нас, чтобы он мог быть доступен наблюдению. Но память не непогрешима, она может нас подводить; так что, если интроспекция имеет ретроспективный характер, то ее результаты не могут быть достоверны в силу непогрешимости метода. (Согласно другой, гораздо более поздней трактовке, самонаблюдение отождествляется с рассуждением о причинах собственных состояний; в этом случае не только память, но и мыслительные способности включены в процесс получения интроспективных данных(4) .)
Но если признается, что внутреннее наблюдение возможно и что именно оно должно быть базисным методом изучения ментальных феноменов, то важным следствием этого будет методологическая пропасть, разделяющая изучение материального (физического) мира и изучение мира ментального, естественные науки и психологию. Это расхождение между физическим и ментальным на уровне методологии коррелирует с определенной метафизической доктриной, именуемой картезианским дуализмом. Подход Декарта характеризует разграничение между двумя независимыми субстанциями – res extensa и res cogitans («вещью протяженной» и «вещью познающей»). Поскольку их существование подчиняется разным законам, между которыми, тем не менее, признается некий параллелизм, то и познание этих двух субстанций, составляющих наш мир, должно осуществляться разными науками, характеризуемыми параллелизмом методов. Относительно этой картины психофизического взаимодействия опора психологии на интроспекцию как базисный метод получения исходных данных, и в этом отношении параллельный наблюдению в естественных науках, выглядит вполне уместной и оправданной. Но включает ли в себя картезианское res cogitans сознание? По крайней мере, оно включает в себя осознание – способность обращать внимание на свои внутренние состояния. Об это свидетельствует, например, такой пассаж: «Что касается того факта, что в уме, постольку, поскольку он является думающей вещью, не может быть ничего, о чем бы он не знал, он кажется мне самоочевидным. Ведь нет ничего такого, что мы могли бы понять как находящееся в уме, что… не является мыслью или не зависит от мысли»(5) . По крайней мере, в этом отношении сознание, по Декарту, есть существенный компонент всего ментального. Сознание же он понимал, скорее всего, и главным образом, как знание индивидом своих собственных ментальных состояний. Ключевым в приведенном отрывке, очевидно, является слово «мысль»: «Под термином «мысль» я понимаю все, о чем мы знаем как о том, что случается внутри нас, постольку, поскольку мы имеем знание об этом»(6) . Локк как будто соглашается с Декартом: «мышление состоит в бытии сознающим, что ты мыслишь» и «идея мышления в отсутствие сознания столь же невразумительна, что и идея тела, имеющего протяженность, но не имеющего частей»(7) . И в другом отношении Декарт и Локк выглядят согласными. Для Декарта подлинные впечатления – элементарные единицы опыта – у взрослых существует лишь постольку, поскольку они сопровождаются рефлексивным знанием второго порядка: «Когда взрослый чувствует что-либо и одновременно воспринимает, что он не чувствовал этого прежде, я называю это второе восприятие отражением ( reflection ) и приписываю его исключительно интеллекту, несмотря на то, что оно так соединено с впечатлением, что оба случаются вместе и в своем явлении неотличимы одно от другого»(8) . Подобным же образом звучит знаменитое утверждение Локка, что «сознание человека есть восприятие того, что происходит в его собственном уме»(9) . Однако, трудно нам с наших позиций оценить, насколько оправдано отождествлять или считать весьма сходными упомянутые взгляды рационалиста Декарта и эмпирика Локка: совершенно не очевидно, что под знанием, которое может иметь человек о том, что происходит у него в уме, они имели в виду одно и то же. Что, пожалуй, очевидно – так это, что оба все же предполагали наличие некоего второпорядкового элемента необходимого для того, чтобы можно было говорить о ментальных явлениях первого порядка. Совсем не очевидно при этом, что восприятие второго порядка, о котором говорит Локк, несет на себе такую же когнитивную нагрузку, какая, по видимому, заложена в Декартово «отражающее восприятие»(10) .
Картезианский дуализм много и плодотворно критиковался. Многие возражения опираются на концептуальный или, иначе, логический анализ – основной метод аналитической философии. Вот одно из них, которое уместно обозначить как аналитический аргумент: вывод о метафизической взаимной независимости души и тела опирается на предположение, что то, что концептуально различно, различимо также и онтологически. Между тем, как показало развитие аналитической философии, такое утверждение, по меньшей мере, спорно: принимать его значит полагать, что за всем, что кажется именем, стоит сущность, которую оно обозначает. Другой аргумент (который вполне можно назвать агностическим), представляющий собой один из центральных пунктов критики картезианского дуализма и дуализма вообще, акцентирует внимание на том, что из постулирования простой нематериальной, непротяженной души, похоже, должно следовать постулирование невозможности познания (этой нематериальной, непротяженной простой душой) материального, протяженного, сложно мира и, соответственно – связи между этим миром (и телом как его частью) и душой (сознанием). В более пространном виде, с одной стороны, а с другой – как часть предыдущего аргумента – этот аргумент формулируется просто как аргумент загадочности, нерационализуемости психофизических связей, при признании метафизического дуализма. Еще более радикальным следствием такой критики является общий скептицизм в отношении познаваемости сознания.
Задача психологического объяснения в случае картезианского дуализма, фактически, должна решаться на следующем фундаменте: законы, описывающие физический и ментальный миры, соответственно (номологии), не тождественны, но параллельны; это значит, что психология должна быть изоморфна естественным наукам каким-то образом и при этом не тождественна ни одной из них. С этим параллелизмом связана главная проблема философии психологии: как возможно адекватное психологическое объяснение? Скептицизм в этом отношении получил широкое развитие: состоит он в утверждении, что, поскольку парадигмальным источником адекватных объяснений являются естественные науки, а психология не располагает потенциалом продуцировать естественнонаучные объяснения, адекватное психологическое объяснение, в первую очередь объяснение сознания, в принципе невозможно.
Психология претендует на то, что она является наукой о сознании по преимуществу. Но вследствие методологической неопределенности ментального как предмета изучения психология сталкивается с весьма специфическими и серьезными трудностями, которые можно обобщить под названием «проблема психологического объяснения». Философия психология акцентирует внимание, прежде всего, на этой проблеме. Основные вопросы философии психологии в этой связи таковы: Чем в действительности занимается и чем должна заниматься психология? Может ли быть психология наукой и, если да, то какой? Каковы объяснительная сила и условия истинности психологических выводов и теорий? Спор о статусе психологического объяснении можно описать в терминах так называемой доктрины двух точек зрения. Она предполагает, что к каждому виду сущего применимы, по крайней мере, две системы описания – феноменологическая (описывающая феноменальные свойства сущего, т.е. то, как нечто дано) и структурная (что «стоит» за данностью, не будучи непосредственно наблюдаемо в том, что дано). Вопрос ставится так: может ли обеспечиваться психологическое объяснение исключительно феноменологическими результатами или оно с необходимостью должно быть структурным? И далее, если оно должно быть структурным, то может ли оно при этом не быть физическим или, шире, естественнонаучным объяснением? Ответ «нет» обычно идентифицируют с редукционизмом: концепцией, утверждающей, что адекватное объяснение в психологии может быть дано только на языке какой-то другой науки, предположительно – одной из естественных наук. Если так, то единственный способ утвердить психологию как источник подлинного знания, как науку – показать, что она может быть полностью переведена на (какой-то) естественнонаучный язык. Инструментом такого «перевода» считаются так называемые редукционные правила – правила, устанавливающие и регулирующие соответствия между естественнонаучными законами и тем, что мы бы хотели утверждать как законы психологические. Полная редукция предполагает, что подобного рода связями соответствующим образом охвачены все номотетические утверждения психологии. Есть еще третья точка зрения, также нашедшая широкое применение в философии сознания. Применительно к сознанию ее можно выразить в виде лозунга: «Сознание есть то, что оно делает». При этом предполагается, что адекватным описанием сознания должно быть его функциональное или, более специфично, каузальное описание, т.е. описание в терминах систематических результатов работы сознания или, по другому, и опять же более специфично, в терминах его каузальной роли. На дотеоретическом уровне обсуждения этот дескриптивный подход выглядит, по меньшей мере, равно привлекательным в сравнении с феноменологическим и структурным. Так же, как структурному подходу к сознанию можно сопоставить влиятельную концепцию в философии сознания – редукционизм, признание объяснительного приоритета функциональных описаний легло в основание применения к изучению сознания такой влиятельной исследовательской программы, как функционализм.
Краткое скептическое описание проблемы психологического объяснения состоит в том, что между психологией и остальными науками существует объяснительная пропасть ( explanatory gap ). Если существование такой пропасти признается, то дальнейший вопрос формулируется как вопрос о преодолимости этой пропасти. Один предполагаемый путь такого преодоления намечает редукционизм; другой состоит в утверждении самостоятельной объяснительной значимости психологических теорий, независимо от их редуцируемости. В качестве своего рода третьего пути может рассматриваться признание авторитета выводов концептуального или, по-другому, логического анализа, примененного к нашим обыденным распространенным способам говорить о сознании и ментальном вообще, к тому типу дискурса, который в философии сознания получил название folk psychology («народная психология»). Идея непреодолимости пропасти в объяснении, в свою очередь, помимо картезианской метафизики, поддерживается сочетанием наших распространенных интуиций существования феноменального сознания, с одной стороны, и его недоступности эмпирическому познанию с другой. Если идеалом науки для нас является некая единая наука наук, располагающая средствами объединения всех частных наук и перевода всех их (признанных) результатов на единый язык, то психофизический параллелизм предполагает проект единой психофизики. Однако, осуществление этого проекта предусматривает, что физические и психологические законы могут быть каким-то образом объединены в единую систему. Между тем, весьма сомнительно, что это можно осуществить каким-то приемлемым способом. Да и сама идея психологии как единой науки о сознании может быть поставлена под сомнение не только на основании общих скептических соображений, но и, например, в силу того, что термин «сознание» и ему подобные, похоже, обозначают гетерогенные феномены, феномены с разной природой. Если так, то для их объяснения нужна не одна наука, а скорее, семейство наук, неизвестно, в какой степени поддающихся объединению. В противном случае, если приведенные сомнения имеют под собой веские основания, наука о сознании может иметь исключительно феноменологический характер; это может гарантировать, по крайней мере, что различные феномены, объединяемые под титулом «сознание», просто не будут рассматриваться с точки зрения их природы, причин и тому подобного.
По крайней мере, одно направление в психологии можно рассматривать как реализацию картезианской программы построения психологии. Оно получило название «интроспекционизм» по названию своего основного метода и вполне сочетало идею психологии как подлинной науки с презумпцией психофизического параллелизма. На рубеже 19 – 20 веков это направление в психологии заняло ведущие позиции. Представления об интроспекции, между тем, с самого начала не было достаточно прояснено даже в рамках этого движения и претерпевало довольно существенные изменения. Интроспекционизм, тем не менее, в основном опирается на понимание интроспекции как именно ментального акта второго порядка, результатом которого является знание о других ментальных актах. Иногда интроспекционизм понимают как первую попытку отделить психологию от философии и построить ее как независимую «научную» дисциплину, имеющую свои собственные основания.
Фундаментальная посылка интроспекционизма : психология – это феноменология человеческого ума; она нацелена на полное описание ментального как оно явлено субъекту. Точки отсчета здесь – различия между субъективными цветовыми, звуковыми и другими впечатлениями. Источником аналогии в построении такой науки выглядит построение таблиц элементов в химии. Фундаментальная предпосылка интроспекционистского подхода состояла в том, что полное понимание сознания возможно только по окончании исчерпывающей «инвентаризации» его атомарныхподразделений – элементарнейших чувственных впечатлений, которые можно различить. Но сама специфика метода способствовала тому, что возникающие научные разногласия невозможно было решить путем консенсуса просто в силу отсутствия общих стандартов интроспективного знания. Так, разные исследовательские группы по разному подходили к определению стандартных условий интроспекции, в частности к тому, следует ли специально готовить субъекта или нет, не говоря уже о стандартах «перевода» интроспектируемых данных на язык исследовательских отчетов. В качестве примера непримиримого разногласия приводят обычно спор между представителями так называемых Вюрцбургской, руководимой Кюльпе в Лейпциге, и Корнеллской (возглавляемой Титченером в Нью Йорке) школ. Титченер сообщал, что его лаборатория обнаружила более, чем 44435 различимых впечатлений, в основном зрительных и звуковых. В противоположность этому Кюльпе настаивал на числе меньшем, чем 12000. Требовалось, чтобы субъект-наблюдатель, отчеты об интроспекциях которого должны составить основание экспериментальных данных, соответствовал задаче обнаружения элементарных впечатлений; для этого, предполагалось, что он должен научиться различать стимулы, которые на него должны воздействовать в лаборатории, иначе он будет воспринимать, например, два разных стимула как один и т.д. Но вся несостоятельность метода, похоже, состояла именно в том, что между разными лабораториями не существовало идеи общего стандарта такой подготовки. И тогда получалось буквально следующее: например, Кюльпе и его последователи были убеждены, что интроспективно могут быть даны абстрактные идеи, никак не связанные с конкретными образами, тогда как Титченер не допускал возможности интроспекции каких-либо элементарных единиц опыта, не ассоциированных с конкретным образным или, по крайней мере, чувственным содержанием; следовательно, каждый старался подготовить субъекта к различению именно таких единиц опыта, какие хотелось, чтобы он мог различать (а вернее, предполагать, что различает), экспериментаторам. Но такая не стандартизованная подготовка оказывала влияние на то, когда субъект сообщал о феноменальных данных, которые он действительно имеет, а когда – о тех, что ему только «кажется», что он имеет. По установлении наличия разногласия между лабораторными результатами, далее, естественно возникал научный спор: но в ходе его аргументы сводились всего лишь к формулам вида «Субъект не мог этого ощущать (иметь абстрактную идею в интроспекции, например)», «Нет, мог!»(11) .
Гештальтпсихология – другая влиятельная школа в психология, сформировавшаяся примерно в то же время, что и интроспекционизм, хотя по многим существенным вопросам расходилась с ним, тем не менее, разделяла основные его эпистемологические предпосылки. Однако уже появление на психологической «сцене» психоанализа бросило вызов интроспекционизму, по меньшей мере, в одном существенном отношении. Фрейд, говоря словами Скиннера, открыто признал, что важные ментальные процессы, играющие каузальную роль в отношении поведения индивидов (в этом и он, и интроспекционисты согласны), не даны непосредственному (интроспективному) наблюдению, а являются бессознательными (именно в смысле их интроспективной не данности) и, соответственно, требуют применения других методов для их обнаружения.
(1) См .: T. Nagel, ‘What Is It Like to Be a Bat?’, Philosophical Review, 83:4, 1974, 435 – 36.
(2) В принципе можно понятия психического и ментального могут различаться своими объемами: например, существует тенденция ограничивать объем ментального только когнитивными процессами. Можно исходить из того, что ментальные процессы или состояния суть только те, которые имеют дело с мышлением, интеллектуальными способностями, познанием и тому подобным, но не включают все остальные виды процессов, состояний и свойств, относящихся к сфер психического, таких, например, как ощущения или чувства. Мы, однако, не будем здесь следовать какому-то подобному строгому разграничению, полагая, что, даже в том случае, если «ментальное» понимается как синоним «психического» и психофизическая проблема включает проблему связи сознания с материальным миром, эта проблема приобретает именно те черты, которые вызывают наибольший философский интерес, какой бы широкий объем психического по сравнению с ментальным мы ни допускали.
(3) Ср. в этой связи, в частности: Э. Гуссерль, «Феноменология внутреннего сознания времени», Гнозис, М., 1994.
(4) Правда в этом случае концепция интроспекции сближает психологию с абстрактными дисциплинами и философией.
(5) «Четвертый ответ Арно».
(6) «Принципы философии».
(7) «Опыт о человеческом разумении», книга вторая, глава 1.
(8) Письмо к Арно.
(9) «Опыт о человеческом разумении», § 19.
(10) См .: G. Guzeldere, “Approaching Consciousness” (“The Many Faces of Consciousness: A Field Guide”), The Nature of Consciousness, N. Block, O. Flanagan, G. Guzeldere (eds.), A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Masachusetts, 1997, 12 – 13.
(11) См. описание этого спора там же, 14.
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Дефляционная теория истины
- Концепция онтологической относительности и холистический тезис Куайна
- "Реализм с человеческим лицом" Х.Патнэма
"Реализм с человеческим лицом" Х.ПатнэмаБлинов А.К.В предисловии к русскому изданию сборника классических статей Патнэма Л.Б.Макеева пиш
- "Усовершенствованный реализм" А.Айера
"Усовершенствованный реализм" А.АйераБлинов А.К.Оскфордский философ Альфред Джулс Айер (1910 — 1989) после окончания Крайст-Черч-колледжа в 1
- Прагматический анализ
- Физикалистская метафизика Д.М.Армстронга
- Холистичность теории интерпретации Д.Дэвидсона
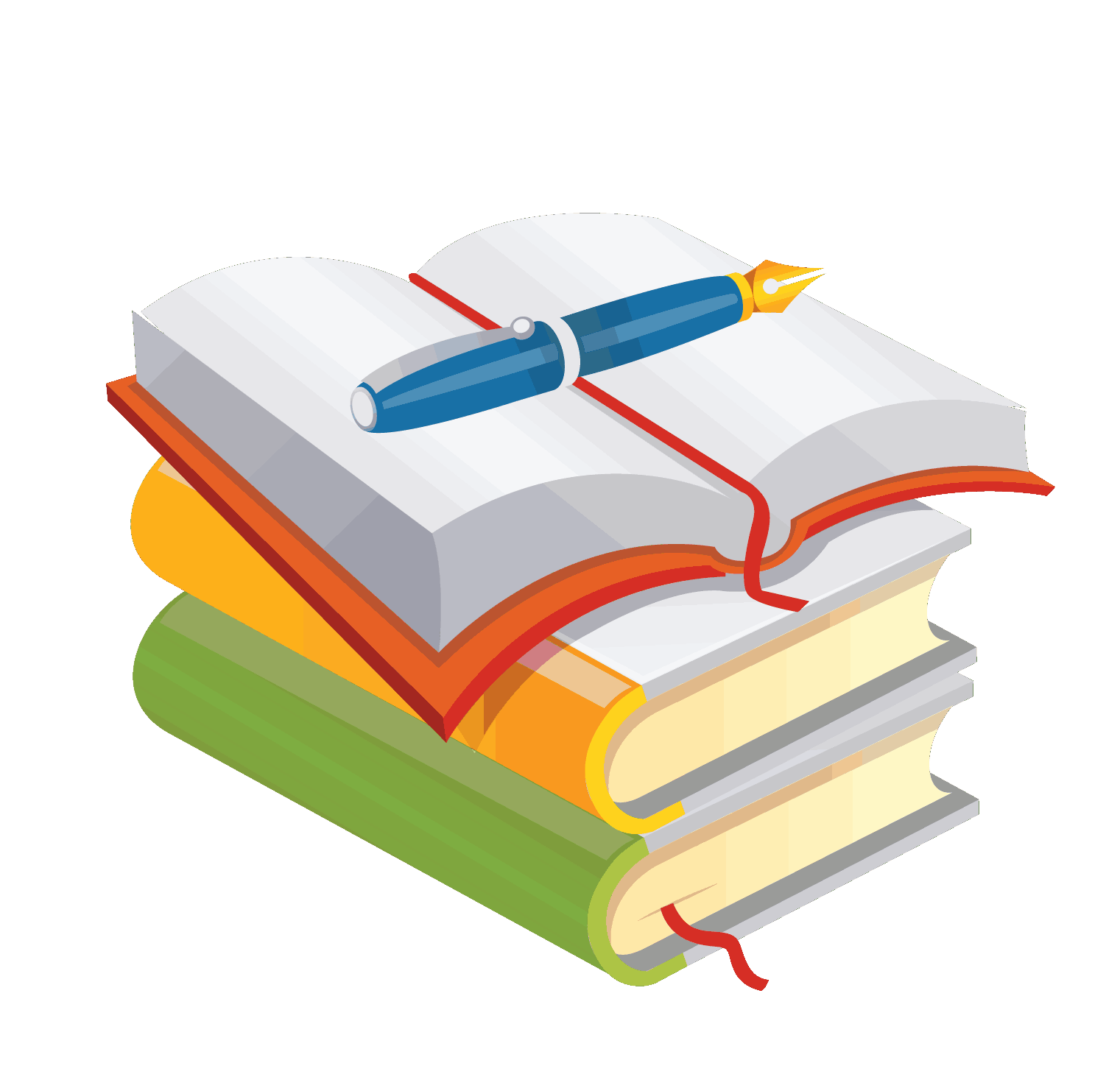 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.