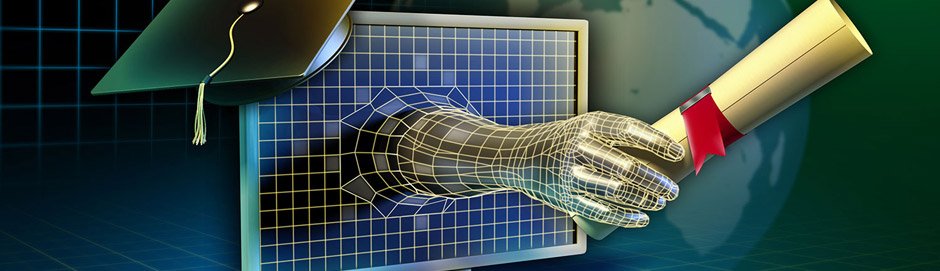А.С.Пушкин: краткий очерк жизни и творчества
Ивинский Д. П.
Пушкин утверждал, что появился на свет в Москве на Молчановке; пушкининсты обычно полагают, что в Немецкой слободе, где в храме Богоявления в Елохове была произведена запись о его рождении: «Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова у жильца его моэора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр». Точно известно, однако, что произошло это 26 мая 1799 г. в четверг, в праздник Вознесения. 8 июня младенец был окрещен.
Вначале время его жизни двигалось неторопливо. Первые впечатления – прогулки в Юсуповом саду, недолгая разлука с матерью, уезжавшей в деревню, и землетрясение, случившееся в Москве 14 октября 1802 г. Первое соприкосновение с Историей: во второй половине 1800 г., когда Пушкины жили в Петерубрге, при случайной встрече с Павлом I няня не успела снять картуз с маленького Александра и тем заслужила высочайший выговор. Одно рождение и одна смерть: 9 апреля 1805 г. родился брат Лев, 30 июля 1807 г. умер шестилетний брат Николай. Няня Арина Родионовна Яковлева иногда рассказывает сказки, бабушка М.А.Ганнибал учит читать и писать по-русски и говорит о семейной истории Пушкиных, Ганнибалов и Ржевских. Русский язык усваивается быстро: когда некая дама засмеялась, заметив, как маленький Пушкин, прогуливавшийся с матерью, устал, отстал от нее и присел отдохнуть прямо посреди улицы, он отозвался на этот смех не вполне вежливым замечанием: «Ну, нечего скалить зубы!». В декабре 1809 г. в Москву приезжает Александр I; Пушкин стоит с народом на высоком крыльце церкви св. Николая на Мясницкой. Показалась толпа генералов; у церкви перекрестился лишь один: «По сему знамению, – напишет Пушкин много лет спустя, – народ узнал своего государя».
Летом Пушкины подолгу живут в подмосковном Захарове; осенью и зимой гувернеры и учителя настойчиво ограничивают свободу. Это огорчает и раздражает: Пушкину хочется читать совсем не те книги, которые ему предписаны. У него хорошая память, и он повторяет наизусть стихи И.И.Дмитриева, на чтении которых однажды присутствовал. Начинает сочинять сам – пишет басни и комедии и у него появляется аудитория, впрочем, не всегда благодарная: сестра Ольга, освиставшая, согласно собственному ее позднейшему признанию, комедию «Похитетель», написанную в подражание Мольеру. Не оценил стихотворческие опыты Пушкина и его гувернер Русло: поэма «Толиада» была брошена оскорбленным и самолюбивым автором в огонь; после этого гувернеру прибавили жалованье.
В 1811 г. Пушкина собираются поместить в модный иезуитский пансион; благодаря вмешательству А.И.Тургенева, судьба его переменилась: он был принят в Царскосельский лицей. Распорядок дня: вставали в шесть утра, одевались и в общей зале читали молитву; с семи до девяти занятия в классе, потом чай и прогулка до десяти, с десяти до двенадцати класс, после до часу прогулка, в час обед; с двух до трех чистописание или рисование, с трех до пяти класс, в пять чай и прогулка, в шесть повторение уроков, по средам и субботам обучение танцам или фехтованию; в половине девятого звонок к ужину, в десять вечерняя молитва. Из Царского Села воспитанников не выпустили за шесть лет обучения ни разу, а первые три или четыре года не выпускали и из здания Лицея. Оставалось сочинять стихи: поэзия давала ощущение внутренней свободы.
Пушкин, Дельвиг, Илличевский и Кюхельбекер были лицейскими поэтами; дружба не исключала соперничества и взаимных эпиграмм; чаще других доставалось Кюхельбекеру. Например, так: «Писатель! за свои грехи // Ты с виду всех трезвее: // Вильгельм, прочти свои стихи, // Чтоб мне заснуть скорее!». Иногда вместо стихов проказничали: в памяти лицеистов осталась импровизированная пирушка с ромом и гогель-могелем, испробованными, по мнению начальства, «из резвости и детского любопытства». Давали себя знать и любопытство и резвость не вполне уже детские: однажды Пушкин, думая поцеловать Наташу, горничную одной из фрейлин императрицы Елизаветы Алексеевны, самым невинным образом, заслышав в вечерней темноте приближающийся шорох платья, бросился обнимать княжну Волконскую. На другой день император сделал выговор директору лицея, заметив с сожалением: «Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей садовника, но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей». Впрочем, государь был любезен и дозволил убедить себя в том, что плоды лицейского просвещения к сим печальным проступкам не сводятся.
Уже в первые лицейские годы Пушкин хорошо знает основные обстоятельства русской литературной жизни и борьбы: противостояние Карамзина и Шишкова, карамзинистов архаистам, «Арзамаса» «Беседе любителей русского слова» – одна из тем лицейской лирики Пушкина, с самого начала избравшего амплуа последователя Карамзина; 1815-м годом датируется эпиграмма на «угрюмых» и «глупых» его противников: «Угрюмых тройка есть певцов – // Шихматов, Шаховской, Шишков, // Уму есть тройка супостатов – // Шишков наш, Шаховской, Шихматов, // Но кто глупей из тройки злой? // Шишков, Шихматов, Шаховской». При этом Пушкин-лицеист не отделяет себя от традиции русской лирики XVIII в.; на публичном экзамене в 1815 г. Пушкин читал «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина, который не мог скрыть своего восхищения и заметил с приличествующей случаю важностью: «Вот кто заменит Державина». В том же 1815 г. Пушкин познакомился с Карамзиным, проводившем ежегодно летнее время в Царском Селе, иногда бывал у него. Карамзин не испытывал особого интереса к стихам Пушкина – но Жуковский и Вяземский уже были убеждены в значительности дарования нового поэта. Из письма Вяземского к Батюшкову: «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? Чудо, и все тут. Его воспоминания <т.е. «Воспоминания в Царском Селе»> вскружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в выражении, какая твердая и мастерская кисть в картинах. Дай Бог ему здоровья и учения, и в нем будет прок и горе нам. Задавит каналья!» Основные темы лицейской лирики Пушкина до 1816 г. – любовь, вино, дружба, поэзия, позволявшие забывать о быстротекущем времени жизни; в 1816 на первый план выступают минорные интонации: Пушкин начинает подражать унылым элегиям Жуковского и говорить об одиночестве, меланхолии, предчувствии смерти, утратах и неблагосклонной судьбе.
Но не только учеба, проказы, горничная Наташа и стихи занимали воображение: еще была платоническая любовь к Катерине Павловне Бакуниной, фрейлине и сестре одного из лицейских товарищей Пушкина: «29 ноября 1815 г. Я щастлив был!.. нет, я вчера не был щастлив, поутру я мучился ожиданьем, с неописанным волнением стоя под окошком смотрел на снежную дорогу, ее не видно было! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице, сладкая минута!».
Летом 1817 г. двери лицея наконец распахнулись: учение было закончено, и Пушкин оказался в вихре большого света; впрочем, он с удовольствием появлялся как в аристократических салонах, так и на нецеремонных офицерских пирушках. В лицее он мечтал о военной службе, но служить (точнее, числиться: служба по обычаю того времени была номинальной) пришлось в Коллегии иностранных дел – и тем с большим рвением предавался он радостям жизни. В сентябре 1818 г. А.И.Тургенев сокрушенно писал Вяземскому: «Праздная леность, как грозный истребитель всего прекрасного и всякого таланта, парит над Пушкиным». Последний, как казалось тогда многим, упивался помянутой леностью, не обращал внимания на мудрые советы и любил привлекать к себе внимание в обществе. Известная тогда трагическая актриса А.М.Каратыгина (Колосова) вспоминала: «В 1818 г., после жестокой горячки, ему обрили голову, и он носил парик. <...> Как-то, в Большом театре, он вошел к нам в ложу. Мы усадили его, в полной уверенности, что здесь наш проказник будет сидеть смирно. Ничуть не бывало! В самой патетической сцене Пушкин, жалуясь на жару, снял с себя парик и начал им обмахиваться как веером... Это рассмешило сидевших в соседних ложах, обратило на нас внимание и находившихся в креслах». Стремление к эпатажу объяснялось просто: Пушкин стремился выйти за пределы тех социальных амплуа, которые были предписаны длительным употреблением, потому что искал способ быть самим собой. Издержки избранного стиля скоро проявились в полной мере: петербургский свет решил, что Пушкин человек ветреный и легкомысленный.
В Петербурге продолжились и некоторые лицейские сюжеты – например, дружеские насмешки над Кюхельбекером, которые последний переносил отнюдь не всегда добродушно и миролюбиво. Однажды Жуковский, не явившийся на какой-то вечер, простодушно объяснил свое отсутствие расстройством желудка и визитом Кюхельбекера. Пушкин написал на это стихи: «За ужином объелся я, // Да Яков запер дверь оплошно – // И стало мне, мои друзья, // И кюхельбекерно, и тошно!». Кюхельбекер потребовал дуэли, оная началась, Кюхельбекер выстрелил и промахнулся; Пушкин стрелять не стал, объяснив весьма убедительно, что в ствол его пистолета набился снег.
Рассказы об эпизодах такого рода весьма многочисленны. Но не подлежит сомнению, что жизнь Пушкина в первые годы после выхода из лицея содержала иные измерения. Он энергично включился в литературную жизнь – и повел себя не вполне понятным для его друзей образом: если в лицее он выступал как карамзинист и арзамасец, то теперь, получив некогда желанную возможность заседать в «Арзамасе», ею почти не воспользовался, предпочтя вечера у осмеивавшегося им еще недавно А.А.Шаховского. Написал поэму «Руслан и Людмила», в состав которой вошла пародия на «Двенадцать спящих дев» Жуковского, и тот, возможно, не без скрытой иронии, надписал Пушкину свой портрет: «Победителю ученику от побежденного учителя». Этого мало: основные усилия Пушкин направил на сочинение политических стихотворений, которых от него не ждал никто, ни Жуковский, ни Шаховской, и которые приобрели рукописную славу в кругу петербургской золотой молодежи. Самым известным из них оказалась ода «Вольность», в которой рассказывалось о некоторых действительных обстоятельствах убийства Павла I, что неизбежно было воспринято как обвинение Александра I во лжи: официальная, санкционированная и обнародованная новым императором версия заключалась в том, что император прежний скончался от апоплексического удара. Поток стихотворных эпиграмм довершил дело: правительство занялось нарушителем спокойствия. Граф М.А.Милорадович, тогдашний петербургский военный генерал-губернатор призвал Пушкина к себе и потребовал его возмутительных стихов. Пушкин заявил, что все они им сожжены, но выразил готовность написать их по памяти для Милорадовича и исписал целую тетрадь. Милорадович, тронутый выражением столь самоотверженного благородства, отпустил Пушкина, объявив ему прощение от имени государя; последний, выслушав на следующий день доклад Милорадовича, слегка нахмурился и распорядился «снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соответствующим чином и с соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг». Пушкин получил назначение в Кишинев в канцелярию генерала И.Н. Инзова, главного попечителя и председателя Комитета об иностранных поселенцах южного края России.
Инзов не стремился к роли строгого начальника и, едва познакомившись с Пушкиным, разрешил ему отправиться в поезду на Кавказ и в Крым с генералом Н.Н.Раевским и его близкими. Это путешествие означало расширение опыта жизни, а вместе с тем привело к изменению литературной позиции: в Гурзуфе Пушкин впервые прочел Байрона и увлекся; плодами этого увлечения стали поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» и «Цыганы» с их «местным колоритом», лаконизмом повествования, умолчаниями, страстями и отчужденными героями, которые не умели принести счастья ни другим, ни себе.
Служба в Кишиневе под началом Инзова оказалась необременительной: досуг скрашивали частые ссоры с молдавскими господарями, дуэли и попугай Инзова, которого Пушкин научил ругаться по-русски. Из всех знакомств, сделанных Пушкиным в это время, наиболее значительными были два – с В. Раевским, заслужившим у либеральных историков прозвание «первого декабриста», и с И. Липранди, послужившим Пушкину прототипом героя повести «Выстрел». Из наиболее значимых поступков, совершенных Пушкиным, отметим вступление его в масонскую ложу «Овидий», к работам в которой Пушкин приступил со всем рвением неофита и мастера стула которой, генерала П.Пущина, воспел в стихах, сочинявшихся со всею мыслимой серьезностью: «И скоро, скоро смолкнет брань // Средь рабского народа, // Ты молоток возьмешь во длань // И воззовешь: свобода! // Хвалю тебя, о верный брат! // О каменщик почтенный! // О Кишинев, о темный град! // Ликуй, им просвещенный!». В это время в поэзии Пушкина складывается обширный цикл кощунственных стихотворений («Христос воскрес, моя Ревекка!..», «<В.Л.Давыдову>» и др.), увенчанный «пакостной» «Гавриилиадой». Странным образом почти одновременно Пушкин начинает работу над поэмой «Бахчисарайский фонтан» (весна-лето 1821 г., основной текст – 1822), в которой тема христианства представлена, несомненно, как высокая и значительная. Так обнаруживают себя два полюса в мировидении Пушкина, а вместе с тем намечается и направление духовного развития – от Вольтера и вольтерьянства к примирению с Творцом. 1823 г. в духовной биографии Пушкина оказался переломным: Пушкин начинал избавляться от либеральных иллюзий и писал если не об их неосновательности, то об их преждевременности: «Свободы сеятель пустынный, // Я вышел рано, до звезды; // Рукою чистой и безвинной // В порабощенные бразды // Бросал живительное семя – // Но потерял я только время, // Благие мысли и труды... // Паситесь, мирные народы! // К чему стадам дары свободы? // Их должно резать или стричь. // Наследство их из рода в роды // Ярмо с гремушками да бич». Пройдет стравнительно немного времени, и он напишет послание «К морю», в котором революционное «просвещенье» и тирания предстанут как две равно неприемлемые возможности: «Мир опустел... Теперь куда же // Меня б ты вынес, океан? // Судьба людей повсюду та же: // Где благо, там уже на страже // Иль просвещенье, иль тиран».
Но это будет позднее, а пока друзья Пушкина хлопотали о переводе его из Кишинева в Одессу в распоряжение новороссийского генерал-губернатора М.С. Воронцова. Все складывалось, как поначалу казалось, весьма благоприятно: либерально настроенный и вместе с тем чуждый крайностей Воронцов представлялся А.И. Тургеневу и Вяземскому именно тем человеком, который может оказать покровительство опальному и не слишком умеющему заботиться о себе поэту.
Одесса, куда Пушкин выехал в первых числах июля 1823 г., встретила его пылью, устрицами, театрами и салонами, сопоставимыми с петербургскими. В одесском обществе Пушкин имел некоторый успех: здесь уже прочли поэму «Кавказский пленник», – но успехом этим более или менее демонстративно пренебрегал, не останавливаясь перед весьма вольным эпатажем. Его внешнюю жизнь заполняли романы: с Амалией Ризнич, Каролиной Собаньской, Елизаветой Воронцовой, внутреннюю – «Евгений Онегин», начатый еще в Кишиневе, поэма «Цыганы», лирические стихотворения. Однажды пришлось исполнять служебные обязанности: начальство откомандировало наблюдать за распространением саранчи; Пушкин представил отчет: «Саранча летела, летела // И села; // Сидела, сидела, все съела // И вновь улетела». Свое раздражение Пушкин объяснил в одном из писем к А.А. Бестужеву: «У нас писатели взяты из высшего класса общества – аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает». Но не только отчет о саранче вызвал раздражение начальства: свое дело сделали и вольные разговоры, и эпиграммы на Воронцова, и письмо к Кюхельбекеру (или к Дельвигу: точно до сих пор не установлено), в котором Пушкин рассказывал о знакомстве с англичанином, любезно излагавшим ему уроки «чистого атеизма». Трудно сказать, насколько благодарным учеником был тогда Пушкин - во всяком случае, атеистическое учение его не радовало, хотя и казалось убедительным: «система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, верная». Этот вывод оказался предварительным; о содержании своих размышлений о вере и неверии Пушкин много лет спустя рассказывал так: «Я тогда написал одному из моих друзей, что беру уроки атеизма и что его положения представляют известную вероятность, но что они не утешительны. Письмо распечатали, и в полиции записали мое им в числе атеистов. А я очень хорошо сделал, что брал эти уроки: я увидел, какие вероятности представляет атеизм, взвесил их, продумал и пришел к результату, что сумма этих вероятностей сводится к нулю, а нуль только тогда имеет реальное значение, когда перед ним стоит цифра. Этой-то цифры и недоставало моему профессору атеизма. Он давал мне читать Гоббса, который опротивел мне своим абсолютизмом — безнравственным, как всякий абсолютизм, и неспособным дать какое-либо нравственное удовлетворение. Я прочел Локка и увидел, что это ум религиозный, но ограничивающий знание только ощущаемым, между тем как сам он сказал, что относительно веры Слово Божие (Библия) более всего наставляет нас в истине и что вопросы веры превосходят разум, но не противоречат ему. Юм написал естественную историю религии после своего Опыта о человеческом разуме; его доводы и убедили меня, что религия должна быть присуща человеку, одаренному умом, способностью мыслить, разумом, сознанием. И причина этого феномена, заключающегося в самом человеке, состоит в том, что он есть создание Духа Мудрости, Любви, словом, Бога. Вообще у англичан со времени реформации заговорили о терпимости, о гражданском и религиозном освобождении и о вопросах нравственности столько же, сколько и о политических вопросах... И я в конце концов пришел к тому убеждению, что человек нашел Бога именно потому, что Он существует. Нельзя найти то, чего нет, даже в пластических формах, — это мне внушило искусство. Возьмем фантастических и символических животных, составленных из нескольких животных. Если ты восстановишь рисунки летучих мышей и уродливых ящериц тропических стран, ты увидишь, откуда взяты драконы, химеры, дикие фантастические формы. Выдумать форму нельзя; ее надо взять из того, что существует. Нельзя выдумать и чувств, мыслей, идей, которые не прирождены нам вместе с тем таинственным инстинктом, который отличает существо мыслящее и чувствующее от существ только ощущающих. И эта действительность столь же реальна, как все, что мы можем трогать, видеть и испытывать. В народе есть врожденный инстинкт этой действительности, то есть религиозное чувство, которое народ даже и не анализирует. Он предпочитает религиозные книги, не рассуждая о их нравственном значении, они просто нравятся народу. И его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу, все, что было великого с самой глубокой древности; все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра, которую мы находим даже в народных сказках, где злодеи всегда так отвратительны. У всякого дикаря есть представление о красоте, хотя и очень грубое, уродливое; и у него есть свои украшения, он хочет нравиться, это уже первобытная форма о любви. Все это так же естественно, как верить, надеяться и любить».
Между тем тогда, в 1824 г., письмо об атеизме решило дело: служебное поприще Пушкина было признано властями завершенным, и он был отправлен в принадлежавшее его отцу село Михайловское Псковской губернии.
Первое время пребывания в Михайловском было омрачено тяжелыми ссорами с отцом; в конце концов Пушкин остался один. Друзья выражали опасение, что он сойдет с ума или покончит с собой: его спасла поэзия, которая отныне заполняла почти весь его досуг. И в центре его размышлений о литературе оказалась проблема романтизма; во многом это объясняется нашумевшей полемикой вокруг «Бахчисарайского фонтана», напечатанного в марте 1824 г. с обширным предисловием Вяземского, который описал современную русскую литературную жизнь в категориях борьбы романтизма и классицизма и, конечно, безоговорочно принял сторону первого. Возражая Вяземскому, Пушкин заявил, что русский классицизм – абстракция, почти не опирающаяся на реальность: «Ты прав в отношении романтической поэзии. Но старая <...> классическая существует ли у нас? Это еще вопрос». Пушкин рассматривал классицизм и романтизм как категории, обобщающие историю литературных жанров: «<...> к роду классическому <...> должны отнестись те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили; след.<ственно>, сюда принадл.<ежат>: эпопея, поэма дидактическая, трагедия, комедия, ода, сатира, послание, ироида, эклога, элегия, эпиграмма и баснь. Какие же роды стихотворения должны отнестись к поэзии ром.<антической>? Те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими» («О поэзии классической и романтической», 1825). Полагая, что истинный классицизм в России дело будущего, Пушкин со второй половины 1820-х гг. все чаще обращается к античным формам и одновременно с этим пытается реанимировать такие вроде бы давно признанные архаичными формы, как торжественная ода и эпическая поэма; во всяком случае, мотивы и стиль, присущие этим жанрам, представлены в «Полтаве», «Медном Всаднике» (и гораздо ранее в эпилоге «Кавказского пленника»). Интерес к классицизму, между тем, не означал разрыва с романтизмом: трагедия «Борис Годунов», основной текст которой был создан в Михайловском в 1824 г. (окончательная редакция – 1829), мыслилась автором как романтическая, поскольку представляла собой результат глубокого переомысления формы традиционной трагедии (демонстративное нарушение требований единства времени и места, чередование стихотворных фрагментов с прозаическими, допущение простонародного языка и т.д.).
Как бы то ни было, пребывание в Михайловском дало Пушкину возможность обрести самого себя: как поэт, он заговорил теперь на собственном языке, и этот язык уже мало кому из современников приходило в голову объяснять влиянием Жуковского или Байрона.
В самом конце декабря 1825 г. в продажу поступили «Стихотворения Александра Пушкина», снискавшие шумный успех; Пушкин занял первое место на российском Парнасе. В Михайловском были закончены «Цыганы», создан основной текст «Бориса Годунова», «Граф Нулин», «Подражания Корану», написаны четвертая, пятая и шестая главы «Евгения Онегина».
Роман в стихах становился спутником жизни, своего рода дневником, отражавшим не только развитие героев, но и духовную эволюцию автора. Основная тема романа – литература и жизнь; восприятие действительности через посредство литературного текста осмыслялось в сложной перспективе истории чувств, и литературные произведения становились элементами миропонимания и языком общения. При этом, конечно, попытка строить жизнь по аналогии с судьбами литературных персонажей оценивалась Пушкиным насмешливо: он давно, видимо, еще в лицее понял, что подобные попытки свойственны провинциалам, которые сведения о светской жизни черпают из книг. Показательно, что замечания о Татьяне, которой «рано нравились романы, // Они ей заменяли все» и которая приняла Онегина за Грандисона, окрашены иронически. Но роман в стихах отмечен и иной свободой – той свободой выбора жизненного пути, которая выразилась не только в открытом финале, но и в системе жанровых предпочтений. В третьей главе романа в стихах Пушкин рассуждает о старом и новом романе: «восторженный» герой романа старого «Готов был жертвовать собой, // И при конце последней части // Всегда наказан был порок, // Добру достойный был венок»; потом все изменилось: «А нынче все умы в тумане, // Мораль на нас наводит сон, // Порок любезен и в романе, // И там уж торжествует он. // Британской музы небылицы // Тревожат сон отроковицы // <...> Лорд Байрон прихотью удачной // Облек в унылый романтизм // И безнадежный эгоизм». Кажется, современники не заметили того, что составляло основу пушкинского замысла: «Евгений Онегин» начинался как сочинение в новейшем вкусе, как рассказ о «москвиче в гарольдовом плаще», и даже «русская хандра» его соотносилась с «английским сплином». А закончился – как роман на старый лад, отказом Татьяны, венком добру, т.е. в полном несоответствии с духом новой эпохи и унылым романтизмом лорда Байрона.
Сходным образом романтическая трагедия оказалось опытом полемики с современной французской историографией, которая, по точному замечанию Б.М. Энгельгардта, была выведена «на суд русской летописи». Важно и другое: в трагедии «Борис Годунов» Пушкин выступил как единомышленник Карамзина, и в то самое время, когда критика «вооруженною рукою» (Вяземский) на «Историю государства российского» уже приготовлялась в кругу деятелей 14 декабря. В этой трагедии мнение народное представало как объект манипуляций; один из сторонников Лжедимитрия произносил патетически: «Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? // Не войском, нет, не польскою подмогой, // А мнением – да, мнением народным». Движущей события силой оказывается провидение, Божий суд, от которого не суждено было уйти ни Годунову, ни Отрепьеву.
Освобождение Пушкина из Михайловской ссылки оказалось драматическим и почти мгновенным. В ночь с 3 на 4 сентября 1826 г. в Михайловское явился фельдъегерь с предписанием отправляться в Москву. 8 сентября Пушкин, не успев отряхнуть дорожную пыль, предстал в Кремле перед Николаем I. Разговор был длительным (насколько можно судить, он продолжался более часа) и трудным для Пушкина: в ходе этого разговора должна была решиться его судьба. И судьбой своей Пушкин сильно рисковал, когда на вопрос царя «если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?» ответил: «Неизбежно, Государь, все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них». Это, несомненно, была центральная часть беседы: отвечая утвердительно, Пушкин тем не менее объяснил свой выбор своими дружескими отношениями, но не своими убеждениями; он прекрасно понимал, что несостоявшаяся революция начиналась небезупречно: устроители ее обманули солдат, уверив их, что они идут сражаться за законного императора Константина.
В ходе беседы с царем Пушкин заговорил о конституционной монархии; ответ царя запомнился поэту надолго: «Думаешь ли ты, что будучи конституционным монархом, - говорил Николай, - я смог бы сокрушить голову революционной гидре, которую вы сами, сыны России, вынянчили на гибель России? Считаешь ли ты, что обаяние самодержавной власти, мне Богом данной, не помогло удержать в повиновении остальную гвардию и уличную чернь, готовую к буйным поступкам, грабежу и насилию? Толпа не посмела бунтовать передо мною! Не посмела! Ибо самодержавный царь был для нее живым представителем всемогущества Бога, представителем Бога на земле; ибо она знала, что я понимал величие своих обязанностей и не был человеком, лишенным мужества и воли, человеком, которого гнут бури и которому страшен гром!» Пушкин слушал, понимая, что в словах царя не было ни игры, ни самолюбования: «Когда он это говорил, казалось, он вырастал и становился огромным в сознании своего достоинства и силы. Его лицо было сурово и глаза сияли. Но это не было признаком гнева – нет! Он не был гневен в эту минуту, он как бы измерял свою силу, боролся с сопротивлением и побеждал» (рассказ Пушкина приводим в передаче Ю. Струтынского).
Николай принял решение простить поэта и объявил ему, что отныне сам будет его цензором. Эта милость, как выяснилось впоследствии, не только не оказалась для Пушкина панацеей от цензурных бедствий, но и изрядно затруднила напечатание ряда произведений.
Московское общество приняло поэта восторженно; публичные чтения «Бориса Годунова» следовали одно за другим. Одно из таких чтений описал М.П.Погодин: «Первые явления мы выслушали тихо и спокойно <...>. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Что было со мною, я и рассказать не могу. Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена: мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иваном Грозным, о молитве иноков: “Да ниспошлет покой его душе, страдающей и бурной”, – мы все просто как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. <...> Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления». Осень 1826 г. – пик пушкинского успеха. Никогда ни до, ни после его прижизненная слава не поднималась на столь высокий уровень.
Очень скоро завязался поначалу скрытый и, вероятно, казавшийся Пушкину поначалу не слишком существенным, конфликт с московским обществом. В либеральном английском клубе Пушкин провозглашал здравие нового государя. Конечно, все пили, но все и удивлялись: поведение Пушкина в то время, когда свежа еще была память о казни пятерых заговорщиков и о следствии, которое прямо или косвенно затронуло значительную часть высшего общества, было не то чтобы неадекватным (и в Петербурге, и в Москве декабристам сочувствовали весьма и весьма немногие), но как-то не вязавшимся с репутацией поэта, которого некоторое время воспринимали как певца свободы, т.е. через призму таких его произведений, как «Вольность». «Кинжал» и некоторых других. Поздней весной 1827 г., когда Пушкин навсегда уехал из Москвы в Петербург, его отношения с Москвой были уже основательно испорчены. Любопытно, что в своем «Путешествии из Москвы в Петербург» (1833-1835) он будет сочувственно писать именно о той ушедшей Москве времен Екатерины, которую осмеял Грибоедов в своей комедии: «Горе от ума» есть уже картина обветшалая, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который всякому, ты знаешь, рад – и князю Петру Ильичу, и французу из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны, которая Балы дает нельзя богаче // От Рожества и до поста, // А летом праздники на даче. Хлестова – в могиле; Репетилов – в деревне. Бедная Москва!».
Конец 1820-х – начало 1830-х гг. – переломная эпоха в жизни Пушкина. В это время ему суждено было испытать на себе переменчивость вкусов читающей публики. Уже «Полтава», экспериментальная вещь, в которой Пушкин предпринял не только опыт полемики с декабристской традицией осмысления Петра I и его реформ, но и попытался синтезировать поэтику романтической поэмы с высоким стилем традиционной оды и эпопеи, не имела успеха. И неуспех этот, как показали дальнейшие события, не был случайностью: Пушкин все меньше умел соответствовать ожиданиям своих читателей. И читателей этих становилось все меньше: последние главы «Евгения Онегина» раскупались с трудом, известность «Повестей Белкина» ограничилась ироническими комментариями журналистов, тираж «Истории пугачевского бунта» вообще не был раскуплен, тираж «Современника» в 1836 г. от номера к номеру неуклонно снижался – от 2000 экземпляров до 700, и не было оснований полагать, что, останься Пушкин в живых после дуэли с Дантесом, журнал ждала бы более счастливыя судьба, чем «Литературную газету» Дельвига, которую пришлось закрыть в июне 1831 г. вследствие катастрофического падения читательского интереса.
1828 г. оказался временем переоценки собственной жизни: «И с отвращением читая жизнь мою, // Я трепещу и проклинаю, // И горько жалуюсь, и горько слезы лью, // Но строк печальных не смываю» («Воспоминание»). Эта переоценка была настолько глубокой, что временами повергала Пушкина в отчаянье: «Дар напрасный, дар случайный, // Жизнь, зачем ты мне дана? // Иль зачем судьбою тайной // Ты на казнь осуждена? // Кто меня враждебной властью // Из ничтожества воззвал,// Душу мне наполнил страстью, // Ум сомненьем взволновал?..// Цели нет передо мною:// Сердце пусто, празден ум, // И томит меня тоскою // Однозвучный жизни шум». На эти стихи, как известно, откликнулся митрополит Филарет: «Не напрасно, не случайно // Жизнь от Бога мне дана, // Не без воли Бога тайной // И на казнь осуждена. // Сам я своенравной властью // Зло из темных бездн воззвал, // Сам наполнил душу страстью, // Ум сомненьем взволновал. // Вспомнись мне, забвенный мною! // Просияй сквозь сумрак дум, // И созиждется Тобою // Сердце чисто, светлый ум». Пушкин отвечал, признавая правоту Филарета: «В часы забав иль праздной скуки,// Бывало, лире я моей // Вверял изнеженные звуки // Безумства, лени и страстей.// Но и тогда струны лукавой // Невольно звук я прерывал, // Когда твой голос величавый // Меня внезапно поражал.// Я лил потоки слез нежданных, // И ранам совести моей // Твоих речей благоуханных // Отраден чистый был елей.// И ныне с высоты духовной // Мне руку простираешь ты,// И силой кроткой и любовной // Смиряешь буйные мечты.// Твоим огнем душа палима, // Отвергла мрак земных сует,// И внемлет арфе серафима // В священном ужасе поэт». Во второй половине 1820-х гг. пушкинский романтизм все чаще окрашивается религиозно: уже ода 1826 г. «Пророк», ориентированная на Книгу Исайи, от начала и до конца строится на церковнославянском языковом материале; в дальнейшем библеизмы и библейские сюжеты все чаще проникают в самые разные произведения Пушкина – от «Медного Всадника» и «Анджело» до стихотворений «Мирская власть» и «Отцы пустынники и жены непорочны...».
В 1829 г. Пушкин предпринимает попытку изменить свою жизнь: испытывая судьбу, он отправляется в путешествие на Кавказ, не имея ни разрешения властей, ни продуманного плана. Он не просто путешествует, он по крайней мере однажды участвует в боевых действиях – 14 июня 1829 г., ухватив пику одного из убитых казаков, Пушкин, в гражданском платье, в цилиндре на голове, но одушевленный отвагой устремился против неприятельских всадников. Погибнуть тогда ему было не суждено и он вернулся, привезя из поездки дневник, на основе которого позднее напишет «Путешествие в Арзрум» и наброски так и оставшейся незавершенной поэмы «Тазит», замысел которой сформировался в контексте размышлений о христианском миссионерстве на Кавказе и милосердии как основе христианства.
Конец 1820-х годов – начало пушкинской прозы. Первый значительный опыт, роман «Арап Петра Великого», остался незаконченным. «Повести Белкина» стали попыткой пересмотра всей традиции новой русской прозы. Если ранее и Карамзин, и Жуковский, и Бестужев-Марлинский стремились (пусть и в разной степени) поэтизировать прозу, насыщая повествование перифразами, иносказаниями, почерпнутыми из лирики метафорами и сравнениями, то Пушкин стремился к максимально последовательному разграничению поэтического и прозаического стилей, в пределах последнего стремясь к лаконизму и простоте выражения. Существенно и другое: под пером Пушкина русская проза насыщалась новыми жанровыми ассоциациями и, например, бытовой, исторический и литературный анекдот входил в нее вместе с элементами традиционных новеллы и романа.
Пребывание Пушкина в Петербурге, откуда до конца жизни он выезжал лишь несколько раз, было отмечено драматической литературной борьбой, которая велась, по меньшей мере, на два фронта, и имела принципиальный смысл. С одной стороны, это была борьба с таким ярким представителем демократической (а вместе с тем и официальной) журналистики, каким был один из друзей Рылеева в прошлом и нынешний тайный корреспондент III отделения и издатель влиятельной газеты «Северная пчела» Фаддей Булгарин. Пытаясь скомпрометировать «литературных аристократов», он напоминал благодарным читателям о том, что африканский прадед Пушкина был некогда выкуплен за бутылку рому, распространял сведения о заискивании Пушкина перед сильными мира сего, а заодно печатал беспристрастные разборы пушкинских произведений и в разборах этих с сожалением констатировал «совершенное падение» дарования некогда первого поэта России. Пушкин отвечал Булгарину сатирическими стихами и памфлетами, но ответы эти ничего не изменили: публика восхищалась фантастически бездарными историческими романами Булгарина и уже по
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Магазин Елисеева
Анатолий РубиновЗнаменитый на всю Россию "Елисеевский" магазин вполне мог бы называться иначе - "Касаткинский", если бы не сыновняя любо
- Москва ресторанная: от Петра до Первой Мировой
- В Москву за песнями
- Старая Москва в ожидании пасхи
М.С.Рябикова, Е.Н.Борисова-СарториО какой Москве пойдет речь? О той, где в середине XIX века улицы освещались лишь светом из окон. О той, в ко
- Мясницкая улица
- Подмосковная усадьба Вышние Горки
- Переулки между Лубянкой и Мясницкой
Между этими улицами, как связующие нити, расположились переулки. Такова особенность старых городов: хаотичная застройка и обилие мелки
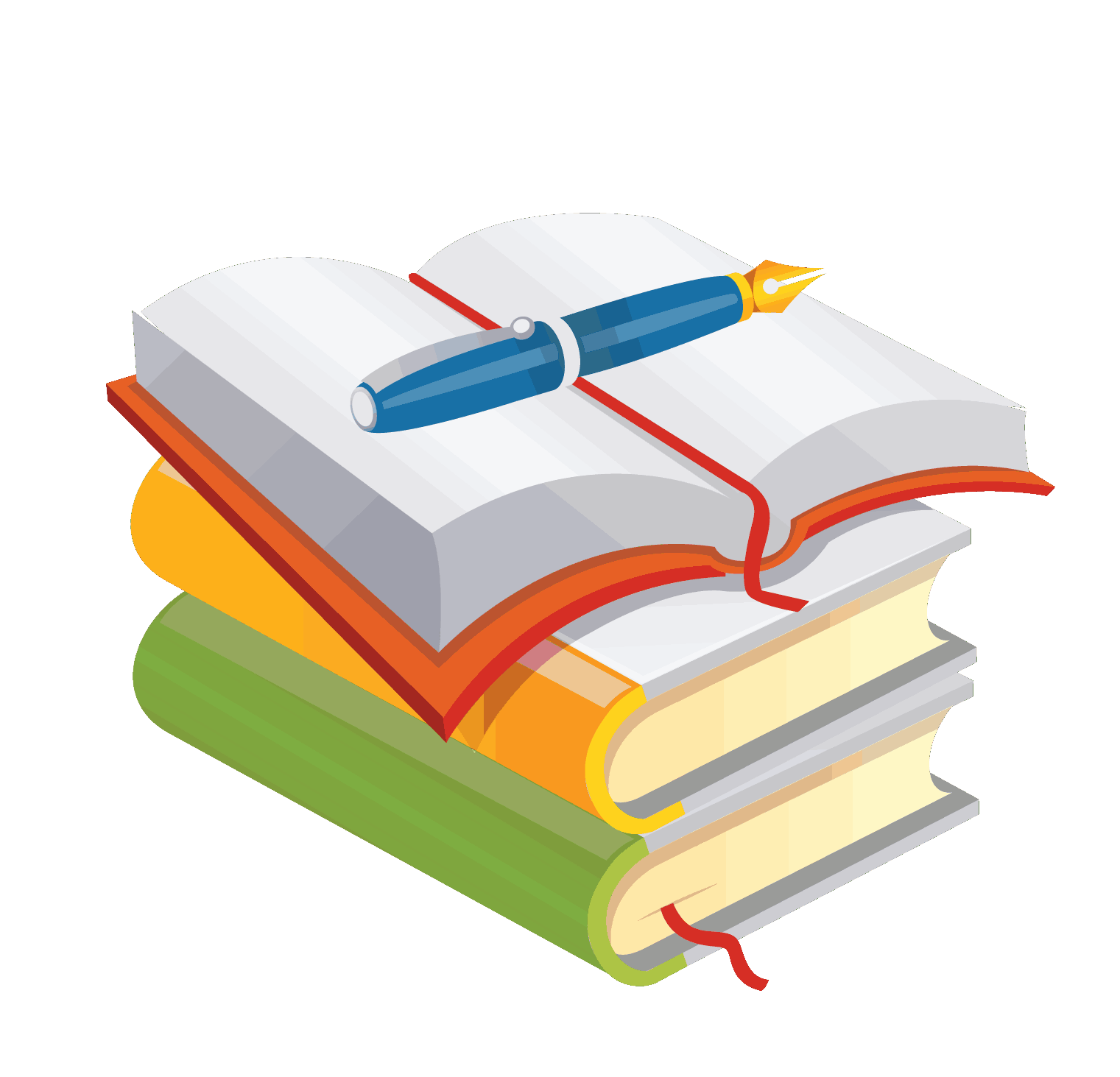 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.