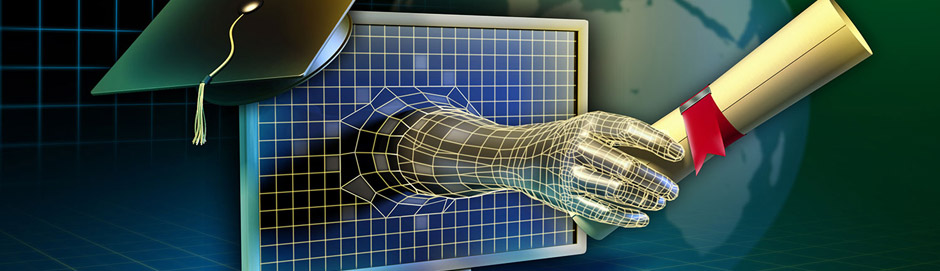"Горе от ума" в историко-литературной перспективе
"Горе от ума" в историко-литературной перспективе
Я. Билинкис
Есть часто цитируемые слова К. Маркса: «Анатомия человека - ключ к анатомии обезьяны». Далее Маркс разъяснил: «...намеки более высокого у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже известно» (1).
Положение это может быть отнесено к любому виду развития. При одном, однако, условии - когда речь идет о развитии художественном, нельзя говорить о «более высоком» и «низшем» в привычном смысле. Тут требуются ограничения. Язык ведь не повернется сказать, что «Горе от ума» просто «ниже» хотя бы и «Войны и мира» или романов Достоевского. Великая грибоедовская комедия - вовсе не «недоразвившийся» Островский и не «зачаточный» Чехов. Она живет и значима сама по себе, в своей целостности и единственности. За ее пределом и в иных соотношениях, в «составе» иного целого содержавшиеся в ней «начала» выглядят и живут уже по-другому. Но увидеть эти «начала» в «Горе от ума» рождающимися, представить себе «состав» грибоедовского создания историко-литературная перспектива помогает в немалой степени.
Больше того, мы и не можем сейчас читать, к примеру, «Пиковую даму», отрешившись от того, что «потом» было написано «Преступление и наказание». Два таких факта литературного процесса вступают в нашем сознании в связь настолько уже неразрывную и естественную, настолько постоянную, что и не всегда даже замечаемую. Так что предлагаемая тема, собственно, лишь выводит «наружу», делает явственной одну из «сторон» в наших отношениях с грибоедовской комедией, неотменно присутствующую, обязательную в любом последующем восприятии литературного прошлого вообще.
1
Грибоедов-драматург, как известно, начал свою деятельность обычными для десятых годов девятнадцатого века переводами-переделками с французского. Близки к ним оказались и оригинальные его пьесы той ранней поры. Все это были произведения «с интригой», с персонажами активными и деятельными. Но активность их сосредоточивалась всецело на устройстве собственных частных дел и судьбы. Фабула и сюжет оставались совершенно условными. Любовные коллизии не принадлежали определенным характерам и не вводили их. Хотя уже развертывание интриги и проявления своей инициативы у действующих лиц говорили о новых устремлениях в русском обществе, о назревавшей потребности в людях, готовых к самостоятельному выбору и способных его совершить.
Комедия «с интригой» приходила к нам и утверждалась на русской почве как французская по происхождению - именно во Франции совершилась в самой классической форме антифеодальная революция, широко открывшая путь личностным развитиям по всей Европе, «...весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции, - отметит В. И. Ленин. - Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии...» (2). «Мы вместе с Францией гордимся Французской революцией» (3) - скажет в наши уже дни М. С. Горбачев в беседе с представителями французской общественности.
Героя «Горя от ума» на встречу с фамусовской Москвой Грибоедов приводит после трехлетнего пребывания его на Западе, впечатлениями от которого тот был, по-видимому, совершенно поглощен - за все эти три года он не написал в Россию ни слова. Вспомним, какими новыми для русских глазами, с какой уже широтой смотрел на Европу времен Французской революции Карамзин и как принципиально отличался этот взгляд хотя бы от фонвизинского.
Со свежим и новым взглядом является и Чацкий из-за границы. И еще: герой, так сказать, «дозрел» до любви. Он несется сейчас в Москву к Софье, с которой его связывают лишь полудетские общие воспоминания, как на крыльях. Душевное состояние его изливается удивительными стихами о том, как он торопился, как мчался в ветер и бурю.
Европейский опыт помог Чацкому и выработать новые понятия, и подняться до высокого индивидуального чувства. Развитие и развертывание личности берется Грибоедовым широко, и ему найдены в самом деле основательные опоры.
Потом в разных случаях Чацкого будут играть на сцене то борцом и идеологом, то пылким влюбленным. Дальнейшее историческое движение мало будет способствовать целостному развитию и целостному восприятию человека. Но в «Горе от ума» становление русской личности взято как охватывающее всего человека, пусть при этом стихии любовного чувства и не была отпущена ее собственная мера.
Когда Вл. И. Немирович-Данченко будет сетовать на то, что «большинство актеров играют» Чацкого «резонером», «перегружают образ значительностью Чацкого как общественного борца», «как бы играют не пьесу, а те публицистические статьи, какие она породила» (4), то он будет прав и в констатации сложившегося положения, и в стремлении своем вернуться к той целостности образа, какая «Горем от ума» задается. Впрочем, и самому Немировичу-Данченко, когда он впервые ставил Грибоедова на сцене Художественного театра, не удалось избежать сужения и односторонности - здесь Чацкий оказался почти что только влюбленным. Предложенная грибоедовской комедией как норма цельность личностного развития остается и посейчас задачей, от разрешения достаточно далекой. Утверждение Аполлона Григорьева, что Чацкий - «единственное героическое лицо нашей литературы» (5), полно еще и поныне непреходящего исторического и художественного смысла.
О Чаадаеве (к связи с ним грибоедовского героя мы еще вернемся) О. Мандельштам в черновиках своей статьи о нем пометил: «Чаадаев был первым русским, в самом деле, идейно, побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие среди них Чаадаева.
На него могли показывать с суеверным уважением, как некогда на Данта: „Этот был там, он видел - и вернулся...“.
Чаадаев знаменует собой новое, углубленное понимание народности, как высшего расцвета личности, и России как источника абсолютной нравственной свободы. Наделив нас внутренней свободой, Россия предоставляет нам выбор, и те, кто сделал этот выбор, - настоящие русские люди, куда бы они ни примкнули. Но горе тем, кто, покружив около родного гнезда, малодушно возвращается обратно» (6).
Сказанное здесь во многом может быть отнесено к Чацкому. Да, фамусовская Москва не оценила появления Чацкого. Никто не испытал к нему «суеверного уважения». Но он-то «был там, он видел - и вернулся». И он окажется причастен к «пониманию народности, как высшего расцвета личности, и России как источника абсолютной нравственной свободы».
Усвоив на Западе новые для России просветительские представления, Чацкий ждет, жаждет теперь от своей страны ее собственного исторического движения, не подражательного по отношению к Западу, но самостоятельного, самобытного, выражающего особенное, свое, своеобразное. Можно, наверное, утверждать, что именно встреча с Западом сделала для Чацкого столь нестерпимым современное ему положение в России, побудила к нетерпеливой требовательной вере в ее собственные возможности. Таким образом, «Горе от ума» оказалось в непосредственном преддверии исторической коллизии западники - славянофилы.
По поводу этой коллизии на страницах сегодняшнего журнала, в рецензии на новейшее исследование о славянофильстве, можно прочесть, что «в нашей науке этот вопрос до сих пор не решен исчерпывающим образом. Неясно, является ли русская культура частью общеевропейской культуры или же, несмотря на активное восприятие европейских идей на протяжении многих веков своего развития, она остается самостоятельной культурной единицей. Ни один из двух традиционных, полярных по своей сути ответов нас удовлетворить не может» (7).
В грибоедовской комедии никакого ответа и быть не может. Но вопрос, тот самый вопрос, уже встает. И Чацкий потому и возмущен всяческими заимствованиями, следованиями иноземной моде, что в самом деле проникся представлениями о постоянных переменах, о непрерывном движении, хочет всего этого же, но идущего изнутри, рождающегося заново в России. Перемены же, которые ему суждено обнаружить (приобретение новой роли Молчалиным и Скалозубом, внимание к Молчалину Софьи), его лишь обескураживают.
То, что очень скоро станет в одном случае западничеством, в другом - славянофильством, живет еще в Чацком нерасчлененно, неотграниченно одно от другого. Чем и отмечается исходная внутренняя связь обоих этих направлений, первоначальное даже их родство. А герой предстает не адептом какого-то одного течения, хотя бы и достаточно широкого, но не слишком счастливым выразителем глубиннейших и долговременных устремлений всей русской жизни, мучительно искавших свою дорогу. Гоголь скажет в «Выбранных местах из переписки с друзьями», что «Горе от ума» обличило «дон-кишотскую сторону нашего европейского образования».
Вульгарные социологи вменят Чацкому в вину его отношение к Молчалину, усмотрят тут зло сословного аристократизма. В 20-30-х гг. нашего века они не сумеют увидеть человека иначе, как в тесных рамках его классовой принадлежности. На самом деле в «Горе от ума» герой противостоит Молчалину, опираясь на то чувство собственного человеческого достоинства, которое в разночинцах тогда было развито неизмеримо меньше, чем в тех, кто имел за собою шестисотлетнее дворянство или что-нибудь вроде того.
«Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении» (8) назовет В. И. Ленин Белинского. Только после Белинского определится у русских разночинцев их общественное самосознание. Тогда у Жадова из «Доходного места» Островского без каких бы то ни было прямых европейских воздействий появятся свои принципы и установки, хотя и он еще будет нетверд в их защите. Молчалин же весь нацелен на то, чтобы как можно скорей прикрыть свою безродность карьерой, самому о безродности этой забыть. И не за безродность совсем презирает его Чацкий. Норма человека, как открывалась она просветительскому сознанию, действительно оказывалась осуществленной в гораздо большей степени в Чацком, чем в Молчалине. Условия жизни в свете многим такое и поддерживали. Не случайно же Белинский в статьях о Пушкине столь вроде бы неожиданно произнесет панегирик светскому воспитанию. Уж Белинского-то в сословном аристократизме заподозрить вряд ли возможно...
«Горе от ума» обнаружило неизбежность крушения иллюзий и надежд Чацкого во встрече его с фамусовской Москвой. При этом действенно заявили себя и права самой «живой жизни», какая она реально есть, пусть предъявляемые к ней требования и проистекают из самых передовых понятий. Грибоедов с необходимостью вышел к обычному, будничному, повседневному человеческому существованию — и выяснилось, что у того, при низменности здесь многого, есть также и свое очарование: в простоте и патриархальной непосредственности отношений между людьми, в способности радоваться тому, что жизнь сама по себе дает, и еще и еще... (9). И так как все это открывалось под весьма и весьма далекими от совершенства, достойными обличения и осмеяния формами общественного уклада, то получалось, что у реальности, у жизни всегда есть и некие непреложные преимущества даже перед самыми высокими умозрениями. Грибоедовская комедия «изнутри», так сказать, себя обретала свой философский смысл, ограничивая в их значении любые отвлеченные построения, кладя начало тому содружеству с жизнью, какое будет свойственно затем всей русской литературе XIX столетия и в произведениях Пушкина, Тургенева, Островского, Достоевского, Толстого, Чехова составит их едва ли не главный «пафос» (если воспользоваться известным понятием Белинского).
История Чацкого в самой комедии не замкнута фабульными границами. Выше уже упоминалось о значении европейского периода жизни героя. А в конце своего московского пребывания он оказывается в разладе с собою самим. Догадываясь, что становится подчас смешон, он с тревогой обращается к Софье: «Я сам? Неправда ли, смешон?» И, получив утвердительный ответ, тотчас же снова принимается ораторствовать:
Я странен, а не странен кто ж?
Тот, кто на всех глупцов похож...
Остановившись на мгновение, «не впрямь ли я сошел с ума?» - спрашивает он уже у самого себя.
Не образумлюсь... виноват.
И слушаю, не понимаю,
Как будто все еще мне объяснить хотят,
Растерян мыслями... чего-то ожидаю, -
путается Чацкий в словах в последнем своем монологе. Призрак возможного действительного безумия маячит перед ним. Актеры разных времен - от П. А. Каратыгина до В. П. Долматова - играли в Чацком нарастающую по ходу действия странность поведения.
Но эта возможность для него не единственна, не безусловна.
На репетициях по возобновлению в 1924-1925 гг. в Художественном театре спектакля «Горе от ума» Н. М. Горчаков записал такой диалог В. И. Качалова, который на этот раз играл Репетилова, с К. С. Станиславским, советовавшим актеру взглянуть по роли на Чацкого как на своего будущего соперника в Английском клубе:
«В. И. Качалов. Почему я, Репетилов, должен видеть в Чацком врага?
К. С. Потому что он собирается играть вашу роль.
После небольшой паузы, вызванной неожиданным ответом Константина Сергеевича, Василий Иванович, как-то очень пристально вглядываясь в выражение лица Станиславского, сказал:
- Я не предполагал, что Репетилов настолько умен, чтобы видеть в Чацком своего соперника на общественном поприще...
К. С. А что бы стал делать Чацкий, если бы остался в Москве? Поехал бы в Английский клуб?
В. И. Качалов. Вероятно, поехал бы...
К. С. Выступил бы в кружке князя Григория?
В. И. Качалов. Возможно, что и выступил бы...
К. С. Разнес бы в пух и прах Репетилова?
В. И. Качалов. Если бы не было более подходящего объекта, то обрушился бы и на Репетилова.
К. С. Вот в предчувствии всего этого Репетилов и предпочитает заняться сам «уничижением» себя. Чацкий не захочет повторять про Репетилова то, что тот сам про себя наговорил» (10).
Как видим, и приход в Английский клуб для Чацкого тоже отнюдь не исключен.
И, по-видимому, два приведенных и далеко не совпадающих варианта дальнейшей судьбы героя совсем не исчерпывают того, что Чацкого может ожидать, что с ним может произойти.
Предположения, «заложенные» на этот счет в «Горе от ума», оказались обращенными, в частности, и к развернувшейся поздней жизненной истории Чаадаева, которая почти невероятным образом совместила в себе разное из того, что в качестве альтернативных возможностей «мерцало» Чацкому. Объявленный безумным, Чаадаев и одиноко появлялся в светских гостиных, в том же Английском клубе, и продолжал вещать и пророчествовать, и уединенно пересматривал свои взгляды, пытаясь не отстать от времени, и впадал в приступы отчаяния, и, ломая свою эгоцентрическую натуру, тянулся в «человечье общежитье...».
Сама жизнь словно бы дописывала грибоедовскую комедию, подтверждая ее, вводя разного рода дифференцирующие и интегрирующие тенденции, ведя ее дело дальше.
2
Афронта, полученного им в Москве, Чацкий никак не предполагал. В своих высказываниях поначалу он ведь был только искренен, только откровенен. Не возмущался, а лишь недоумевал, повидав мир, московской неизменности. Москва, однако, удивит Чацкого и своей готовностью подняться против него, злобно ощериться и напасть.
Маркс говорил, что «высший героический порыв, на который еще способно было старое общество, есть национальная война» (11). И не кто-нибудь, а декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол спустя уже достаточно долгий срок после 1812 г., прочтя в первом из «Философических писем» Чаадаева рассуждения об отсутствии у России прошлого и будущего, убежденно заявит: «Человек, который участвовал в походе 1812 года и который мог это написать, - положительно сошел с ума» (12). Толстой в 1860-е гг., желая показать в истории пример широкого национального единства, обратится к поре 1812 г. и сможет там подобное единение действительно найти...
Чацкий, три года в Москве не бывший, и представить себе не мог, как примет она его. Его суждения покажутся сразу же и дикими, и опасными. И уважения к ним никто здесь не испытает ни малейшего. Ведь даже о грандиозных нововведениях Петра, многое в России перестроивших, историк Ключевский скажет: «Вводя все насильственно, даже общественную самодеятельность вызывая принуждением, он строил правомерный порядок на общем бесправии, и потому в его правомерном государстве рядом с властью и законом не оказалось всеоживляющего элемента свободного лица, гражданина» (13). Откликнуться Чацкому, понять его было некому. Так и возникла конфронтация его со всем его московским окружением.
На наших глазах в грибоедовской комедии разворачивается собственно процесс разделения прежде единой русской культуры на те две противостоящие друг другу культуры, на которые у каждой исторически развитой нации указывал В. И. Ленин. При этом и роль личности тоже радикально менялась.
В «Грозе» Островского потребуются собственная энергия и усилия Катерины Кабановой, чтобы поднять попираемые или в лучшем случае пренебрегаемые старые нормы нравственности, когда новые еще не сложились. И Катерина подымет их и обрушит их во всей их суровости на себя самое, коль скоро уместиться в них она уже не может.
Раскольников в «Преступлении и наказании» чувствует себя ответственным за состояние мира. Стук его сердца отвечает даже тому, как светит месяц на небе. И он обязывает себя что-то немедленно предпринять, если мир, по его мнению, устроен дурно. Пусть Достоевский заставит своего героя раскаяться в его решениях и образе действий. Подвига Раскольникова (14), его готовности отвечать за все, что происходит «при нем», это не отменяет.
Анна Каренина в трудный и горький свой час «беспрестанно» повторяет: «Боже мой! Боже мой!» Она хотела бы оградить и ограничить себя старой моралью. Но «„ни Боже“, „ни мой“ не имели для нее никакого смысла... Она знала вперед, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни. Ей не только было тяжело, но она начинала испытывать страх перед новым, никогда не испытанным ею душевным состоянием». Личность у Толстого все больше оставалась на самое себя, должна была делать свой выбор и сама же за него отвечать. В ней же самой сосредоточивалась и высшая нравственная требовательность к себе и к миру.
Но в русской литературе личность оказывалась под контролем жизни всех других людей. Проверялась тем, что воспоследует для всех «других» из ее решений и выбора.
Раскольникова Достоевский винит за то, что, в отличие от Сони, он не себя принес в жертву, но отыскал того, кем якобы пожертвовать можно. Анну от Толстого защищает ее непреходящее чувство вины перед сыном, перед мужем - и все равно ее создатель не даст ей разрешения и выхода.
Чацкий - у истоков этого пути, который тогда только начинался. Ему не дано хоть что-нибудь в Москве изменить, хоть кого-то образумить. Однако и открывается, что, вовлекаясь в борьбу, покоряясь ее логике, преследуемый неудачами, Чацкий начинает посягать на быт уже как таковой, отвергает все, что отлилось в устойчивые, привычные формы. Он обличает гостей на вечере у Фамусова, не беря во внимание, что люди здесь собрались просто потанцевать, развлечься. Остановившись, он обнаруживает, что, по авторской ремарке, «все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам». С щемящей наглядностью предстает здесь одиночество героя. Но одновременно выясняется, что умозрительный максимализм его, объяснимый и во многом оправданный, не может выдержать испытания житейской реальностью.
Сделавший свой выбор в отношениях с фамусовокой Москвой, он в сущности отказывает в праве на выбор Софье, которая тоже ведь поступает по-своему и не принимает навязываемого ей отцом Скалозуба.
Личность, только-только объявившаяся на русской почве, увиденная в героическом ореоле, проходит в комедии проверку весьма мало привлекательным повседневным бытом людей, в быту погрязших, - и проверка эта оказывается для нее обязательной. Воссоздание возможностей и значения личности с первых же шагов сопровождалось в нашей литературе обращением к жизни многих, всех, строгим и последовательным соотнесением одного с другим. Отсюда и проистекали дающие знать о себе в «Горе от ума» и впоследствии не иссякавшие тенденции эпичности в русском реализме.
Против Чацкого - общество, где люди связаны между собой непосредственной, патриархальной связью. Потому-то и знает Фамусов, когда вдова-докторша «должна родить». У того же Фамусова или Хлестовой есть своя яркость характеров, проявляющаяся и в их речи. Но личностности, своего подлинного выбора пути нет из них ни у кого. Напомним, что и сильных, деятельных, инициативных сподвижников Петра Пушкин обозначил как всего лишь «птенцов гнезда Петрова...» Странно было бы ждать в этих условиях личностности от людей фамусовской Москвы! Неудивительно, что самостоятельное уже поведение Софьи отец ее трактует лишь как повторение легкомыслия ее матери и своей жены. Ничего иного он предположить еще не умеет.
Но появление в Москве одного только Чацкого, который так мало преуспел, меняет здесь многое.
«Горе от ума» вводит ситуацию, где каждому приходится по отношению к Чацкому самоопределиться (в точном смысле этого слова). И каждый действительно делает свой выбор. Исторический парадокс, однако, состоит в том, что, совершив этот свой выбор, предприняв, тамим образом, личностный уже, собственно, шаг, все по очереди присоединяются к складывающемуся и распространяющемуся мнению. Все не то чтобы еще не могут иметь своего мнения, но сознательно отказываются от него. Образующееся теперь единство носит уже совсем иной, чем прежде, отнюдь не патриархальный характер. Оно ничего не спустит тому, в ком усмотрит для себя малейшую опасность. В подобном единстве люди не то чтобы еще не могли обрести, но отказываются от возможности обрести лицо. «Мешается в толпу», - гласит одна из ремарок о Загорецком. Мелькающие на фамусовском вечере г. N и г. Д. лишены имен и фамилий. Фамилии Молчалина и Загорецкого становятся нарицательными («Молчалины блаженствуют на свете», о Молчалине же - «в нем Загорецкий не умрет»)...
Становление личности формировало на противоположном полюсе безличность как некий особый феномен. И он нуждался в особых принципах изображения.
Грибоедов в «Горе от ума» их на наших глазах вырабатывает, превращая персонажей в типы. Когда фамилия Молчалина употребляется во множественном числе или в Молчалине выявляется Загорецкий, как раз и совершается этот процесс, что впрямую предоставлено нашему рассмотрению. Движение литературы здесь можно почти что пощупать руками. Грибоедовское завоевание войдет в плоть различнейших способов типизации, которые будут выдвинуты, будут использоваться потом едва ли не всеми без исключения художниками. Но и сам уже Грибоедов весьма многого на этом пути достиг. Его Молчалин, его Загорецкий, его Скалозуб и сейчас служат характеристике фигур и явлений, хотя под пером Грибоедова они возникли чуть не два века назад.
Устанавливаются в «Горе от ума» и связи иного рода между персонажами. Принципиально важна оказалась для последующего художественного движения, в частности, связь фигур Чацкого и Софьи. Чацкий, как уже говорилось, вырастал для Грибоедова из европейского просветительства, его идеи приносил в Москву. И в этом смысле он был своему создателю ясен. С Софьей все было в этом смысле гораздо сложней.
Она ведь тоже, как уже сказано, поступает по-своему, не следуя обычаю, традиции, авторитетам. Ее самостоятельность и решительность непонятны отцу, страшат Молчалина («...При свиданиях со мной в ночной тиши держались более вы робости во нраве, чем даже днем, и при людях, и в яве...», - говорит она о том, как он вел себя на свиданиях с нею).
Она умеет действительно вступиться за свой выбор. Перед отцом, перед Чацким, перед общественным мнением. Не боясь молвы (15). Удары Чацкого по безродному, зависимому, несамостоятельному Молчалину Софья принимает на себя. А в конце отваживается посмотреть правде в глаза и испытывает полною мерой чувство стыда за совершенную ошибку. «...Себя я, стен стыжусь», - произносит она, когда все разъяснилось.
Своего Молчалина Софья придумала. На самом деле безродный секретарь Фамусова не мог быть таким, каким ей хотелось его видеть. Его «вкрадчивость», о которой она сама говорит, не могла сочетаться с чувствами высокими и искренними. Обманулась она вполне закономерно. Но ведь и для Чацкого он в своем преображении неожидан. А главное, не свидетельствует ли самая придуманность софьиного Молчалина, мера разрыва между Молчалиным реальным и нафантазированным ею о силе устремлений и фамусовской дочери к чему-то такому, чего нет в ее кругу?
Получалось, что личность может произрасти не на одних лишь передовых идеях и что личностные развития могут стать в свою очередь причиною столкновений и борьбы. Софья ведь именно в высшей точке своей самостоятельности, защиты сделанного ею выбора принимает против Чацкого крайние меры - распускает слух о его безумии. Тютчев впоследствии многое поведает о «поединке роковом» даже во взаимной любви, когда оба - суверенные личности. Достоевский расскажет, как самоотверженнейшие усилия Мышкина спасти Настасью Филипповну приведут ее к гибели...
Некоторым критикам замечательного спектакля по «Горю от ума» в Ленинградском Большом драматическом театре имени М. Горького показалось, что, подняв Софью до равенства в известном смысле с Чацким, Г. А. Товстоногов потерял главный конфликт пьесы. Но как раз заталкивание Софьи целиком в фамусовский круг бесконечно упрощает и конфликт, и драматическое действие, погружает их в достаточно элементарную интригу. Уже Вс. Мейерхольд пытался взорвать подобную трактовку комедии. Но нашел лишь, если можно так выразиться, «количественное» решение - ввел на сцену рядом с Чацким его единомышленников. А так как отношения с ними Чацкого в пьесе никак не прочерчены, даже не обозначены, грибоедовская многосложность комедии проявить себя не смогла. В спектакле 1962 г. выяснилось, что в самом своем отталкивании от фамусовского общества Софья все же с ним продолжает быть внутренне связана. В мечтаниях своих она по-фамусовски зависима от образцов (в ее случае - романтических). Против Чацкого она действует, не гнушаясь фамусовских средств и поддержки этого круга. И Чацкий страдает как от энергии Софьиного тяготения к самостоятельности, так и от недостатка этой же самостоятельности.
Да, у Пушкина были основания утверждать, что «Софья начертана неясно...» Но и самой этой «неясностью» многое обещалось Прежде всего, пожалуй, тот особый подход к женским характерам, какой позволит увидеть в них, не втянутых в служебную иерархию, большую свободу от обусловленности, предопределенности «средой». Анну Каренину меньше всего можно понять, исходя из ее положения в свете. И уже Софью никак не сведешь к какому-нибудь привычному для пьес ее времени амплуа!
«Обычное представление схватывает различие и противоречие, но не переход от одного к другому, а это самое важное» (16) - помечено у Ленина в «Философских тетрадях». Грибоедовская комедия ни в чем не ограничивала себя схватыванием только «различия и противоречия». Она едва ли не во всем прорубала дорогу к «самому важному».
3
В Репетилове Пушкин усмотрел сразу «два, три, десять характеров» (17). Человек этот действительно равно принят и в фамусовском кругу, и в «секретнейшем союзе». Он рад Скалозубу и мгновенно пускается в откровенности с Чацким, которого видит в первый раз. Многословно и почти искренне кается чуть не перед любым в своих винах...
Появление перед Чацким на фамусовском вечере большинства действующих лиц абсолютной обязательностью не обладает. Пьеса могла бы и обойтись без Горича или без Тугоуховских. И столь же не обязательно тем, кто выходит на сцену, выходить в такой именно последовательности. В этом смысле замечание Вяземского в адрес комедии, что «здесь почти все лица эпизодические, все явления выдвижные: их можно выдвинуть, вдвинуть, переместить, пополнить, и нигде не заметишь ни трещины, ни приделки» (18), не лишено резона. (Впрочем, так же не обязательны еще «набор» и порядок появления друг за другом чиновников в «Ревизоре»).
Но место Репетилова закреплено очень твердо. Встретиться с ним Чацкий может, только потерпев уже поражение в Москве, ославленный безумным и покидающий дом Фамусова. Тут, в этом месте комедии, Репетилов, о чем у нас уже шла речь, оказывается в необходимом внутреннем «сцеплении» с героем, приоткрывает завесу над его возможным будущим. И Чацкому он, значит, не совершенно чужой, хоть тот об этом, конечно же, и не подозревает (19).
Наконец, из речей Репетилова следует, что, «умишком понатужась», он может «каламбур родить», из которого уже другие «водевильчик слепят». То есть и к искусству он, получается, причастен.
Не случайно именно Пушкин выказал к этой фигуре внимание, заинтересовался ею. В его собственном Ленском, возникшем позднее, когда тот уже уходит из жизни, человеческое предназначение так еще и не определилось, и возможны, что называется, «варианты». Причем «варианты», далеко друг от друга отстоящие, даже противоположные. (Любопытно, что Белинский и Герцен, рассматривая будущее Ленского, останься он жив, разное предполагали наиболее вероятным). Татьяна удивила своего создателя, выйдя замуж, и Пушкин этой неожиданности как будто радовался...
Действительность предъявляла искусству свое многообразие, свою игру. И оно благодарно и многосторонне этому отзывалось. Гоголь вскоре займется Хлестаковым. Тургенев в артистизме Паншина из «Дворянского гнезда» найдет объяснение тому, что человек этот так легко отвернулся от Лизы, руки и сердца которой только-только просил, и поступил чуть не в рабство к незнакомой ему и внезапно появившейся Варваре Павловне. Из тех же переменчивости и легкости писатели России сумели вывести и не менее чем «всемирную отзывчивость» Пушкина. Она присуща стала и им самим - вплоть до Достоевского - так бесконечно от Репетилова далеким...
4
О создании в его кругу произведений для сценического исполнения Репетилов в «Горе от ума» рассказывает так:
Ну, между ними я, конечно, зауряд.
Немножко поотстал, ленив, подумать ужас!
Однако ж я, когда, умишком понатужась,
Засяду, часу не сижу,
И как-то невзначай вдруг каламбур рожу.
Другие у меня мысль эту же подцепят,
И вшестером, глядь, водевильчик слепят;
Другие шестеро на музыку кладут,
Другие хлопают, когда его дают.
Нельзя не признать, что многие из водевилей, комедий, шедших в грибоедовское время на театре, рождались таким же именно или подобным образом. В создании некоторых из них и автор будущего «Горя от ума» принимал участие. Так, скажем, «Своя семья, или Замужняя невеста» сочинялась к бенефису комической актрисы М. И. Валберховой А. А. Шаховским, но он не поспевал к сроку, и потому к работе над комедией были привлечены Грибоедов и Н. И. Хмельницкий. Иногда удается установить, кому и что в написанном принадлежит, чаще - нет, настолько участники такого рода предприятий следовали привычному канону, а, точнее говоря, шаблону: каждый приготовлял для будущей вещи какой-то из ее блоков, который затем соединялся с тем, что изготавливалось другими. Разумеется, ни о какой художественной целостности произведения речи здесь быть не может.
У великого грибоедовского создания целостность есть.
Но, как ни неожиданным может такое показаться, это еще не решает вопроса об особом художественном мире в грибоедовской комедии, вопроса, который на поверку предстает достаточно сложным.
О Достоевском современный исследователь говорит, что его материалом явилась «не петербургская действительность как таковая... но петербургская действительность в формах гоголевского стиля, такая, какой ее увидел и „возвратил“ миру (не «в том же виде, в каком и взял») Гоголь» (20). Тут очень явственно, что Гоголь сотворил свою действительность, с которой - уже самой по себе - последующие художники могли вступать в разного рода отношения. Белинского изумило, с какой непреложностью «вяжется» странное действо в «Ревизоре», с какой неизбежностью принимают тут, по житейским понятиям совершенно безосновательно, Хлестакова за ревизора и невольно, неосознанно внушают ему эту роль. В мире «Ревизора», как и в любом другом гоголевском произведении, царят совсем особые законы, которым все и подчинено. У городничего, у Ляпкина-Тяпкина, у Бобчинского с Добчинским совсем особая логика, не подражающая логике действительности, но как бы продолжающая ее, выводящая наружу ее потенции (в данном случае не вполне явные и вполне абсурдные). И похожим образом, только еще при посредстве Гоголя и потому тем более сложно, строится мир произведений Достоевского - тоже особый.
Обращаясь же к «Горю от ума», мы находим тут непосредственно Москву со многими ее конкретностями тех времен. Москву, запечатленную остро, получившую от Грибоедова невытравимую мету. Но в главном ту самую Москву, что с разных точек зрения открывается нам и в документах, мемуарах, в переписке. Потому-то при изучении комедии столь существен реальный комментарий: соотнесенность изображенного с изображаемым тут нередко прямая или почти прямая, и как раз это имелось в виду автором, входит в тело произведения.
Именно реальная Москва была Грибоедову необходима для выяснения возможностей и судьбы Чацкого. Но это и ограничивало его в его художнической свободе, заставляло строго держаться реалий московского быта.
Замечательным завоеванием искусства в ту пору было решительное сближение его с действительностью, следование, даже подчинение ее объективному ходу. Еще и Белинский пройдет через период «примирения с действительностью» (не менее ведь того!), что будет важным шагом в его движении вперед. Но художественные обретения и здесь, как едва ли и не во всех иных случаях, не обходились без утрат. Поначалу сближение с действительностью сдерживало формирование у художников собственного художественного мира, который позволяет создать в произведении некую особую реальность.
В. В. Розанов уже в начале нашего века писал: «В превосходной обрисовке Николая Ростова - студента, улана, дворянина, мужа некрасивой и бесценно прекрасной Marie Болконской - показана... историческая и бытовая наша правда; до этих глубин постижения Грибоедов никогда не додумывался (ошибочный тип Скалозуба)» (21). Нет, конечно, Грибоедов не ошибся. Но нельзя и не увидеть, что в художественном мире книги Толстого о 1812 г. даже те, кто Грибоедову дал Скалозуба, открылись уже разными своими сторонами. Сам художественный мир Толстого сообщал им такое множество измерений, какого у Грибоедова еще быть не могло, хотя верно и обратное - чтобы «потом» появилась «Война и мир», «в свое время» нужно было явиться «Горю от ума».
5
Признание Грибоедовым обязательности для себя законов реальности ставило его в новые отношения с его же созданием. Вспомним, что довольно скоро Бальзак назовет себя «секретарем французского общества...».
Г. А. Гуковским в его работах о Пушкине и Гоголе была разработана концепция развития отношений автора с его собственными художественными творениями, начиная с эпохи классицизма. Согласно ей, писатель-классицист видел себя выразителем не ему принадлежащей, но до него существующей и через него лишь словно бы поступающей в мир абсолютной и неподвижной истины. Романтик, напротив, в собственном представлении творил чуть не все из своей головы. Дальше, в искусстве реалистическом, в каждом данном случае такого рода отношения складывались уже на совсем иных основах.
Построение это в целом выглядит убедительным и поддерживается многими фактами. Классицист, скажем, не сам формировал жанровую структуру своего произведения - он следовал определенному жанровому канону. Произведения разных авторов, принадлежащие к одному жанру, были у классицистов соответственно ближе друг к другу, чем произведения разных жанров у одного и того же автора. В изобразительном искусстве классицисты рисовали самих себя на полотне как людей лишь определенного цеха, романтики же - уже как
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Свифт и другие сатирики
А. А. ЕлистратоваОгромное литературное наследие Джонатана Свифта (1667-1745), состоящее из множества прозаических и стихотворных сатир, памф
- Последняя повесть Лермонтова
В. Э. ВацуроТворческий путь Лермонтова-прозаика обрывается произведением неожиданным и странным - не то пародией, не то мистической гофм
- Гончаров
- Гоголь
Ю. В. МаннВ направлении от предромантических и романтических форм к реализму развивалось и творчество Николая Васильевича Гоголя (1809-1852)
- История зарубежной литературы
Научные и художественные ценности, накопленные человечеством за 2000 лет, огромны. Культура Древней Греции – создание ее мыслителей, поэт
- Польская литература нового времени
- Персидская литература
Л. Жирков Литература эпохи феодализмаСобственно П. л. называется литература, существующая с IX в. нашей эры до наших дней, написанная на пе
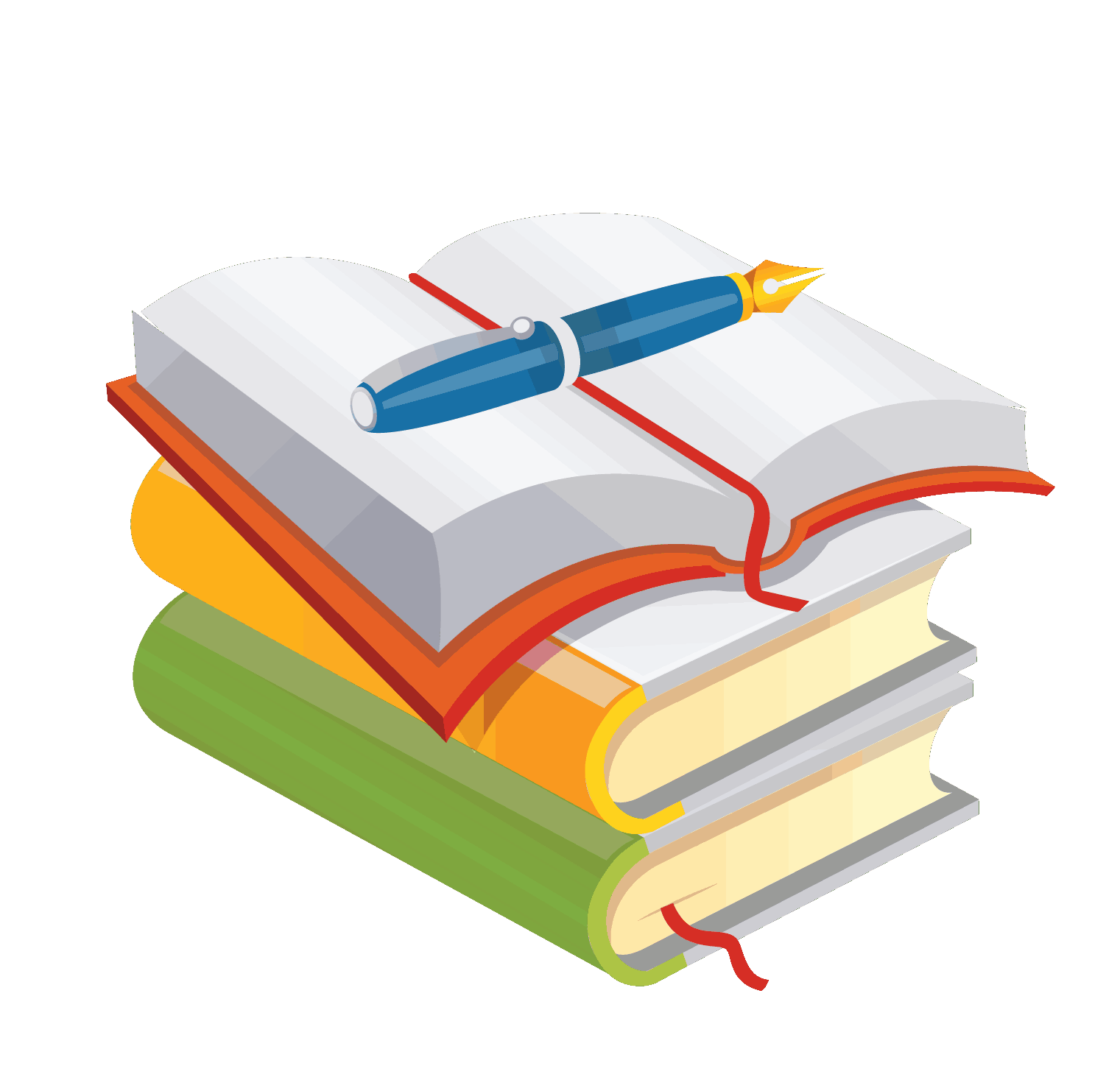 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.