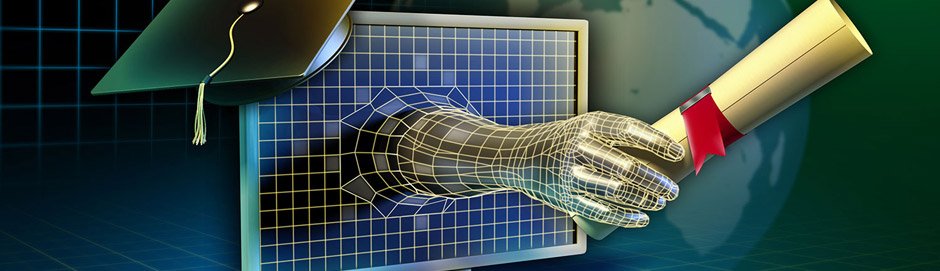Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ярославский Государственный Педагогический Университет имени К.Д.Ушинского
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине:Философия
По теме:
Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека
Выполнила:
Студентка заочного отделения
ИПП ЯГПУ Группа СП3-93А
Шифр СП-0256
Ерохина ЕкатеринаМихайловна
Проверила:ассистент
Емельянова Мария Сергеевна
Ярославль,2009
Содержание
1. Нравственная и философская неизбывность проблемы смысла жизни
2. Философия и наука о смерти и бессмертии человека
3. Танатология – медицинские и философские аспекты
Список использованной литературы
1. Нравственная и философская неизбывность проблемы смысла жизни
Проблема смерти и бессмертия столь же древняя, как и само человечество. Люди с давних пор задумывались о смерти. Постепенно отдельные измышления становились родовыми и племенными верованиями, а позже становились и мировыми религиями. Кто-то верит, что душа после смерти попадает в рай или в ад, кто-то в то, что она переселяется в других людей или животных, а кто-то уверен, что духи предков живут в деревьях… Большинство людей не хотят мириться с тем, что после физической смерти от человека ничего не остается, хотя есть и такие. Почти во всех религиях и философских измышлениях содержится идея о том, что по жизни земной будет и жизнь загробная. Поэтому следует прожить ее как можно благодетельнее. В связи с этим возникает проблема смысла жизни, ее содержания. Что есть суть хорошо? И что есть плохо? Жизнь конечна, что будет после нее, а жить нужно здесь и сейчас.
Имея в виду так называемые «вечные» философские проблемы, Бертран Рассел назвал в числе других следующие: «Является ли человек тем, чем он кажется астроному, - крошечным комочком смеси углерода и воды, бессильно копошащимся на маленькой и второстепенной планете? Или же человек является тем, чем он представлялся Гамлету? А может быть, он является и тем и другим одновременно? Существуют ли возвышенный и низменный образы жизни, или же все образы жизни являются только тщетой? Если же существует образ жизни, который является возвышенным, то в чем он состоит и как мы можем его достичь? Нужно ли добру быть вечным, чтобы заслуживать высокой оценки, или же к добру нужно стремиться, даже если вселенная неотвратимо движется к гибели?»(1)1 все эти вопросы, как видим, отчетливо располагаются вокруг одной оси – смысла человеческой жизни.
Когда же человек-практик стал задумываться над этой проблемой, отрефлексированной затем философией? Очевидно, сначала должен был совершиться выход за пределы «первой программы» – программы удовлетворения минимальных (в основном физиологических) потребностей, должны были появиться потребности, а вместе с ними и ценности более высокого, духовного порядка. Ибо вопрос о смысле и образе жизни – это прежде всего вопрос о наших ценностных предпочтениях, о субординации ценностей материальных и духовных. Так зародилась аксиология – социально-философское учение о природе ценностей, их месте в жизни общества и личности.
Вопрос о жизненных ценностях и о самом смысле жизни никогда так остро не стоял перед человечеством в целом, перед каждым мыслящим индивидом, как сегодня. И, пожалуй, никогда ранее мы не ощущали так зримо в духовной атмосфере общества чувство утраты смысла жизни. Называя эту утрату «экзистенциальным вакуумом», всемирно известный специалист по проблемам психологии личности Виктор Франкл (Австрия) пишет(2)2: «Когда меня спрашивают, как я объясняю причины, порождающие этот экзистенциальный вакуум, я обычно использую следующую краткую формулу: и в отличие от животных инстинкты не диктуют человеку, что ему нужно, и в отличие от человека вчерашнего дня традиции не диктуют сегодняшнему человеку, что ему должно. Не зная ни того, что ему нужно, ни того, что он должен, человек, похоже, утратил ясное представление о том, чего же он хочет. В итоге он либо хочет того же, чего и другие (конформизм), либо делает то, что другие хотят от него (тоталитаризм)».
Вообще в истории социально-философской мысли, начиная с античной, прослеживаются две диаметрально противоположные концепции смысла человеческой жизни с точки зрения тех целей, которые ставит перед собой человек. Лаконично эта противоположность традиционно формулируется так: «иметь или быть?» оставляя за собой право вернуться позднее к субъективной стороне проблемы (насколько свободен индивид в выборе своей смысло-жизненной позиции?), отметим лишь, что само появление каждой из этих концепций, а тем более их массовидная распространенность в том или ином обществе, в ту или иную эпоху имеют зримые социальные, в том числе не в последнюю очередь экономические корни. Исторический опыт показывает, что в зависимости от характера общества в нем превалирует та или иная ценностная установка.
Разумеется, ни одна из этих установок не могла возникнуть в классическом первобытном обществе. Первая («иметь») – потому, что индивид не представлял собой собственника: таковым являлась община в целом; прежде же чем возникла вторая («быть») – у человека должны были появиться хотя бы в зародыше духовные потребности.
Концепция «имения», «обладания» могла появиться только с появлением частной собственности, сама природа обладания вытекает из природы именно этого типа собственности. Обладание есть «палка о двух концах». С одной стороны, я – в порядке самооценки – и общество оценивают меня в зависимости от того, чем и в каком количестве я обладаю. Это для меня важнее всего, и я готов употребить любые усилия для возвышения собственного статуса обладателя, становлюсь одержимым. Характерно, что такая жизненная позиция не одобряется как светским гуманизмом, так и религиозными учениями. В буддизме этот способ поведения описан как «ненасытность», а иудаизм и христианство называют его «алчностью». Но у обладания есть и другая сторона. В порядке обратной связи принадлежащие мне вещи обладают мной, а они зачастую еще менее вечны, чем я, и их поломка, утрата и т.д. губительно сказываются на моем здоровье, прежде всего – психическом.
И здесь невольно вспоминается психоанализ З.Фрейда, в котором прослеживается символическая связь между деньгами и фекалиями – золотом и грязью – и вводится понятие «анального характера», при котором жизненная энергия человека направлена в основном на обладание. Анальный же характер, по Фрейду, есть характер, застывший в своем развитии и не достигший полной зрелости. Рассматривая эти взгляды, Э.Фромм заключает: «Важно, что Фрейд считал, что превалирующая ориентация на собственность возникает в период, предшествующий достижению полной зрелости, и является патологической в том случае, если она остается постоянной. Иными словами, для Фрейда личность, ориентированная в своих интересах исключительно на обладание и владение, – это невротическая, больная личность; следовательно, из этого можно сделать вывод, что общество, в котором большинство его членов обладают анальным характером, является больным обществом».(3)
Тема «больное общество» применительно к современности имеет множество аспектов (нравственный, геополитический, экономический и т.д.) и в силу этого архисложна и требует специального, самостоятельного освещения. В какой-то степени это будет сделано в последующих главах. Сейчас же укажем на один из них, экономический, и сошлемся на мнение А.Печчеи, крупнейшего теоретика Римского клуба, который с горечью констатировал, что человек, обладая способностью производить множество
вещей, употребился Гаргантюа, «развил в себе ненасытный аппетит к потреблению и обладанию, производя все больше и больше, вовлекая себя в порочный круг роста, которому не видно конца».(4)2 В этом, очевидно, и кроется основная, если можно так выразиться, индивидуализированная причина переживаемого современным человечеством экологического кризиса.
Теперь обратимся к оппонирующей смысло-жизненной концепции – «быть». Быть – это значит реализовывать для себя более высокую, чем обладание вещами, людьми, властью, программу жизнедеятельности, такую программу, которая отвечала бы духовным потребностям человека, его истинной сути. Выше мы говорили о социальных корнях установки на обладание. Есть у нее и биологически детерминированные корни: принцип обладания потенциально заложен в инстинкте самосохранения. Вытекает ли из этого фатальная неизбежность преобладания в обществе концепции «иметь»? однако нет, ибо эгоизму и лености противостоят такие сугубо человеческие качества, как потребность в преодолении своего одиночества и общении с другими людьми; потребность в самореализации, в том числе в реализации своих духовных способностей; потребность в социальной активности, готовность жертвовать собой (не говоря уже о собственности) во имя общественных интересов. Эти качества не имеют рельефно выраженных аналогов в природе, они благоприобретены человеком, творящим своей деятельностью историю.
Таким образом, в каждом человеке, поскольку он существо биосоциальное, существуют в изначальном виде оба стремления (и «быть», и «иметь»). Какое же из этих двух стремлений возьмет верх, определяется не только индивидуальными биопсихическими особенностями и спецификой непосредственного социального окружения (семья, приятельское окружение и т.д.), но прежде всего господствующими в данном обществе моральными нормами и ценностными установками, его общей культурой.
Конечно, пропагандируя установку на бытие, достойное человека, ни философия, ни религия (за исключением некоторых сект) не призывают к полному отрешению от земных благ и удовольствий, к аскетизму и альтруизму, то есть абсолютному забвению своего собственного «я». Никогда не призывал к этому и марксизм. «Мы вовсе не хотим разрушить подлинно человеческую жизнь со всеми ее условиями и потребностями,– писал молодой Ф.Энгельс, – наоборот, мы всячески стремимся создать ее».(5)
Между «быть» и «иметь» по сути дела нет антагонистического противоречия. Ведь для того, чтобы «быть», реализовывать лучшие человеческие качества, необходимо иметь определенное количество материальных благ в довольно широком наборе: это и еда, одежда, обувь, жилище, топливо; это и средства производства для обеспечения ими; это и такой способ потребления материальных благ, который не унижал бы человеческое достоинство, а, наоборот, всячески поддерживал бы его. Многочисленные воспоминания очевидцев свидетельствуют, что деградация и распад личности узников в нацистских концлагерях осуществлялся не только посредством голодных пайков, искусственно создаваемой жажды, но и самими способами, которыми заставляли человека доставать и потреблять эти блага (отбирать у более слабых, пить из луж и т.п.). Установка «быть» не может в сколько-нибудь значительной мере и массовом масштабе реализовываться и люмпенами – людьми, опустившимися на социальное дно в силу различных причин общественного и личного свойства.
Речь, следовательно, должна идти не об отказе от материальных благ, а о таком оптимальном сочетании двух смысложизненных установок, при котором приоритет остается за ориентацией на воплощение лучших человеческих качеств. При этом человек рассматривает вещи не как предмет поклонения, а как своих слуг, помощников, позволяющих ему сберегать свое время, экономить силы для творческой жизни и быстро восстанавливать их. Однажды (а это было в 20-е годы, когда вопрос о новом образе жизни стоял особенно остро) Владимира Маяковского спросили, как он относится к ношению галстука. «Видите ли, – ответил поэт, – все зависит от того, что к чему привязывается: галстук к человеку или человек к галстуку». Вряд ли можно более точно решить дилемму «иметь или быть».
Выход этой дилеммы в сферу реальных собственнических и распределительных отношений приобретает явное политическое и экономическое звучание. Могу ли я, приверженец установки «быть», во имя торжества принципов справедливости и абсолютного равенства требовать экспроприации «излишней» (по сравнению с моей) собственности у верующих в иной смысл жизни? Не будет ли это выражением заурядной черной зависти, то есть такого феномена, который в гуманистическую концепцию «быть человеком» никак не вписывается. Зато он органически вписывается в то видение коммунизма, которое требует полного уравнивания в распределении материальных благ и которое Маркс назвал «грубым», «казарменным» коммунизмом, «отрицающим повсюду личность человека».(6)
Человек, как мы признали, не пассивное существо, не марионетка, которую объективные социальные условия дергают за веревки и заставляют совершать жестко фиксированные движения. В связи с этим перед ним и перед размышляющим о нем философом обязательно встает проблема выбора. Проблемой этой занимались многие философы, но, пожалуй, более всего она оказалась разработанной экзистенциалистами (М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, А.Камю и др.)
К такому повышенному интересу экзистенциалистов обязывает сама суть их философской парадигмы, исходящей из вечного, неизбывного антагонизма между личностью и обществом, усугубленного в ХХ веке «Закатом человечества»(7)и мировой цивилизации в целом. Но, восприняв от О.Шпенглера его исторический пессимизм, экзистенциалисты выступили с протестом против его фатализма, требовавшего от человека подчинения неотвратимой перспективе заката цивилизации. Экзистенциалисты оставили человеку выбор, высветив тем самым гуманистическую направленность своих философских установок.
Это сделал уже К.Ясперс в «Духовной ситуации эпохи» (1931). Нарисовав картину неотвратимого вырождения общества в «тотальный массовый порядок», предотвратив о невозможности предупреждения этого процесса, поставив вопрос о том, «как жить в нем» (таком обществе), К.Ясперс заключает: «Человек, который хочет не только просто существовать, решает, какой порядок будет избран и утвержден; в противном случае человек полностью отдается во власть существования и подчиняется его решениям».(8) С ним полностью согласен Сартр: ход вещей кажется фатально неотвратимым лишь тому, кто капитулировал перед миром, предал свои убеждения. «Ни одно общественное явление, возникшее внезапно и увлекшее меня, – разъяснят Сартр, – не приходит извне: если я мобилизован на войну, это есть моя война, я виновен в ней, я ее заслуживаю.
Я ее заслуживаю прежде всего потому, что я мог уклониться от нее – стать дезертиром или покончить с собой. Раз я этого не сделал, значит, я ее выбрал, стал ее соучастником».
И Сартр с основанием заявляет, что «это гуманизм, поскольку мы напоминаем человеку, что нет другого законодателя, кроме него самого, в заброшенности он будет решать свою судьбу; поскольку мы показываем, что реализовать себя по-человечески человек может не путем погружения в самого себя, но в поиске цели вовне, которой может быть освобождение или еще какое-нибудь конкретное самоосуществление».(9) Выбор у Сартра неотделим от ответственности: я ответственен за себя самого и за всех и создаю определенный образ человека, который выбираю; выбирая себя, я выбираю человека вообще.
Человек должен следовать своей цели, даже если она оказывается неосуществимой, даже (и тем более) в «пограничной» со смертью ситуации, «пограничной» для отдельного индивида и для человечества в целом. Его деятельностный акт может быть экстатическим, как у Хайдеггера, может быть авантюристическим (по Сартру), но он все равно должен осуществляться. Более того, Сартр объявляет безрассудство «праздником существования», поскольку-де именно в нем реализуется необусловленный никакими историческими ситуациями жизненный проект индивида.
Вот тут-то и обнаруживается слабая сторона экзистенциализма. Его человек абсолютно свободен, и если свобода, как таковая, позволяет человеку быть личностью, осуществлять выбор и нести ответственность за него, то ее абсолютность начисто элиминирует человека из той сети социальных, биологических, психологических закономерностей, в которую он реально вписан. Экзистенциалистам представляется, что в этом отрыве свободы от необходимости и закономерности заключена сила их концепции, в действительности же все обстоит иначе: человек остается жалким, затравленным одиночкой, могущим рассчитывать только на выражение своей позиции по отношению к социальной среде, но отнюдь не на ее оптимизацию.
В свете этого становится понятным, почему такое большое место в философии экзистенциализма занимает анализ «страха», «тоски», «тревоги», «заброшенности», не говоря уже о проблеме смерти. Повернув внимание современной культуры к проблеме смерти, экзистенциалисты вновь проявили себя как гуманисты, ибо то, что волнует индивида и человечество в целом (тем более в наш жестокий век), не может не волновать философа. Но в решении этой проблемы вновь ощущается бессилие экзистенциалистского человека, который уж очень часто задумывается о самоубийстве. И если А.Камю в «Мифе о Сизифе» осуждает самоубийство, то многие другие экзистенциалисты именно в этом акте видят наиболее достойный человека способ уйти из этого бренного мира.
Очевидно, что во многом ценные, но во многом и не бесспорные суждения экзистенциализма должны быть дополнены чем-то еще, а именно пониманием того, каким образом человек, наделенный правом выбора и долгом ответственности, может повлиять на сложившуюся историческую ситуацию. И здесь встает вопрос: как сопрягается сознательная деятельность человека с объективной реальностью и ее законами?
2. Философия и наука о смерти и бессмертии человека
В науке долгое время широкое распространение имело дуалистическое представление о сознании и мозге. Сознание рассматривалось как нечто надфизическое, лежащее поверх мозга или в его «порах», подобно туману над поверхностью земли или меду в сотах. Сознание мыслилось как некое активное существо, пользующееся мозгом как орудием для реализации своих целей. Оно как бы персонифицировалось и мыслилось как человек в человеке. Считалось, что между духовно-идеальным и материальным лежит пропасть, для преодоления которой у нас нет ни моста, ни крыльев(10).
Мысль неотделима от мыслящей материи и является ее продуктом. Если это так, то не есть ли она разновидность материи? Именно так полагали вульгарные материалисты (Л. Бюхнер, О. Фогг, М. Молешотт). Они считали, будто мысль находится примерно в таком же отношении к мозгу, как желчь к печени. Сведение сознания к физическим реакциям организма характерно и для такого направления в психологии, как бихевиоризм (Р. Уотсон)(11).
И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.Е. Введенский, А.А. Ухтомский и их последователи раскрыли рефлекторную природу психофизиологических процессов и дали возможность понять психику как систему активной деятельности, которая развивается под влиянием внешнего мира. Рефлекторный процесс начинается с восприятия раздражителя, продолжается нервными процессами корм мозга и заканчивается ответной деятельностью организма. Понятие рефлекса отражает взаимосвязь и взаимодействие организма с внешним миром, причинную зависимость работы мозга от объективного мира через посредство практических действий организма. Существенной функцией условного рефлекса является «предупредительность», или «сигнализация» о предстоящих событиях внешнего мира. У человека временные связи образуются от воздействия как реальных предметов окружающего мира, так и словесных раздражителей. Роль нервных мозговых механизмов заключается, прежде всего, в анализе и синтезе раздражений.
Воздействие того или иного условного раздражителя, попадая в кору мозга, включается в сложную систему образовавшихся в результате прошлого опыта связей. Поэтому поведение организма обусловлено не только данным воздействием, но и всей системой уже имеющихся связей.
Важным принципом осуществления рефлекторной деятельности мозга является принцип подкрепления: закрепляется та рефлекторная деятельность, которая подкрепляется достижением результата. Подкрепление рефлексов осуществляется эффектом самих действий с помощью механизма обратной связи: когда каким-либо рефлексом приводится в действие соответствующий эффекторный аппарат (мышцы, железы, целые системы органов), то импульсы, возникающие в нем вследствие его работы, возвращаются в центральное звено рефлекса. Они сигнализируют при этом не только о работе органа, но и о результатах этой работы, что дает возможность вносить коррективы в протекающее действие и добиваться адекватного выполнения намерения. Задача обратной связи состоит в том, чтобы постоянно ставить мозг в известность о происходящем в управляемой им системе. Невозможность вовремя координировать и контролировать движение так же пагубна для организма, как и паралич. Без физиологических, биофизических, биоэлектрических, биохимических, биополевых процессов в мозгу невозможно возникновение ни одного ощущения, ни одного самого примитивного чувства и побуждения. Все эти процессы — необходимые механизмы психической деятельности. Но психическая деятельность характеризуется не только ее физиологическим механизмом, но и ее содержанием, т.е. тем, что именно отражается мозгом в реальной действительности. Отражение вещей, их свойств и отношений в мозгу, разумеется, не означает их перемещения в мозг или образования их физических отпечатков в нем наподобие отпечатков на воске. Когда я вижу березу, то в моем мозгу нет ни самой березы, ни ее физического отпечатка. Мозг не деформируется, не синеет, не холодеет, когда на него оказывают воздействие твердые, синие и холодные предметы. Переживаемый мной образ внешней вещи есть нечто субъективное, идеальное, духовное; он несводим ни к самому объекту, находящемуся вне меня, ни к тем физиологическим процессам, которые происходят в мозгу и порождают этот образ: образ огня не жжет, а образ камня лишен веса и твердости. Известно также, что «духовный мир» человека, т.е. его душу, нельзя ни осязать, ![]() ни обнаружить физическими приборами или химическими реактивами. Ни одному нейрохирургу еще не удалось с помощью скальпеля извлечь из вещества мозга ни одной самой захудалой мыслишки. Физиологическими исследованиями, а тем более техническими средствами можно лишь фиксировать распределение нервных процессов, а не содержание, которое в них зашифровано. В коре мозга мы находим не мысли, а лишь серое вещество. Сознание — субъективный образ объективного мира. Субъективность образа — не произвольное привнесение чего-то от субъекта. Будучи отражением действительности, образ не существует и не может существовать вне конкретно-исторической личности со всеми индивидуальными особенностями. Он зависит от развития нервной системы и мозга, от состояния организма в целом, от богатства или бедности практического опыта людей, от уровня исторического развития знаний человечества.
ни обнаружить физическими приборами или химическими реактивами. Ни одному нейрохирургу еще не удалось с помощью скальпеля извлечь из вещества мозга ни одной самой захудалой мыслишки. Физиологическими исследованиями, а тем более техническими средствами можно лишь фиксировать распределение нервных процессов, а не содержание, которое в них зашифровано. В коре мозга мы находим не мысли, а лишь серое вещество. Сознание — субъективный образ объективного мира. Субъективность образа — не произвольное привнесение чего-то от субъекта. Будучи отражением действительности, образ не существует и не может существовать вне конкретно-исторической личности со всеми индивидуальными особенностями. Он зависит от развития нервной системы и мозга, от состояния организма в целом, от богатства или бедности практического опыта людей, от уровня исторического развития знаний человечества.
Когда мы говорим, что содержание наших ощущений и восприятий объективно, то мы имеем в виду, что это содержание более и менее верно отражает предмет. Мысль об объекте никогда не исчерпывает всего богатства его свойств и отношений с другими объектами: оригинал богаче своей копии. Когда же мы говорим о субъективности образа, то имеем в виду прежде всего не искажение действительности, а то, что этот образ есть нечто идеальное. Понятно, что мысль о предмете (скажем, о 100 руб.) и предмет мысли (сами 100 руб.) — не одно и то же. «Вещь» в голове — это образ, а реальная вещь — это ее прообраз. Субъективность образа, за исключением случаев патологии, обмана и заблуждений, не является свидетельством слабости человеческого сознания. Именно это обеспечивает возможность познания человеком объективного мира. Если бы образ предмета не был субъективным, а был бы его материальным отражением, то никакое познание не было бы возможным.
Образы вещей могут быть чувственными, наглядными (например, визуально сходными со своими оригиналами), но могут быть и понятийными, так что сходство носит уже не внешний, а ни внутренний характер (сходство по содержанию, по типу связи компонентов). Идеальность образа состоит лишь в том, что он несводим ни к определенным внешним объектам, ни к материальным физиологическим процессам в мозгу. Последние строят образ, но не являются им. Физиологические процессы головного мозга выступают как носители идеального содержания лишь в том случае, когда их результат соотносится человеком с объектом отражения. Именно отнесенность мозговых процессов к объективному миру и делает эти процессы психическими, идеальными. Если в голове возникла мысль, то она обязательно есть мысль о чем-то. Мысли ни о чем в принципе быть не может. То, что в нашем сознании имеется содержание, не соответствующее оригиналу или даже вообще не имеющее никакого оригинала, совсем не означает, что может вдруг всплыть беспредметная мысль. Грезы и даже бред больного заимствуют свое призрачное содержание у реальности. Идеальное — это данность объекта субъекту. И подавляющее большинство людей осознает вещи, себя, свои мысли, абсолютно не подозревая, что творится в самом мозгу. И это потому, что человеку (да и животному) даны не физиологические состояния его мозга, а внешний мир — объект. Иначе, как отметил еще Л. Фейербах, кошка бросалась бы не на мышь, а царапала бы когтями ими собственные глаза.
Различие между материальным и идеальным выражается и в том, что законы мышления не совпадают с законами тех физических, химических и физиологических процессов, которые происходят в это время и в этой связи в мозгу и которые составляют материальную основу сознания. Далее, одни и те же физиологические механизмы осуществляют не только разные, но и прямо противоположные мысли. Логические связи мыслей моделируются на мощных компьютерах, а состав физиологических процессов – нет.
В пределах теории познания мысль, сознание, идеальное противоположны материальному, а за этими пределами их нельзя противопоставлять как абсолютные противоположности. Почему? Дело в том, что мысль принадлежит не какому-то потустороннему миру, а миру реальному, она не какое-то сверхъестественное начало, а естественная функция мозга и она неотторжима от него. Мысль, идея не имеют самостоятельного физического существования.
Чувственные образы, существуя у нас в голове, осознаются нами как существующие вне нас. Эта способность объективации, «переноса» возникла в результате длительной эволюции. «Перенос» наших образов вовне есть не что иное, как соотнесение этих образов с тем местом, с той обстановкой, с теми предметами, которые были отражены в нашем мозгу(12).
Сознание существует не только как нечто принадлежащее данному субъекту, но и в виде форм общественного сознания, заимствованных средствами языка. Например, система научного знания существует независимо от субъективных представлений отдельных индивидов. Исторически выработанные знания приобретают, таким образом, относительно самостоятельный характер. Нельзя отрицать реальности сознания: душа — это особая форма бытия сущего. Такой реальностью является и вся духовная культура общества и внутренний духовный мир каждого человека. Мысль действительна. Но ее действительность идеальна. Для всякого другого человека мое сознание существует как реальность, которую он воспринимает через чувственные формы ее обнаружения: поступки, слова, жесты, мимику.
Сознание характеризуется активным отношением к внешнему миру, к самому себе, к деятельности, направленной на достижение заранее поставленных целей. Психика не только человека, но и животных обладает поразительной активностью. Ни одни существо не живет «на поводу» у сигналов-раздражителей. Оно само активно ищет то, что ему нужно, выбирает, изучает внешний мир. Вместо того чтобы пассивно идти по пути случайных проб и столь же случайных удач и неудач, оно ведет активный поиск. Предпринимая то или иное действие, например поиск пищи, живое существо, очевидно, заранее намечает для себя план этого действия и, производя его, оно, сообразуется с внешними сигналами. В теории автоматики рефлексоподобное поведение под управлением точных сигналов называется действием на полной информации. Но в реальной действительности живому существу некогда ждать или добиваться полной информации о состоянии окружающего мира. Пока оно перебирало бы эту информацию целиком, его мог бы успеть схватить хищник, засосать болото, сбить несущаяся лавина или машина. Живя в условиях своего рода «жизненного цейтнота», живое существо должно активно и целенаправленно избирать нужную ему информацию, отбрасывая все то, чем можно пренебречь(13). Это особенно характерно для человека.
Человек, мозг которого являет собой управляющую систему высокой степени сложности, устроен так, чтобы не только получать, хранить и перерабатывать информацию, но и формулировать план действий и осуществлять активное, творческое управление действиями.
Человек имеет возможность логически связывать и развивать в своем сознании мысли таким образом, что они оказываются не просто копией воспринимаемых объектов и их связей, а творчески преобразованным отражением, в котором мысль предвосхищает естественный ход событий. И в этом смысле сознание может отрываться от непосредственного отражения действительности. Такое отражение, если оно соответствует закономерностям реального мира, является субъективной предпосылкой преобразующей практической деятельности человека.
Разум человеческий, по словам Г. Гегеля, не только могуществен, но и хитер. Его хитрость состоит в том, что человек с помощью технических изобретений заставляет предметы природы взаимодействовать, осуществляя при этом свою собственную цель. Силы природы он превращает в средства реализации своей цели. Человек создает то, что природа до него не производила. Ведь природа не строит машин, самолетов и т.д. Все это овеществленные результаты знания. Преобразованные человеком вещи, их конструкция, масштабы, формы и свойства продиктованы потребностями людей, их целями: в них воплощены идеи людей. Именно в творческой и регулирующей деятельности, направленной на преобразование мира и подчинение его интересам человека, общества, состоит основной жизненный смысл и историческая необходимость развития сознания. Конечная цель человека заключается не в знании самом по себе, не в приспособлении к действительности, а в преобразующем мир практическом действии, по отношению к которому знание выступает в качестве необходимого средства. Это совсем не означает, будто человеческий ум творит из себя: все элементы мысленно творимого заимствуются из наличного бытия. Суверенитет разума состоит не в его способности создавать произвольные мысленные конструкции, а в способности прежде всего правильно отражать существующее, предвидеть будущее и на основе отражения, через практическую деятельность творить мир. Когда говорят о творчестве, то зачастую имеют в виду гениальные произведения искусства, литературы, открытия в науке и изобретения в технике. Между тем творчество — это свойство сознания вообще. Вся история развития человечества связана с такой деятельностью людей, которая дает новые результаты, имеющие общественное значение. А это и есть творчество.
Для понимания души важным является следующее определение идеальности: идеальное есть нечто противоположное материальному, но такое, которое в то же время сохраняет вечное единство с ним. Когда мы говорим, что душа имматериальна, т.е. нечто идеальное, мы имеем в виду ее смысловую сущность во всем составе ее компонентов — сознании, самосознании, чувствах, воли, разума, памяти и т.п., но для понимания сути дела мы допускаем условную аналогию между душой и словом. Можно ли слово мыслить лишь в чистом виде смысла? Смысл слова немыслим вне своей материальной оболочки знака – в виде потоков членораздельных звуков или различного рода начертаний в письменной речи. Нам представляется, что и душа, будучи связанной с деятельностью человеческого мозга, имеет вместе с тем и свое специфическое материальное облачение в тончайшую «ткань» биополя, ауры, что придает ей относительно самостоятельное бытие, на чем издревле строится допущение бессмертия души. Можно, видимо, мыслить ауру как некое подобие эфира — этого тончайшего вида материи. Идея эфира, возникнув в древние времена, сохраняет свой неистребимый характер по сию пору.
Мы подходим к человеку с четырьмя разными его измерениями: биологическим, психическим, социальным и космическим. Биологическое выражается в анатомофизиологических, генетических явлениях, также в нервно-мозговых, электрохимических и некоторых других процессах человеческого организма. Под психическим понимается внутренний душевно-духовный мир человека — его сознательные и бессознательные процессы, воля, переживания, память, характер, темперамент и т.д. Но ни один аспект в отдельности не раскрывает феномен человека в его целостности. Человек, говорим мы, есть разумное существо. Что же в таком случае представляет его мышление: подчиняется ли оно лишь биологическим закономерностям или только социальным? Любой категорический ответ был бы явным упрощением: человеческое мышление являет собой сложноорганизованный биопсихосоциальный феномен, материальный субстрат которого, конечно, поддается биологическому измерению (точнее, физиологическому), но его содержание, конкретная наполненность — это уже безусловное взаимопереплетение психического и социального, причем такое, в котором социальное, опосредствуясь эмоционально-интеллектуально-волевой сферой, выступает как психическое.
Социальное и биологическое, существующие в нераздельном единстве в человеке, в абстракции фиксируют лишь крайние полюсы в многообразии человеческих свойств и действий. Так, если идти в анализе человека к биологическому полюсу, мы «спустимся» на уровень существования его организменных (биофизических, физиологических) закономерностей, ориентированных на саморегуляцию вещественно-энергетических процессов как устойчивой динамической системы, стремящейся к сохранению своей целостности.
Психологическая наука дает богатый экспериментальный материал, свидетельствующий о том, что лишь в условиях нормального человеческого общества возможны существование и развитие нормальной человеческой психики и что, напротив, отсутствие общения, изоляция индивида ведет к нарушениям состояния его сознания, а также эмоционально-волевой сферы. Таким образом, идея человека предполагает другого человека или, точнее, других людей.
Ребенок появляется на свет уже со всем анатомофизиологическим богатством, накопленным человечеством за прошедшие тысячелетия. Но ребенок, не впитавший в себя культуры общества, оказывается самым неприспособленным к жизни из всех живых существ. Известны случаи, когда в силу несчастных обстоятельств совсем маленькие дети попадали к животным. И что же? Они не овладели ни прямой походкой, ни членораздельной речью, а произносимые ими звуки походили на звуки тех животных, среди которых они жили. Их мышление оказалось столь примитивным, что о нем можно говорить лишь с известной долей условности. Это яркий пример того, что человек в собственном смысле слова есть существо социальное.
Сущность человека не абстрактна, а конкретно-исторична, т.е. содержание ее, оставаясь в принципе социальным, изменяется в зависимости от конкретного содержания эпохи, социально-куль![]()
![]() турного и культурно-бытового контекста и т.д. Одн
турного и культурно-бытового контекста и т.д. Одн
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Проблема индивидуального и надиндивидуального сознания в философии
Самое замечательное из известных нам событий космической истории после Большого взрыва – это зарождение сознания. Таким образом, всел
- Понимающий метод философии как метод познания другого
Человек посредством философствования пытается решить свои собственные проблемы и предложить свое решение другим людям. Философия не
- Творчество Г.Лейбница
Жизнь и труды ЛейбницаФилософия ЛейбницаОсновные работыУчение ЛейбницаОб античной философииТеория познанияО недостатках механицизм
- Теория аргументации
Контрольная работаПо предмету «ЛОГИКА»Содержание1. Теоретический вопрос. Теория аргументации1.1 Абсолютное и сравнительное обоснован
- Теория и практика спора
Многие ученые, политики и писатели современности считают, что информация имеет настолько большое значение, что ее можно использовать и
- Теория истины
Реферат«Теория истины»1. Что есть истина?В процессе познания человек не только формирует знание, но и оценивает его. Знание может оцен
- Теория о Высшем Разуме
«Эволюция форм вещества в нашей Солнечной системе и на нашей планете».Современной наукой пока установлены следующие шесть форм вещест
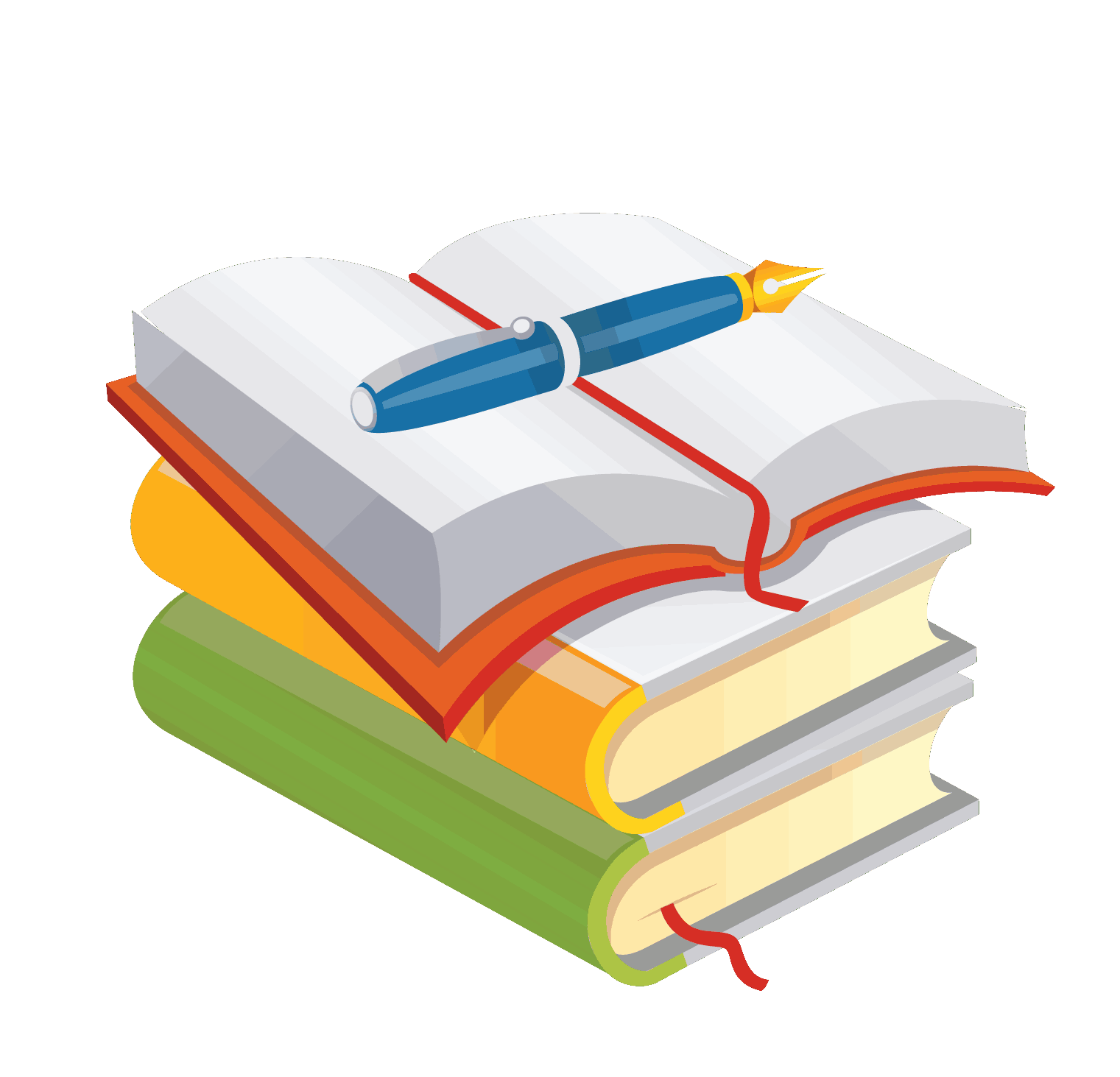 referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.
referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.